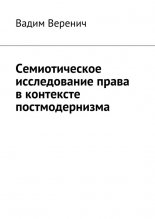Аллергия Александра Петровича Гареев Зуфар

Дрожь бросилась АП в зубы.
Он, осторожно ступая, прокрался к изголовью Ефтеева и потянул рукав.
– Положи на место, – отчетливо сказал Ефтеев. И с губ его, со щек его сизых облетела пудра.
– Что же вы самочинно, Федор Иваныч, – жалобно сказал АП, – я на учете у вас в профсоюзах не состоял, кажется…
– У нас вся планета на учете состоит…
– Не имеет права… – жалобно сказал АП и осекся.
Глаз Ефтеева медленно открылся, походил туда-сюда и остановился на Александре Петровиче. И стал медленно, как это делает трясина, втягивать АП в себя. На мгновение АП даже потерял сознание, тронулся в путь, и уже сизая пудра приветливо летела на его лицо…
Как вдруг дверь с треском распахнулась и явилась Клевретова.
Ефтеев закричал:
– Живо за АП, – ибо убегает он!
– Есть! – закричала кубышка Клевретова и схватила ружо.
Она прошла квартала два-три, вышла на городской пустырь и, вглядываясь в золотой с малиновым и алым вечер, пересекла половину его.
Шаг Александра Петровича был легок, скор, пустырь бесконечен и светел. «Столь же пустынно и светло, – подумал АП, – в сердце моем; пригоршня праха – вот и все, что осталось у меня от странствия земного».
– Так нешто не стрелять мне в самое сердце твое? – спросила Клевретова как и в первый раз.
– Не стрелять, пулю зря не тратить. Нет у меня здесь сердца.
Клевретова зачехлила орудие убийства, пробормотав:
– Да какая там пуля? Не было отродясь там пули никакой. С пулей бы мне кто ружо доверил?
АП шел, прощально озираясь по золотой земле: нежно розовые до легкой сирени легкие гроты, охваченные золотой каймой, парили в небе над ним и ждали для бесед и тихих вечных слез сожаления…
Наклоняли и наклоняли они свои арочки над головушкой его, и все-то он, АП, понял наконец. Отчего это ему в земном странствии профсоюз и собрания врагами были. Почему не удалось в зданиях ему посидеть да службу-дружбу послужить. Под чаечек-кофеечек.
«Да, крепко я в жизни этой запутался… – подумал АП, совершенно, однако, без обиды. – Что-то не выберусь я из нее никак…»
Вот так подумал он и вздрогнул вдруг, он понял вдруг тайну этого золотого бесконечного света, разлитого по Земле. Он знал, что произойдет с ним теперь.
Одежда трухлявая слетела с него, обнажив тело его, – стройное, кстати сказать, без излишеств, – вспыхнула и исчезла.
А ступни его легко оторвались от земли, и какая-то сила подхватила его, понесла, опрокинув навзничь, и он медленно-медленно, вместе с гротами, поплыл по небу. Опрокинутыми вниз глазами он видел город, он видел высокие белые и розовые башни, подступившие прямо к небу.
Это было время, когда из открытых форточек башен летели ввысь слабые, нежные голоса женщин.
Они звали детей домой…
Да, это было время высоких небесных голосов, и каждый мальчик-сын на вечерней золотой земле был окликаем младенческим именем своим; и каждое имя это летело по небу сладко и печально, и хотелось плакать, встав на колени, молиться, слизывать слезы с губ, – и слышать, слышать, слышать младенческое имя свое…
И Александр Петрович услышал его.
Оно летело вместе с другими по небу в хоре имен, – оно приближалось, оно было рядом, оно искало его сердце.
– Сашенька-а-а-а! Саша!.. Са-а-а-ша!
И если бы у АП было тело, он бы упал, он бы сжался, он бы свернулся в комочек, он бы зажал уши, чтобы не слышать его.
– Саша-а!.. Сашенька-а-а!..
Потому что слышать его было невозможно. Потому что слишком много заключалось в нем, потому что бедное сердце его лопнуло бы от любви и от слез.
Но ни сердца, ни тела у АП уже не было.
– Сашенька! Иди домой Уже поздно, Саша…
И запах материнского тела, запахи губ, и легкие быстрые сны на заре жизни, и звонкие серебристые речки приблизились к АП, и стало ему хорошо и покойно.
И он понял, что с этой минуты он исчез навсегда: навсегда превратился в мальчика-сына; и до скончания веков ему слушать и слушать этот родной несмолкающий голос:
– Саша-а-а-а!..
И откликаться, и снова слышать, и откликаться, и снова слышать. И не умирать ни от боли, ни от любви.
Ведь он уже умер, а дважды умереть невозможно…