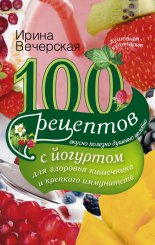Поднимите мне веки Елманов Валерий

А кто это произнес?
Неужто…
Шотландец поднял голову и, глядя прямо на меня, твердо повторил:
– Повинен смерти за расхищение государевой казны.
Странно, но обиды не было. Скорее удивление.
Зря ты так, парень. Тебе ж потом не отмыться, как бы ты себя ни убеждал, что ты прав.
И было еще одно чувство – облегчения.
Да-да, именно оно.
Признаться, мне до этого момента все равно было перед ним чуточку неловко. Вроде бы и царевна ему ничего не обещала, и отец ее видов на Дугласа никогда не имел, и я тоже не клялся, что между ними не встану, да и любви она, оказывается, к нему никогда не испытывала.
Помнится, когда рассказывала о мизинце, который сунула сквозь решетку, так с досадой добавила: «И губы у него какие-то мокрые. Весь перст обслюнявил».
Красноречивый штрих. О том, кто хотя бы нравится, так никогда не скажут.
И все же, и все же…
Нет, объективно рассуждая, понять Квентина я мог. Взыграло у парня ретивое, тем более что ревнив он до умопомрачения – помню. К тому же неизвестно, что ему наобещал Дмитрий. Наобещал и наговорил, в том числе про то, что якобы я потому и украл царевну, что имел на нее определенные виды.
Более того, кое в чем он был прав. Как ни крути, но я сорвался, ибо был больше не в силах держать себя в узде и таиться. Чего уж скрывать – все мое поведение на струге, начиная с первого вечера, пускай косвенно, но было направлено именно на…
Нет, я тогда еще пытался мысленно оправдаться тем, что раз мне поручили развлечь загрустившую царевну, то обязан постараться как следует. Только поэтому я и пою о любви, ведь всякие там мужественные песни о боях и сражениях – это не то, что ей нужно, да и нечестно получается – для ратников пожалуйста, а для нее…
Словом, уболтать себя у меня кое-как вышло, но в глубине души я чувствовал, что попросту вру себе, причем не особо стесняясь, то есть весьма грубо, а на самом деле…
Впрочем, понять – это одно, а вот простить… Как бы то ни было, с друзьями так, как Дуглас, все равно поступать нельзя.
Зато теперь у меня словно камень с души: раз – и отрезало. Квиты мы, так что прощай, друг – теперь уже, увы, бывший.
А князь Хворостинин хоть и не понял, в чем дело, зато почуял сразу. На лавке места в избытке, а он придвинулся аж вплотную к Басманову, отодвинувшись подальше от шотландца. Остается только возгордиться, что наши отечественные поэты оказались куда порядочнее иноземных.
Хоть и плохое утешение, но все лучше, чем никакое.
Ладно, раз тут все ясно, пришла пора призадуматься, как выбраться из этих застенков без посторонней помощи. Один раз у меня не вышло, но ведь и у Дмитрия тоже не вот вдруг получилось отправить меня на плаху, как хотелось, то есть чужими руками.
Лишь с третьей попытки он, после того как скажет слово до сих пор колеблющийся Басманов и счет станет три – один не в мою пользу, добьется желаемого и, более того, сможет себе позволить, как и обещал мне еще до начала судебного процесса, сдержать слово и милостиво отдать свой ничего не решающий голос в мою пользу.
Кстати, не знаю почему, но это обстоятельство мне показалось обиднее всего – переиграл он меня.
И еще я подосадовал, что несколько поторопился, запретив ратникам штурм башни. Глядишь, что и вышло бы, а я понадеялся, что сумею справиться сам, получалось же…
Хотя все правильно, не может мне везти всю жизнь. И без того выкручивался из таких ситуаций, что…
Но тут мои раздумья прервал Басманов:
– Невиновен он, государь.
Ба-а, Петр Федорович! Неужто жажда выдать племянницу за престолоблюстителя одолела даже опасение подвергнуться опале?!
– Как на духу скажу – мало я видался с князем Федором Константинычем, потому мыслю, поверишь мне, государь, что прямить[70] ему мне резону нет. Одно скажу. Чтоб жизнь свою положить за други своя, яко он поступил, ратников своих спасая, тут воеводой быть мало – тут надо душу в чистоте соблюсти.
Ой как приятно!
Понимаю, что твой голос, боярин, все равно уж ничего не решит, но тем он для меня еще ценнее.
Фетиньюшка, говоришь… Так-так… А что, хорошее имя. Опять же и девка справная, все при всем и даже, судя по утверждению Петра Федоровича, чуточку сверх того.
– Опять же и людишки его. Я вот не ведаю, кто из моих холопов, зная про дыбу, пошел бы в видоки за своего боярина, дабы выручить его из беды, а у него все разом подались, дружно. Не иначе как тоже чистоту эту почуяли.
– Не все, а десяток, – поправил, кисло морщась, Дмитрий.
– А из прочих тут в Москве никого и нет, – не согласился Басманов, – вот и выходит, что все.
– И опосля дыбы они то же в один голос сказывали? – уточнил Дмитрий.
Я представил Дубца и остальных висящими на дыбе, и меня сразу прошиб озноб. Я похолодел и затаил дыхание. Нет, я не боялся, что они что-то исказили. Будь так, и тут давно зачли бы слова тех, кто не выдержал диких пыток и произнес иное, повинуясь подсказкам палачей, но сам факт…
Басманов помедлил, но затем со вздохом ответил:
– А не было дыбы, государь. Я их так отпустил.
Фу-у-у! Ну, боярин! Ну, молодца!
И поверь, что за такое рано или поздно расплачусь с тобой сторицей. Такой должок, точнее должище, я никогда тебе не забуду.
– Не слишком ли ты добрый к холопам князя, кой в воровстве погряз? – с укоризной проворчал Дмитрий.
– К холопам… – усмехнулся Басманов. – Холопам бы я не спустил. Такую встряску учинил бы, что… Но тут ратники были, истинные воины. А я и сам воин, потому таковских мне терзать несподручно.
Ладно, пусть будет твоя Фетиньюшка невестой Феди, тем более, как ты говорил, девка статная и везде у нее оттопыривается. Кстати, помнится, и Ксения Борисовна тогда в возке тоже одобрила…
Одним словом…
И тут же спохватился – куда мне сейчас об этом. Всему свое время. Пока надо себя отстоять, а уж потом…
– И каждый не просто о бое том сказывал, но и наособицу норовил про своего князя доброе словцо сыскать, – счел нужным добавить Басманов. – Мол, ежели бы не песни его, нипочем бы им не выстоять.
– Так ты еще и гусляр? – протянул Дмитрий, кривя губы в ухмылке.
Я промолчал, неопределенно передернув плечами. Мол, какая сейчас разница, но он не унимался:
– Что же ты? Потешил бы меня хоть разок. Люблю я всяких сказителей слушать.
– Да и не стал бы он сдаваться, ежели бы вину за собой чуял, – добавил боярин и лукаво заметил: – Потому я и помыслил уравнять, чтоб теперь, коль голосов одинаково, пущай на все будет твоя царева воля. Ежели ты все-таки зришь за им вину, все равно твой голос главный, а коль помиловать надумаешь – тоже выйдет в твоей воле.
Браво!
Мысленно я аплодировал Петру Федоровичу. Вот оно, подлинное мастерство! И мне угодил, и на конфликт с Дмитрием не пошел, да еще ухитрился подать все так, словно сделал одолжение государю.
Дмитрий вновь встал со своего креслица и задумчиво прошелся по темнице. Остановившись подле меня, он, словно невзначай, якобы продолжая размышлять, рассеянно уставился на меня и еле слышно прошипел:
– Рано радуешься. Уж нынче я тебя с обрыва не отведу.
– Скорее уж столкнешь с него, – покладисто согласился я.
– Я считаю, что князь Мак-Альпин… – отчеканил Дмитрий и глубоко вздохнул, смакуя миг своего торжества, хотя и неполного – все-таки чужими руками у него так и не получилось, придется пачкать свои.
Я смотрел на него, понимая, что именно он сейчас произнесет, и недоумевая, почему он ничегошеньки не боится. Неужто зелье травницы не подействовало? Ах, Марья Петровна, Марья Петровна. Оплошала ты, милая, да как назло в таком деле, которое может мне стоить…
И вдруг вспышка озарения: «А если он еще не проверил себя? Он же вначале не поверил мне, а на проверку времени могло не быть, вот и держит себя как бойцовский петух, не ведая, что давно стал каплуном»[71].
И тут же в голову, после того как я почти дословно припомнил наш с ним разговор, пришло еще одно – он вообще меня неправильно понял. Я же как говорил?
«Оттого что князь Мак-Альпин не сможет произвести на свет потомство, особой беды не случится, спору нет. То, что престолоблюститель лишился детишек, – тоже не страшно. Но поверь, государь, что и тебе их теперь не видать…»
То есть даже если бы он принял мои слова на веру, то решил бы, что я обрек его на бесплодие. А в этом случае проверить истинность моего утверждения можно минимум через месячишко, а то и побольше, пока кто-нибудь не забеременеет.
Ну точно, он же мне так и сказал, что я этого не дождусь…
– Остановись, государь!
Дмитрий недоуменно посмотрел на меня и даже чуточку приподнялся на цыпочках – не иначе как решил, что я начну просить прощения в надежде на пощаду.
«А ведь стоило бы мне его попросить, и он бы меня помиловал», – глядя на него, понял я. Уж очень тем самым я потешил бы его самолюбие.
Ну что ж, может быть, как-нибудь в другой раз я тебя и… пожалею. Но не сейчас.
– Ты забыл перед вынесением приговора выслушать последнее слово обвиняемого, как это принято во всех европейских странах.
Дмитрий перевел взгляд на Бучинского. Тот охотно закивал: «Принято, принято. Везде, везде».
Не понравилось. Поворот в сторону Власьева. Надворный подскарбий тоже уверенно склонил голову в знак подтверждения.
А что скажет Квентин? Но тот задумался и, по-прежнему потупившись, смотрел куда-то вниз.
– Мы на Руси, – хмуро напомнил Дмитрий присутствующим, – но я всегда сказывал, что не след нам чураться хороших обычаев, кои водятся у иноземцев. Пускай будет так. Сказывай, князь.
– Тайное у меня слово, – пояснил я.
– Опять тайное, – недоверчиво протянул он, очевидно вспомнив обрыв над полноводным Сеймом.
– Что делать, – вздохнул я. – Так уж оно получается, что по своей неугомонности мне иной раз удается выведать такое, что только втайне и сказывать.
Он задумался.
Э, так не пойдет. Это что еще за размышления? Пришлось добавить:
– К тому же все прочие свой приговор мне уже вынесли, так что все равно ничего не переиначить, вот и получается, что мое слово может теперь повлиять только на твой голос. – И, понизив речь до шепота, добавил: – Видение мне было, государь…
Сработало. Дмитрий повернулся к судьям и повелительно махнул им рукой, отпуская восвояси.
– Квентин, – окликнул я шотландца, шедшего первым.
Дуглас обернулся.
– Никогда тебе не быть Робертом Бернсом[72], – вынес я безжалостный вердикт.
Кто это такой, шотландец, естественно, не знал, да и не мог знать, поскольку Бернс еще не родился, но истинный смысл моих слов почуял безошибочно.
Вон как опустились плечи, словно на них взвалили центнер. А может, сразу два – даже с места не смог сдвинуться, продолжая стоять, пока шедший сзади Басманов не потерял терпение и не подтолкнул его вперед.
А ты как думал, парень?! Предательство – само по себе тяжкая штука, а когда предаешь друзей – так и вдвойне, поэтому не каждому по плечу.
Особенно поэтам.
Глава 24
Торг
– Ну сказывай, – с нарочитым равнодушием в голосе протянул Дмитрий, когда выходящий последним Власьев, сочувственно покосившись на меня, аккуратно закрыл за собой дверь. – Так что там у тебя за видение? – поторопил он меня, вновь важно усаживаясь на свой стул-кресло.
Вид у государя был вальяжный. Ни дать ни взять эдакий русский барин, согласившийся на досуге поглядеть на какую-то придумку провинившегося холопа, пытающегося этим изобретением скостить неминуемое наказание.
Король-победитель, ядрена вошь! А я, стало быть, пленник в цепях, который сейчас, согласно сценарию, должен рухнуть на колени и униженно молить о пощаде.
Только вот сценарии, «красное солнышко», пишу здесь я – уж извини. Молод ты ишшо, чтоб их сочинять, да и словов таких, поди, не слыхал, куда тебе.
На секунду мне даже стало чуточку жаль разрушать его иллюзию, хотя он сам во всем виноват – слушать тогда ночью нужно было повнимательнее, когда я предупреждал его о последствиях.
– Про тебя, – коротко ответил я. – Виделась мне твоя опочивальня и как ты в ней силишься…
Подробности рассказывал недолго – он оборвал меня уже на четвертой или пятой фразе, и до конца описать его мужскую несостоятельность не получилось.
– Ты в своем уме, князь?! – заорал он, вскочив с кресла и кинувшись на меня чуть ли не с кулаками.
Вот так уже лучше. Вид разъяренный, вальяжности и в помине нет, что автоматически показывает, насколько высоко Дмитрий оценивает альковные дела.
Эх, милый, а ведь это только начало. То ли еще будет.
– В своем, – кивнул я и невинно поинтересовался: – А ты хочешь сказать, что видение лжет?
– Хочу! – с вызовом заявил он.
Прозвучало это столь твердо, что я на миг даже усомнился в действенности зелья бывшей ведьмы. Вдруг, учитывая, что она таким давным-давно не занималась, и впрямь забыла положить какой-то компонент, или смешала как-то не так, или…
Да что угодно.
Но и деваться некуда – затянул песню, так допевай, хоть тресни.
– Что ж, мое видение легко проверить, – пожал плечами я. – Какая ж девка откажет своему государю?
– А зачем? – искренне удивился он, начав возвращаться к прежнему вальяжному состоянию и наотрез отказываясь верить, что он может допустить сбой в ночных усладах. – Я и без того ведаю, что…
– …у тебя все в порядке, – подхватил я и возразил: – Только вот в чем беда – мои видения мне еще ни разу не солгали.
– А может, ты еще лик девки узрел, коя меня так умучила? – надменно усмехнулся он. – Покамест такие не встречались, так даже любопытно – где ж такая неугомонная сыскалась?
Вот оно что. Оказывается, ты даже толком не понял, о чем я веду речь. Ну что ж, поясним…
– Что до лика, то прости, государь, не разглядел я его. Темно было. Одна лампадка в углу, а с нее света меньше, чем с козла молока. А может, мне и умышленно лица не показали, – принялся размышлять я вслух. – Намекали тем самым, что никакой разницы нет и, с кем ты ни ложись, все одно.
– Ты о чем? – насторожился он.
– О том, что не умучила она тебя, – пояснил я. – У тебя с ней вообще ничего не вышло. Ни разу.
– То есть как – ни разу? – вновь не понял он.
– А вот так, – развел руками я. – Да и с другими тоже не выйдет. – И припечатал: – Никогда!
Дмитрий не ответил. То ли осознавал суть катастрофы, то ли…
Для верности пришлось добавить:
– Да этого и следовало ожидать. Помнишь, как я его в твоей опочивальне веревочками-жизнями обмотал и подпалил, а он в кисель превратился?
– И что?
Так и есть – не дошло.
– Ничего, кроме одного – это ж твой… был. А уж видение подсказало, что вся моя ворожба сбылась в лучшем…
Договорить я не успел – он буквально на глазах побледнел, после чего вскочил и опрометью кинулся к двери, но у самого выхода остановился и, повернувшись ко мне, выдохнул:
– Ну гляди, князь. Ежели токмо… Я тогда тебя… – и был таков.
Ну слава тебе господи! Дошло наконец-то.
Теперь оставалось только ждать.
С минуту никого не было, но долго побыть в одиночестве мне не дали – вошел Басманов. Лицо озадаченное, брови чуть ли не выше лба, и даже борода приобрела вид вопросительного знака, но ничего не спрашивал, молча уставившись на меня.
Благодарный за его слова и приговор в мою пользу я не стал томить боярина в ожидании, сразу пояснив:
– Я там ему посоветовал не торопиться и вначале кое-что проверить, а уж потом выносить приговор.
– Мыслишь, смягчиться может? – усомнился он.
– Мне кажется, что да, – осторожно, чтоб не спугнуть римскую матрону Фортуну и красавчика Авось, выдал я догадку.
– А мне так инако мнится, – мрачно возразил он и, неловко потоптавшись, осведомился: – Можа, тебе священника прислать, покамест государь в отлучке? Глядишь, и исповедаться успел бы.
– Зачем? – удивился я.
– Ну как же. Чтоб, значится, грехи на том свете крылышки у твоей души книзу не потянули.
– Пессимист ты, Петр Федорович, – попрекнул я его.
– Чего? – озадаченно переспросил Басманов.
– Все в черном цвете видишь, – пояснил я. – А я верую, что государь у нас добрый, потому и вдаль гляжу без страха, помирать не собираюсь, да и вообще, жизни надо радоваться, как я. Проснулся утром и… радуешься.
– Ну-ну. – Боярин скептически крякнул, удивленно покрутив головой, и повернулся к выходу, но никуда не пошел, застыв в задумчивости. Постояв так с минуту, он тяжело вздохнул и бросил не оборачиваясь: – Я ить не просто так про священника вопрошал. Он мне пред уходом сказывал, что, мол, плахи не занадобится, да повелел, чтоб я заместо ее клетку железную кузнецам заказал. Потому проснуться к завтрему у тебя и впрямь выйдет, ибо клеть токмо к среде изготовят, а вот опосля… – И, покачав головой, вышел, но… тут же вернулся. – Допрежь того, яко в темницу тебя отвести, тут… гм… судьи повидаться восхотели. Ты как?
– Кроме Квентина, – быстро сказал я.
– Кого?
Я усмехнулся. Все никак не привыкну. Да и не идет новое имя шотландцу, или, как тут говорят, не личит. Ну какой из него Василий Яковлевич, да еще с фамилией Дуглас. Однако поправился, пояснил.
– А он-то как раз шибче всего и просится, – заметил Басманов.
– Пусть просится, – пожал плечами я. – Мне с ним говорить не о чем.
– Ну будь по-твоему, – понимающе кивнул он.
За те секунды, что темница пустовала, я успел плюхнуться в освободившееся кресло и с наслаждением вытянуть гудевшие от усталости ноги.
Странно, пока шел суд, ничего не чувствовал, зато сейчас они сразу напомнили, сколько часов я отстоял в углу, как нашкодивший первоклассник, вызванный на суровый педсовет.
«Их бы сейчас прямо на стол водрузить, чтоб кровь отхлынула», – мечтательно подумал я, но воплотить в жизнь свою нахальную идею не успел – вошел Бучинский.
Признаться, его лепет я слушал невнимательно. Понятно, что он хотел бы оправдаться передо мной в том, что приговорил к смертной казни, вот только получалось у него это не ахти.
Однако я был снисходителен к парню. Учитывая, что он оставался в секретарях у Дмитрия, который – это я знал точно – частенько прислушивается к мнению Яна, осыпать его упреками и вообще портить с ним отношения глупо.
Теперь, чувствуя свою пускай и невольную вину, глядишь, когда-нибудь вставит словцо в мою защиту. Ну а коль не понадобится защита – еще лучше.
Поэтому, пока он говорил, я хранил многозначительное молчание, давая понять, что хоть и понимаю его нелегкое положение, но все же, все же… А в конце разговора, точнее, монолога поляка я даже сдержанно обнял его, но сохраняя во взгляде печальную укоризну.
Князь Хворостинин-Старковский был тоже изрядно смущен, хотя ему как раз оправдываться было не в чем.
Скорее уж напротив, тут моя вина, что я о нем плохо подумал, когда увидел в числе судей и предположил, что он обязательно отыграется за те оскорбления, которыми я его осыпал, не давая закрыть глаза.
С этого и начался наш разговор. Однако он сразу замахал на меня руками, пояснив, что поначалу и впрямь сердце держал на меня, особенно после напоминаний дворского, которыми тот его будил.
Но потом, когда уже начал вставать на ноги и собрался ехать ко мне, Бубуля все ему растолковал как есть, потому сейчас он испытывает ко мне только благодарность и ничего, кроме нее.
Вот и хорошо, коли так. И лишь после этого я обратил внимание на листы бумаги, которые князь держал в руках.
Вот тебе и раз! Неужто и тут решил зачесть мне нечто из нового?
Но нет, оказывается, Иван таким образом решил позаботиться обо мне – мол, скучно тут в ожидании приговора, так чтоб не маяться от безделья и не томиться, гадая, каким окажется решение государя, на тебе, Федор Константинович, бумагу, пописать на досуге.
Но и без новых виршей не обошлось – зачитал мне Хворостинин что-то про злокозненных клеветников, накинувшихся на невинного пиита, и о том, как они обязательно потерпят поражение, ибо «свет истины непременно воссияет», ну и все в том же духе.
– Уже лучше. Во всяком случае, гораздо понятнее и проще, – одобрил я, оценив, что половина слов понятна, а о второй половине нетрудно догадаться, учитывая первую, и посоветовал: – Ты пока на полпути, хотя движешься в правильном направлении. Теперь главное – не останавливаться, а следовать дальше.
– Да куда уж проще-то?! – воскликнул он.
– Куда? – улыбнулся я. – А вот послушай-ка. «Сижу за решеткой в темнице сырой…»
Хворостинин открыл рот на второй строке стихотворения, да так и не закрывал его, пока я не закончил декламировать. Впрочем, он и потом сделал это не сразу, а еще минуту стоял, беззвучно шевеля губами и ничего не говоря.
– Это ты сам, пока тут сиживал?! – А в глазах неописуемый восторг.
Жаль разочаровывать парня, но чужая слава нам ни к чему – своей обойдемся.
– Нет, все тот же сын боярский, который Пушка, – пояснил я, не желая отбирать лавры у Александра Сергеевича.
– Эва, какой ты везучий, – сокрушенно вздохнул он. – А я сколь ни ездил, так ни с одним пиитом и не повстречался… окромя тебя да князя Дугласа. Может, мне вместях с тобой ныне в Кострому податься? Авось сызнова кто на пути попадется, а?
– Погоди с Костромой, – усмехнулся я и напомнил: – Если сейчас государь мне смертный приговор объявит, так я дальше Болота[73] не укачу.
– Что ты?! – замахал руками он. – О таковском и думать не моги. Дмитрий Иваныч добрый, уж кому, как не мне, о том знать. Он и злодеев отъявленных, яко Шуйских, эвон лишь в ссылку отправляет, а у них-то вины куда тяжелее. Да и привечает он умных людишек, потому даже и в мыслях не держи – чуток помедлит для прилику, а там и помилование объявит.
– Так это умных, – вздохнул я. – А меня он в шибко мудрых числит, а это уже перехлест, потому и…
Но договорить не успел – зашел Дмитрий. Лицо красное, в глазах злость, но помимо нее еще и по здоровенному вопросу, и, сдается мне, оба на одну и ту же тему.
- И как вы допустили это, боги,
- Чтобы в такой ответственный момент
- Мне отказал в поддержке и подмоге
- Дотоле безотказный инструмент?[74]
Ну что-то типа этого.
Я прикинул, сколько времени он отсутствовал. Получалось, что часа полтора наверняка, не меньше, то есть провериться успел, причем, судя по виду, результат плачевный.
На Ивана государь почти не взглянул, обратив на него внимание, лишь когда тот принялся неловко пояснять, что заглянул совсем на чуток, потолковать о виршах.
– О чем?! – вытаращился на него Дмитрий.
Ну да, понимаю. Ныне у царя-батюшки вопросы и проблемы куда существеннее, а тут…
Но, к его чести сказать, орать он на своего кравчего не стал, сдержавшись, и лишь отрывисто заметил, чтобы Хворостинин уходил, поскольку теперь пришел его черед поговорить о… виршах.
– Так, может, вместях все втроем? – обрадовался простодушный Хворостинин и от избытка чувств весело подмигнул мне.
«А ты говорил про какой-то смертный приговор, – явственно читалось в его взгляде. – А он видишь каков? Не может ведь человек, говорящий с тобой о стихах, потом осудить тебя на смерть, так что все в порядке».
– У нас с ним особые… вирши, – хрипло выдавил из себя Дмитрий, еле сдерживая свою ярость, и тут даже Иван почуял неладное, хотя по сожалеющему взгляду, брошенному на меня перед уходом, было заметно его недоумение, что за особенности могут быть в виршах.
Начинать разговор, даже оставшись со мной наедине, государь не спешил, да и когда раскрыл наконец рот, то начал совсем не с того, что, как мне думается, интересовало его больше всего. Очень уж ему не хотелось признавать очередное поражение от меня, да еще столь сокрушительное, потому он продолжал хорохориться.
– Я тута у медикуса вопросил, так он мне поведал, что заминки в таковских делах приключаются чуть ли не со всеми. И лечба порой вовсе не надобна, особливо ежели лета младые – переждать немного, и все, – заметил он, принявшись расхаживать из угла в угол, но при этом избегал смотреть мне в глаза.
– Выходит, ты так мне и не поверил? – уточнил я. – Что ж, пережди. – И равнодушно передернул плечами, давая понять, что мне все равно, и вообще, сколько ты, паренек, ни надрывайся, результат останется один и тот же.
– Пережду, – кивнул он. – Токмо я сызнова, чтоб надежнее, на… Ксении Борисовне испытывать себя учну. Небось от такой красы и у мертвяка зашевелится. – И впился в меня взглядом – как я восприму такой вариант.
– У мертвяка возможно, – невозмутимо согласился я, – а вот у тебя…
И тут Дмитрий, не выдержав, взорвался.
На сей раз бочек, как в подклети Высоцкого монастыря под Серпуховом, у него не имелось, поэтому выхваченный из ножен сабельный клинок пришлось перехватывать.
Надо сказать, что силенка у «красного солнышка» была дай бог, плюс дополнительная подпитка от ярости, так что удержать запястье его правой руки мне стоило немалого труда.
Сколько длилось наше противостояние – не засекал, но ему хватило и этого короткого времени, чтобы, от гнева брызжа мне в лицо слюной, взахлеб наобещать сразу целую кучу казней, причем повешение в этом списке шло вслед за обезглавливанием – ну никакой логики у государя, под мышки, что ли, вздергивать станут?
В конце, разумеется, костер, как колдуну, наславшему на Дмитрия заклятие.
Пришлось еще раз пояснить про веревочки и про наши связанные воедино жизни, так что заклятие это в равной степени наложено на всех троих. А что до казней, то я не возражаю, но напоминаю, что срок этой самой жизни у царя-батюшки всего на две недели длиннее, чем у меня, поэтому…
Поначалу он мне не поверил, хотя и засомневался, поэтому сабля вновь оказалась в ножнах, а разговор пошел в более деловом русле. Ярость, правда, до конца еще не прошла, и смиряться он не хотел, заявив, что коль и впрямь у него не выйдет поять царевну самому, то он отдаст ее на потеху стрельцам, а Федьке на всякий случай заранее велит отрубить голову.
Причину же для этого найти – пара пустяков.
К примеру, недавнее отравление. Дескать, притворялся мой ученичок, но нашлись видоки, которые воочию лицезрели, как он подсыпал государю в кубок смертное зелье. Сперва молчали из страха, а теперь, когда Годунов уплыл в Кострому, во всем сознались.
Выдавал он мне все это, ни на секунду не отрывая взгляда от моего лица. Скорее всего рассчитывал взять на испуг, но не тут-то было.
Я добросовестно выслушал все угрозы и в ответ хладнокровно заметил, что, если все это произойдет, тогда буду не в силах помочь государю, поскольку в день казни царевича меня на этом свете неделю как не будет, и вновь напомнил про наши жизни-веревочки.
Помогло – сразу осекся на полуслове, не зная, что еще сказать. Однако сомнения продолжали в нем оставаться, и он ехидно осведомился, что раз я продолжаю настаивать на этой нерушимой связи, то получается, что и у меня самого, и у Федора тоже теперь немалые проблемы с этим.
– А как же, – охотно подтвердил я.
– Но тогда зачем?! – удивился он, вытаращив на меня глаза.
– Затем, что ты снова нарушил свое слово, которое дал мне, – ответил я. – Не надо было умышлять худое против царевны, и тогда ничего бы не было.
И вновь он мне не поверил.
Ну не укладывалось у него в голове, что я рискнул столь многим лишь для того, чтобы увезти Ксению, которая вдобавок чужая невеста.
– Так ты утверждаешь, что теперь мы все трое стали… – протянул он, морщась и не зная, как бы выразиться поделикатнее, но я бодро подхватил, причем в отличие от Дмитрия миндальничать не стал. Скорее уж напротив – постарался сгустить краски.