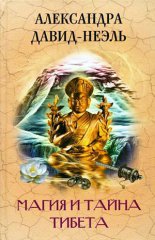Встречи на ветру Беспалов Николай

Пролог
По радио после первого выпуска новостей диктор, женщина по фамилии Быстрова, прочла сводку погоды. Температура – плюс три, ветер западный, десять метров в секунду, влажность воздуха семьдесят процентов. В городе, где я живу, ветры и большая влажность – обычное дело. Город назван именем Ленина, а мне больше нравится, когда его называют Питером. Не Петербургом и не Петроградом, а вот так просто: Питер. Слышится мне в этом имени что-то французское.
Боже мой, уже пять минут седьмого. Трамвай отойдет от конечной остановки через десять минут. Пропущу его – придется ехать на работу на автобусе. С нового года я решила экономить. Хочу купить шубку из каракуля. Помню, папа рассказывал, как Никита Сергеевич Хрущев в шестьдесят первом году, после того, как поменяли деньги, и цены, кстати, тоже поменяли, то есть повысили, сказал: «Я заставлю советский народ нагибаться за копейкой». Меня тогда пионервожатая готовила к вступлению в ВЛКСМ.
Чай остыл, и сахар остался лежать на дне чашки не растворенным. Соскребла ложкой и съела. Не пропадать же добру.
Когда я уезжала из дома, где родилась и прожила семнадцать лет, мама отдала мне свою шубку.
– Зачем мне тут шуба? – сказала она и была права. У нас в Жданове – это теперь городу вернули старое название Мариуполь – холодов практически не бывает. Кстати, я об этом А. А. Жданове ничего не знаю. Наверное, болела, когда о нем наш историк рассказывал. Об историке я ещё расскажу.
Скорее, скорее, а то и автобус пропущу. Опаздывать мне никак нельзя. Что с того, что я на этом заводе работаю уже девять лет. Скоро юбилей. Это я так считаю.
Тётка Вера кричит мне – это моя соседка: «Ирка, я ухожу!»
Вера Петровна – мать-одиночка. Какой-то козел охмурил её, когда ей был двадцать один год, и смылся. Теперь её сыну уже девятнадцать. Служит в армии, а тётка Вера расцвела. Распушила хвост и пошла, как она говорит, в народ. Она работает в гальваническом цехе. У них спирту залейся. Работа, конечно, вредная, но и на пенсию можно уйти раньше. Им за вредность молоко дают бесплатно. Мужиков прорва, и все хотят выпить на дармовщинку. А где спирт, там и все прочее. Верка же в цехе заведует складом химпродуктов. Спирт – тоже химпродукт.
– Не смылятся, – говорит Вера вечером, сидя у своего стола на кухне в одной комбинашке. – У них жены все дуры. Они считают, что муж нужен только для того, чтобы зарплату в дом нес, а что касаемо любви – им все по херу.
Хлопнула входная дверь. В квартире остались я и второй сосед, Гришка. Это тот ещё тип. Отслужил в армии и полгода нигде не работал. На что пил? Воровал, что ли? Под новый год устроился грузчиком в наш гастроном. Пить меньше не стал, но пьет теперь исключительно портвейн. Сам говорит, что с пяти ящиков этой отравы им причитается бутылка. Бой. Что за страна. Воруют почем зря. Даже частушку сочинили: ты тут хозяин, а не гость, тащи с завода последний гвоздь. Правда, на нашем заводе не поворуешь. Один парень стащил коробку кафельной плитки из заводоуправления, так ему впаяли три года.
Парторг цеха говорит, что у нас в СССР построен социализм. Лапшу на уши вешает. Будто я в школе не проходила историю. Социализм мы построили ещё до войны. Сталин так и сказал: «У нас заложены основы социалистического производства».
Вышла из своей комнаты, и в нос пыхнуло вчерашним перегаром. Сам Гришка в майке и портках, в которых он и спит, и кушает, сидит на кухне и дымит своим «Памиром».
– Ириша, – он меня боится и уважает. Есть за что, – доброе утро, Ириша, – знаю я, чего ему от меня надо. Попросит двадцать копеек. На пиво разливное.
– Не дам, – я уже в прихожей сапожки надеваю.
– А мне и не надо от тебя ничего. Я вчерась халтуру срубил. Могу тебя угостить.
– Магазин обокрал что ли? – спросила и прикрыла дверь за собой. Я-то знаю, что он не то, что обокрасть не может, он у нас с Верой крошки со столов не возьмет.
Живу я в доме барачного типа, на окраине города, что называется Старой Деревней. Рядом кладбище. Там церковь и три раза в день звонят в колокола. Вот и сейчас раздался звон. К заутрене созывают народ.
Когда я огибала забор у гаража, мой трамвай как раз вывернул с кольца. Я машу: останови, мол. Фигос под нос. А в вагоне народу мало. На третьей остановке трамвай уже набьется – не продохнуть. Показала палец вагоновожатому и побежала на автобусную остановку. Трамвай ходит строго по расписанию, автобус может и опоздать. Нет. Вот и он показался. Смешная морда у него. Впечатление такое, как будто он насупил брови.
Ветер неприятно холодит мои ляжки. Зря я не надела штаны с начесом. Все хорохорюсь, как девка неразумная. А мне уже двадцать шесть. Другие бабы в этом возрасте детей нарожали. У меня все не так. Мне рыцаря подавай. Дура дурой. Где они, эти рыцари?
На остановке народу мало. Рабочие уже сели в трамвай и уехали, а ИТР ещё чаи допивают. Опустила пятак в кассу. Я не скряга какая-нибудь, но проводила его с сожалением. Никто же не видит, можно было бы и так билет оторвать. Совесть не позволяет.
Ехать мне долго. Минут тридцать. Можно и вздремнуть. В автобусе тепло. От окна дует, но мне все равно. Я спать хочу. Как же иначе, если в постель легла в час ночи. Готовилась к экзаменам. Начальник цеха настоял, чтобы я поступила на вечерний факультет во ВТУЗ. Вот и корплю над учебниками.
– Ваш билет. – Контролер – женщина злая. Наверное, у неё с мужем нелады. Чего злиться с утра-то?
С аванса куплю карточку. На все виды транспорта. Не буду дергаться при виде контролеров.
Автобус наполнился, и мне пришлось протискиваться к выходу. – Вы на следующей выходите? Разрешите, – это я бубню непрерывно.
На остановке «улица Скороходова» вместе со мной вышло два человека. Одного я знаю. Он работает в нашем БРИЗе. И чего так рано едет? У них работа начинается в восемь тридцать. Наши технологи и то раньше.
– Тиунова, – окликает меня на проходной мой начальник, – переоденешься, зайди ко мне. Есть разговор.
В последний раз ветер дунул мне под юбку, и я уже в цехе. У нас хорошо. Чистота и свежий воздух. Иначе нельзя. У нас работа такая. Делаем приборы для… Больше ничего не скажу. Наш завод номерной, секретный.
Встреча первая
Тогда я, семнадцатилетняя девушка, приехавшая из южного города Жданов, подала документы в приемную комиссию педагогического института и была поселена в общежитии.
Сочинение я написала на пять баллов, а потом как с цепи сорвалась. Вместо того чтобы готовиться я начала гулять. Красота какая! Белые ночи. Я словно завороженная могла простоять на набережной, наблюдая, как разводят мосты. Где такое увидишь? И в результате тройка за тройкой. Последний экзамен я сдавать не пошла. Все равно не примут.
Из общежития погнали, денег осталось курам на смех. Что делать? Посчитала гроши, на билет обратно хватило бы, но не такой у меня характер. Я с малолетства сильно гордая. Что я скажу маме? Мол, прости, мама, дочка у тебя дура. Не стану же говорить, что прогуляла экзамены. Тут Нева и много-много речек и каналов. У нас две реки – Кальмиус и Кальчик. Нева широка, вода в ней темная, но чистая. У нас же в реке вода часто с мутью. Зря, что ли, в Мариуполе один из известных грязевых курортов. С давних времен тут живут греки. Родители мои обосновались в Мариуполе в начале сороковых годов. Папа приехал работать в порт. Он окончил одесское училище. Мама работала в портовой столовой. Где-то я прочла, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Наверное, так и мама охмурила отца своими кулинарными способностями.
Коли начала говорить о родном городе и родителях, то продолжу. В десятом классе я увлеклась учителем истории.
Детская любовь. Был наш историк молод и красив. Грек по национальности. Можете представить. О греках я сказала не зря. Они поселились тут ещё в конце восемнадцатого века. До 1778 года наш город назывался Домахой, или Кальмиусской паланкой. Запорожские казаки в XVI веке основали в устье реки Кальмиус свой военный пост.
В 1779 году городу присвоили имя Мариуполь.
Это и многое другое я узнала из уроков этого самого грека.
Стала я за ним ходить как нитка за иголкой. Скоро он заметил, что я неровно дышу к нему. Или по нему? Не знаю, как правильнее сказать. Дело было ранней весной. Сильные ветры дуют в это время с моря. Мне они нипочем. Сделаю все уроки и пошла на берег. Там мечтается хорошо. Прочла тогда рассказ Грина «Алые паруса» и представляю себя девушкой по имени Ассоль. Азов штормит. Вода в нем темная, злая, и никаких алых парусов. Кто же в такую погоду выйдет в море? Азов коварен. Скольких ловцов удачи поглотил он.
Села на разломанную шаланду и, прикрывшись ладошкой, пытаюсь раскурить сигаретку. В школе нас, таких курильщиков, завуч гоняет, дома папа с мамой высекут.
Ветер задувает одну спичку за другой. Не выдержала и ругнулась вслух. Да так, что и самой стыдно стало.
– Не знал, что ты можешь так ругаться, – оглянулась, а позади стоит он. Мой грек. Я так и обомлела. Стыд-то какой!
– Подслушивать неприлично. – Это у меня привычка такая. Я, когда смущаюсь, то иду в атаку.
– Ты так громко ругаешься, что, наверное, на маяке слышно, и чаек всех распугала, – он еще больше растянул рот в улыбке. – Курить таким молодым девушкам вредно.
– А бывают старые девушки? – продолжаю я напирать.
– Ты права. Старые девы в природе не редкость, а старых девушек нет. – Сел рядом. Меня как молния ударила. Ветер треплет мои волосы, поддувает под юбку. Ничего я не замечаю. Не могу оторвать глаз от его лица. – Дай и мне сигаретку.
На днище шаланды сидеть неудобно, но и это мне по фигу. Начало меня бить, как будто в горячке.
– Замерзла? – спросил и не стал ждать ответа. Положил мне руку на плечи, прижал к себе. – Если нас сейчас увидит наш директор, не сносить мне головы. По меньшей мере, он меня уволит.
– По большей мере? – я не унимаюсь, хотя была сама не своя от него.
– По большей мере он отдаст меня правосудию за совращение малолетних.
– Вы что же, меня вот так совратили? – К тому времени я уже кое-что знала о природе половых отношений.
– Люди злые. Только общество, его институты держат народ в рамках. – Я не поняла, о каких институтах говорит историк, но спрашивать не стала. Подумает, что я дура. – Раньше это была церковь, ныне нами управляют из ЦК партии. Был Сталин, потом Хрущев и вот теперь Брежнев.
– А Ленин? – спрашиваю.
– Ульянов-Ленин никогда не занимал в партии какой-либо официальной должности. Он был просто вождем, а в новом государстве стал председателем правительства, которое большевики именовали Совнаркомом.
– Как скучно. – Мне и вправду было все это до оскомины скучно.
– Молода ты ещё. Я же на своей шкуре испытал все прелести их правления. – Чего это он передо мной распинается? – Однако разболтался я, – сказал Валентин Олегович (так зовут учителя). – Да и холодно стало.
Мужчина снял руку с моего плеча, и я тут же почувствовала пронизывающий ветер с моря. Неужели он сейчас уйдет? Сердце мое заколотилось быстро-быстро. И тут я вспомнила стих, что написала вчера ночью. Его я и прочла:
- Я такая лапочка!
- Я такая цаца!
- На меня, красавицу, не налюбоваться!
- Я такая умница! Я такая краля!
- Вы такой красавицы сроду не видали!
- Я себя, любимую, холю и лелею.
- Ах, какие плечики! Ах, какая шея!
- Талия осиная,
- Бархатная кожа.
- С каждым днем красивее,
- С каждым днем моложе!
- Зубки – как жемчужинки, с каждым днем прочнее,
- Ножки – загляденье,
- С каждым днем стройнее.
- Волосы шикарные —
- Вам и не мечталось!
- На троих готовили —
- Мне одной досталось!
- Никого не слушаю, коль стыдят и хают,
- Потому что лучшая, потому что знаю!
– Ирина, – он опять положил руку мне на плечо, – это ты написала? – Я кивнула. – А ты большая проказница, девочка, и талантлива.
И тут произошло то, о чем я втайне мечтала. Валентин Олегович обнял меня, прижал крепко и через секунду поцеловал.
– Свершилось, – сказал он, сделав глубокий вдох. – Обратной дороги нет. Ты сердишься на меня?
Я замотала головой так, что мои волосы распушились. Даже заколка отлетела. Тут сильный порыв ветра ударил нам в лицо. Я почувствовала на своих губах соль морской воды.
– Ты плачешь?
А может быть, я действительно заплакала? И это соль моих слез, а не моря?
– Я не знаю. Мне хорошо. – И опять мой рот закрыт поцелуем.
Думаете, я раньше ни с кем не целовалась? Целовалась. Вот! Но что за поцелуи то были. Мальчик из параллельного класса. До сих пор помню его мокрые губы и какой-то неприятный запах изо рта. Я потом дома долго чистила зубы мятным порошком.
– Иди домой. – Валентин снял руки с моих плеч.
– А Вы?
– Я посижу ещё. Приведу мысли в порядок. Завтра у нас урока по истории в вашем классе нет, но ты зайди ко мне в кабинет.
С прошлого учебного года в школе ввели кабинетное обучение. Вот и ходим мы по школе, таская портфели и папки. Папа мне подарил свою папку. Он в ней раньше носил какие-то документы. Папка кожаная, с молнией. А чего это я заговорила о папке? Ах, вот отчего. На следующий день я гнала минуты и часы. Скорее бы встретиться с Валентином. Прозвенел последний в этот день звонок. Ребята спешат домой. Днем по городу объявили штормовое предупреждение. Не погуляешь.
– Ирка! – кричит мне моя подружка. – Ты чего сидишь? Побежали домой, пока ветер без камней, – это она так шутит.
– Мне ещё надо в пионерскую комнату зайти. – Этому подружка поверила: я член редколлегии школьной стенгазеты.
– Смотри, всех мальчишек проворонишь со своей газетой. – Знала бы ты, Надька, к кому я пойду.
Над головой загрохотало. Ну и ветер. Надя ушла, и я стала собираться. Надо же привести себя в порядок. Утром я тайком взяла у мамы один из тюбиков губной помады. В маленьком зеркальце я рассматриваю свои губы. Немного толстоваты, но не так, чтобы очень. Нанесла помаду и ужаснулась. Прямо вампир какой-то. Пошла в уборную. Стою над раковиной, тру губы и корчу сама себе рожи.
Там меня и застукала наша завуч.
– Ты чего это, Тиунова, тут делаешь после уроков?
– Писала я. А что, нельзя пописать после уроков?
– Всё шутишь, Тиунова. Дошутишься до вызова родителей в школу.
– Шутить нельзя. Говорить громко нельзя. Что у нас, колония для малолетних преступников, а не советская школа? Даже по телевизору шутят. А тут нельзя.
– Уйди с глаз моих. – Бедняжка наша завуч. Три месяца назад от неё сбежал муж. Веронику Павловну даже в райком вызывали. А в чем она виновата? Её муженек нашел молодую тетку стал ходить к ней. Она не будь дурой, забеременела от него. Ей-то что. Она обычная работница на металлургическом комбинате. Она гегемон, пролетариат. Мужа, бывшего уже, с работы тоже не погнали. Влепили выговор по партийной линии, но на работе оставили. Без него начальство никак не может. Он заведует баней.
– Вы, Вероника Павловна, не расстраивайтесь. Вы молодая и красивая. Найдете себе достойного спутника жизни. – Это я говорю ласково, прямо смотря ей в глаза.
– Ты так думаешь? – Строгий заведующий учебной частью на моих глазах преобразился в обычную женщину.
– Да вы на себя посмотрите. – Я совсем обнаглела. Взяла её за руку и подвела к зеркалу. И пускай оно в щербинах и не совсем чистое, но видать же. – Какая вы красивая.
– Седина. – Вероника Павловна сейчас заплачет.
– Ерунда. Во-первых, можно покрасить. А во-вторых, седина Вам к лицу. Вы же женщина с положением.
Сделаем небольшое отступление. События, которые описывает Ирина, происходят весной шестьдесят третьего года. Девочке шестнадцать лет. Разговор происходил в не подходящем для такого месте – школьной уборной. Но, обратите внимание, сколько у этой девочки хитрости и такта. Пройдет много лет, и эти качества помогут ей. Повременим.
– Думаешь, краситься не надо?
– Определенно, нет. Сходите в парикмахерскую и сделайте модную прическу. «Бабетта» называется. Все мужчины Мариуполя Ваши.
Расстались мы с завучем хорошо. Я поглядела вслед женщине, которую муж бросил ради молодой и красивой. Неужели вы поверили мне, когда я говорила, что Вероника Павловна красива? Её сами учителя прозвали Папой Карлой. У неё нос длиннющий и глазки еле видны. Сбежишь от такой куда глаза глядят. А мы её прозвали Салтычихой. Она, конечно, не обливала нас кипятком и не морила голодом, но, как и та помещица, издевалась над нами, бедняжками. Курить запрещала, а если застукает, так пощады не жди.
Ещё раз глянула в зеркало – вполне приличная картина – и пошла. Кабинет истории на третьем этаже. Можно пойти по парадной лестнице, а можно и по черной. Время у меня есть, и там я смогу покурить. Завучиха же ушла.
– От тебя пахнет табаком. – Это были первые слова Валентина после долгого поцелуя.
– Ты тоже куришь. – Любовь любовью, а в мою личную жизнь не лезь. Я такая.
Вообще, тут, в кабинете, в окружении карт и стеллажей с книгами, я не могла почувствовать себя свободной. Тут я школьница. Другое дело – на берегу моря. Наверное, Валентин почувствовал моё настроение и сказал: «Пойди во двор и подожди меня. Я скоро выйду, и пойдем куда-нибудь».
Он что, не слышит, какой ветер на дворе? Куда идти-то? Сейчас упрятаться куда-нибудь, где тепло. Ещё лучше нырнуть в постель под одеяло. Но что поделать? Любовь зла. Я не в том смысле, что грек козёл.
Во внутреннем дворе нашей школы есть одно укромное местечко. За складом. Там пацаны соорудили скамейку. Это у них место для курения. Там я и обосновалась. Громко сказано. Просто вытерла лавку и уселась лицом к черному выходу. Сижу, гляжу. Грек все не идет. Пошел он куда подальше со своими нравоучениями. Закурила. Тут и он вышел. Меня не видит, я за деревом. Крутит головой, и я вижу: он ругается.
Свистнула. Я у мальчишек научилась.
– Не свисти, денег не будет.
– Это верно только для дома, если дома свистишь. А на улице примета не действует, – у меня опять хорошее настроение.
Повел Валентин свою девушку за склад. Там в заборе мальчишки проделали лаз. Через него они сваливали с уроков. На главном входе можно нарваться на кого-нибудь из учителей или на нашего сторожа.
Пролезли в таком порядке – сначала грек пропустил меня, а уж потом сам вылез. Тут и сказанул такое, от чего у меня щеки покраснели.
– Попа у тебя красивая. Настоящий женский зад. Возбуждает.
Я и сама знаю, что у меня задница развита не по годам, но чтобы мужчина мне сказал об этом – это первый раз. Назвался груздем, полезай в кузов. Какой такой гриб груздь, я не знаю. Так папа говорит.
– Ты что удумал?
– Я думаю о тебе. – Мы идем по переулку Работников связи. До сих пор не понимаю, какое отношение имеют работники связи к этому глухому переулку. – Думаешь, я не замечал, как ты буквально преследуешь меня? Ты уже не ребёнок, понимать должна, что это значит.
Ветер дунул так сильно, что сверху посыпалось что-то. Я в испуге прижалась к Валентину.
– Мы пришли. Тут я живу. – А ветер все дул.
Это была моя первая встреча на ветру. В Валентиновой комнате не было кровати, и девственности я лишилась на низкой тахте, накрытой клетчатым красно-черным пледом. Так что пятнышко моей крови было почти незаметно.
– Теперь я забеременею? – шепчу я и глотаю слезы.
– Не бойся, – отвечает мой первый мужчина и пьет вино. – Я не мальчик, и в тебя ничего не попало. – Чего не попало, я не понимала тогда. Молчу и плачу.
– Дай и мне выпить.
– Придешь домой пьяная и заплаканная. Что родителям скажешь?
– Скажу, что меня учитель истории изнасиловал. Опоил и изнасиловал. – Утром я была без ума от грека, а сейчас люто ненавижу его.
– Если женщина не хочет, никто не сможет взять её. Если только не оглушить. Позора на всю школу желаешь? Мне-то что. Я и так собрался увольняться. Еду в Москву. Там у меня сестра замужем за полковником. Обещала помочь с работой и пропиской.
Тут меня такая злоба охватила, что я была готова разбить о его курчавую голову бутылку. Сдержалась.
– Езжай. Я-то думала, ты настоящий мужик. А ты хиляк. Целку сломать сразу не мог.
– Уходи прочь! – Задело.
– Учтите, товарищ учитель, если Вы хоть словом обмолвитесь о том, что тут было, – я махнула рукой в сторону тахты, – я и в Москве Вас достану. Напишу прямо в партийный комитет. Самый главный.
– Постой, – трусоват был бедный Валя, – я ничего не скажу. Так и не было ничего. Так ведь? – Какая мерзкая у него улыбка.
Вышла в переулок Работников связи, и ветер ударил в мое разгоряченное лицо. Остудил жар. Испарилась любовь. Так закончилась моя первая встреча на ветру.
- Я душу спрятала в сундук,
- Чтоб не нашли ни враг, ни друг,
- Как ни старались, ни искали…
- Чтоб на ветру не полоскали.
- Не билась чтоб, едва дыша,
- В чужих руках моя душа.
- Чтоб отойти она могла
- От бед, предательства и зла.
- Укрыла покрывалом белым,
- Чтоб не страдала, не болела.
- Но только вдруг раздался стук…
- Открыла старенький сундук
- И вижу, что, едва дыша,
- Там задыхается душа.
- «Пусти меня, я полечу,
- Я жить в неволе не хочу».
Такие слова пришли мне в голову по дороге домой. Папа с мамой даже не повернули головы, буркнули «Привет» и продолжали смотреть телевизор. Я же заперлась в ванной. Почти час я отмокала в теплой воде и все смотрела на свое тело. Оно стало чужим.
Так закончилась моя первая встреча с мужчиной. Первая встреча на ветру.
Ленинградские ветры
Из общежития меня поперли, а куда деваться – не знаю. Город стал для меня чужим. Но и уехать не могу. Гордость не позволяет. Белые ночи отходили, и в город пришли сумерки. Казалось, нет ни ночи, ни утра, ни дня. Все едино. Одну ночь я провела в зале ожидания Московского вокзала. Милиционер турнул оттуда. На другую меня приютила женщина-проводник. Сжалилась.
– Тебе, девушка, одна дорога, – сказала она рано утром, перед тем как уйти и спровадить меня, – в дворники идти. Можно бы и в строители, но больно ты изящна для работы на стройке.
Я к тому времени похудела. Задницу не срежешь, но с моей талией она выглядит очень симпатично.
– Дам тебе в долг тридцать рублей. – Тетя Нина – женщина добрая. – Это почти половина моей зарплаты. Отдашь, когда заработаешь.
Из дома мы вышли вместе.
– Мне направо. – Проводница одета в форму, я с чемоданом и в легком платьице, а вдоль улицы, как в трубе, дует ветер. – Дойдешь по Гончарной до площади Восстания, а там по Невскому. Спросишь, где находится стройтрест номер двадцать. Там спросишь Чурикова Ивана Петровича, это брат мой. Вот тебе записка. – И, уже уходя: – Чемодан сдай в камеру хранения. Долг вернешь.
– Вы же сказали, что для стройки слишком… – Не поворачивался язык назвать себя изящной, я подобрала другое определение: – Худа.
– Ты не худая. Не видела ты худых, а мне довелось в войну повидать ленинградцев из блокадного города. Ты, я же сказала, изящна. Братец, может быть, найдет тебе какую-нибудь работёнку в конторе, для твоей натуры пригодную. Иди уж, а то я с тобой на выдачу белья опоздаю. – Тетя Нина хлопнула меня по плечу чисто по-мужски, ругнулась беззлобно и ушла.
Я осталась стоять на тротуаре с чемоданом в руке и открытым ртом. Это какую же пригодную для моей натуры работёнку найдет мне брат проводницы? Ветер набирал силу. И пошла по улице Гончарной, слегка наклонившись вперед и бормоча под нос: – Все равно я буду жить и учиться в этом городе. И ты, ветер, не мешай мне.
Потом в голову полезли какие-то совсем сумасшедшие слова:
- Разбитые пальцы…
- Забытые ноты…
- И время случайно застыло в часах…
- Горячие губы…
- Безумие…
- «Кто ты?»
- И руки – невольно – в твоих волосах…
- Фальшивые маски… И лживые роли…
- Притворно улыбка гнёт линию губ…
- Горячим дыханием я грею ладони…
- Дрожащие пальцы на мягкости рук…
Так и дошла, сопротивляясь ветру и твердя слова, до входа в Московский вокзал. Часы на стене показывали московское время – семь часов тридцать три минуты.
Тётя Нина женщина добрая, но очень нехозяйственная. Сама не поела и мне не предложила ничего кроме чая. В подвале полумрак. Дядька в окошке камеры хранения, наверное, вчера сильно пил и закусывал луком. Вонь страшная.
– У тебя поезд когда отходит? – дыхнул мне в лицо.
– Вечером, – вру я.
– Врешь, девка. Меня не проведешь. Я пятнадцать лет цириком служил в Крестах. У меня глаз наметан.
Кто такой цирик и какие такие Кресты, я не знала, но мне стало страшно.
– Нет у меня билета. Пока. Но я обязательно уеду, – опять лгу я.
– Шагай. Тебя как раз у Катьки ждут.
Опять загадка. Какая Катька и кто меня у неё ждет? Скоро я узнаю, что Катька – это памятник Екатерине Великой и что там по вечерам толпятся проститутки.
Я уже знаю, что Невский проспект – главная улица Ленинграда и что пролегает он от Адмиралтейства до этой самой площади Восстания, что на нем главные универмаги: Гостиный Двор, ДЛТ и Пассаж. Сколько времени я потеряла, толкаясь в них в то время, когда нужно было бы готовиться к экзаменам. Чего скрывать, это в Пассаже я купила с рук дикую редкость, колготки, и чуть не попала в милицию.
Знаю, как он назывался изначально – Большая першпективная дорога, и по ней возили грузы для Адмиралтейства.
Вот и дом, что назвала мне тётя Нина. Никакой вывески не вижу. Она назвала номер треста, но я его позабыла. Кручусь вокруг, мешаю прохожим. А ветер всё дует и дует. А живот скоро взорвется, все бурчит и бурчит. Плюнула я на всё и пошла искать, где бы можно было покушать дешево. Денег совсем мало осталось. Тетининины тридцать рублей я не трону. Это мой неприкосновенный запас.
Иду, иду, народ спешит по своим делам. Прохожих становится все меньше. Люди уже вовсю трудятся над выполнением планов партии и правительства. Были у нас пятилетки, стали семилетки. Один черт вкалывать надо. Мой папа говорил: не прольешь пота – не получишь краюху хлеба. Он льет свой пот в порту. И за свой пот имеет не только краюху хлеба. Несмотря на сильный ветер, мой нос чует аппетитный запах. Так пахло у нас, когда мама начинала заправлять пироги. Так и есть! Написано «Пирожковая», а выше название: «Минутка».
На семьдесят копеек я наелась от пуза. До вечера хватит, а там погляжу, что мне бог пошлет.
Опять народу полно. Сбежали, наверное, с работы и теперь шастают по магазинам. У людей денег прорва. Папа как-то сказал маме: «Деньги портят человека, но без них он становится зверем. За копейку может убить».
Мой папа очень умный. Зря, что ли, он в Мариуполе числится лучшим политинформатором в Доме политпросвещения.
Мамочка моя родная! Время-то уже – около десяти.
– Дядечка, – остановила прохожего.
– Тоже мне нашлась племянница. Чего надо? – Фу, как грубо! А говорят, все ленинградцы – интеллигентные люди.
– Гражданин, не подскажете ли вы мне, где находится строительный трест.
– Откуда приехала? – Опять вопрос. Он что, еврей? Отвечает вопросом на вопрос.
– Из Жданова. – Чего мне скрывать?
– Землячка нашего Жданова? Пошли, я туда же иду. – Не спросишь же, кто такой этот Жданов. Пропустила урок по истории – теперь молчи. Пошла без слов.
Номер треста двадцатый, и располагается он в старинном здании рядом с какой-то церковью.
– Меня Иваном Петровичем зовут. – Жмет мне руку, а я немею: это же брат тети Нины. – Тебе к кому в тресте?
– К Вам. – О записке я позабыла. Так этот мужчина на меня подействовал.
– Если ко мне, пошли тогда в мой кабинет, – спокоен этот братец Иван.
То, куда он привел меня, назвать кабинетом трудно. Скорее, это будуар.
– Садись, – двинул ко мне стул с высокой спинкой. – Рассказывай, кто ты и чего тебе надо от меня. Но сначала скажи, кто тебя ко мне послал. – Не дождался ответа: – Сам знаю.
Я молчу: мне интересно, кого он назовет.
– Наш Ромуальд Карлович падок на смазливых девчонок. Ты кем при нем была? Просто подружкой? Или бери выше – любовницей?
– Не знаю я никого вашего этого, – я запнулась.
– Не знаешь? – протянул брат Иван. – Ну-ка, встань.
Я встала, готовая уйти.
– Да, ты его не потянешь. Больно тоща ты. В нем весу сто килограммов.
– Сестра Ваша меня к Вам послала. Сказала, что вы меня на работу устроите.
– Нина, что ли?
– А у Вас сестер много?
– Три, а что? Но те, другие, дома живут. Это мы с Ниной непоседы.
Без стука вошла женщина:
– Иван Петрович, совещание отменить?
– Чего орешь? – Женщина даже не повысила голоса. – В одиннадцать тридцать приглашай.
Женщина вышла. Привыкла, что ли, что к ней так относятся.
– Распустился народ. Входит без стука. А может быть, я с тобой тут любовью занимаюсь. – Смеется он приятно. – На площадку тебя послать – все равно, что смертный приговор подписать. В контору определю, – глянул очень строго на меня. – Но чуть позже. Сейчас у нас сокращение аппарата. Вот и совещание по этому вопросу провожу. Хочешь, останься. Послушаешь. Так сказать, напитаешься нашей атмосферой. – И опять смеется.
– Атмосферой сыт не будешь. А что мне пока кушать?
– Не проблема. У меня трое детей. Где трое, там и четверо. Прокормлю.
Ветер все дул и дул. Срывая с крыш листы кровли, ломая ветви деревьев, заставляя людей укутываться. Но мне он был уже не страшен. Брат Иван вселил в меня какую-то неведомую силу.
Теперь мне всё нипочем. За спиной такого мужчины мне ничего не страшно.
Но когда я услышала, как Иван Петрович ведет совещание, я окончательно и бесповоротно влюбилась в него. Ну и что, что мне семнадцать, а ему… Какая разница, сколько ему лет.
Слышу, как вы за спиной шипите: «Он женат, у него трое детей». Ну и что? Я влюбилась – и точка!
– Так что, товарищи, – закончил совещание Иван Петрович, – как сказал Никита Сергеевич Хрущев, задачи определены – за работу, товарищи.
И ещё он говорил о том, что в год столетия Владимира Ильича Ленина надо усилить внимание к трудовой дисциплине. Я не могла уразуметь, отчего это надо соблюдать дисциплину в год, когда вождю пролетариата исполнилось бы сто лет. А в другие года – нет?
Я сидела в углу и таращила глаза на него, моего рыцаря. Вот он, настоящий мужчина. Сильный, уверенный в себе. Как же я хочу, чтобы он обратил на меня внимание. Он же ни разу не взглянул на меня.
Народ, шумно двигая стульями, начал выходить. В кабинете мгла от табачного дыма. Глаза ест.
– Что, подруга, – наконец-то Иван Петрович обратил на меня внимание, – понравилось?
– Какой Вы сердитый.
– С нашим народом иначе нельзя. Отпусти вожжи – кто куда начнет тянуть, и, что характерно, каждый в свою сторону.
– Как в басне Крылова?
– Хуже. Там простая повозка. Тут – большой городской строительный комплекс. Ленинградцы ждут от нас не разговоров, а жилья.
Иван Петрович вышел из-за стола. Какой он большой! На улице я этого не заметила. Какие у него широкие плечи, сильные руки! Не говорю уже о его глазах. Голубые-голубые. Почти как у младенца.
И тут он начал говорить так, как будто меня в кабинете не было.
– В последние годы авторитет Н. С. Хрущёва резко упал. Его товарищи по партии всегда критически относились к его экспромтам в проведении экономических и политических преобразований, неоправданным нововведениям. А как они негодовали по отношению к его внешнеполитическим шагам… – Мне хотелось спросить: «Откуда это Вам известно?», но промолчала: папа учил меня слушать. – И особенно разрыв с Китаем и неспособность отстоять интересы СССР в период Карибского кризиса. Военные понимали непродуманность и популистский характер предпринятого Хрущёвым сокращения армии. Рядовые граждане были недовольны ростом цен и пустыми прилавками. Крестьяне были выбиты из привычной колеи уничтожением приусадебных участков и личного скота. Рабочие роптали на снижение расценок и плохие условия труда, а против них хрущёвские власти бросали армию, проливались не только слёзы, но и кровь. Усилились гонения на православие. Пошли поедим куда-нибудь. У нас в буфете одни сардельки с винегретом. Как ты думаешь, я заслужил большой кусок жареного мяса? – Не стал ждать ответа и сам сказал: – Определенно, заслужил. И сто пятьдесят граммов заслужил.
Мы вышли на Невский проспект. На мостовой не протолкнуться.
– Бездельники, – ругнулся Иван Петрович и крепко взял меня за руку. Я не сопротивлялась. Мне это было приятно. Меня ведут, будто малого ребенка. А куда ведут, мне безразлично. Правда, я тоже хотела кушать, но это было главное. Я хотела быть рядом с ним.
– Надоел ветер, – говорил Иван Петрович. – Нам надо надбавку платить за это. Выматывает.
Не доходя до перекрестка, мой поводырь потянул меня через проспект. Лавируя между машинами и автобусами, мы перешли его и прямиком вышли к входу в ресторан. «Кавказский», – прочла я, и мы начали спускаться по ступеням вниз. У нас в Мариуполе рестораны в подвалах не размещают. Я молчу. Это же Ленинград. В раздевалке дядька в синем халате принял от Ивана Петровича плащ. Мне кроме шерстяного костюма снимать нечего.
– Прошу Вас, Иван Петрович, – я обомлела. Какой же он, мой Иван, важный! Его и тут знают. – Вам с дамой, – это я-то дама? – как всегда?
– Как всегда, милейший, и сразу мне мои наркомовские сто пятьдесят, а даме, – тут он улыбнулся и повторил, – а даме – бокал сухого ординарного.
– Закуску как всегда?
– Тащи, у меня мало времени.
Сухое вино было похоже на то, что я пила на выпускном вечере, кислое. Наверное, Иван заметил мое недовольство.