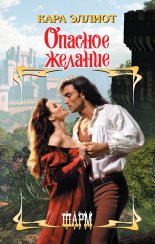Моя свекровь Рахиль, отец и другие… Вирта Татьяна
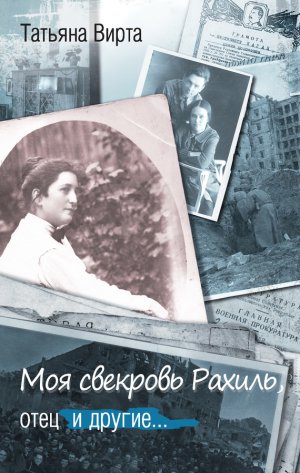
Грустно это вспоминать. С этой поры – конца семидесятых годов – я не бывала в Царицыне – Сталинграде – Волгограде… От всей души желаю, чтобы кто-нибудь, прочитав мои записки, воскликнул: «Слава Богу, сейчас у нас все изменилось!»
Военный опыт Николая Вирты лег в основу многих его драматургических и прозаических произведений. Мне хотелось бы выделить из них повесть «Катастрофа». В ней анализируется внутренняя трагедия одного из крупнейших военачальников вермахта, пережившего жесточайший внутренний кризис: разочарование в прежних идеалах, крушение, казалось, незыблемых устоев. «Паулюс был солдатом старой школы, и в нем не угасла искра человечности» – так пишет о нем Н. Вирта. И дальше: «Находясь в плену, он встречался с Вильгельмом Пиком, с генералом Зейдлицем, основателем движения «Свободная Германия», он многое передумал и переосмыслил. И, в конце концов, появился на Нюрнбергском процессе… В Нюрнберге Паулюс обвинял не только сидевших на скамье подсудимых, он обвинял фашизм и милитаризм во всех его проявлениях…»
Отец присутствовал при пленении Паулюса, написал об этом очерк, в послевоенные годы неоднократно встречался с ним, хотел до конца понять его личную драму. У нас на даче висела неприметная с виду картинка: на ней нарисован дом в сосновом лесу под Москвой, где жил Паулюс, стол с графином для воды и стаканом, скамейка и стоящий на ней чайник. Все это выписано в красках, с немецкой педантичностью. Подарок отцу на память. Вероятно, занятия живописью отвлекали на какое-то время бывшего фельдмаршала от его невесёлых дум…
В самом начале войны Московская патриархия привлекла Н. Вирту к подготовке уникального издания, которое она тогда предпринимала. Это был сборник материалов под названием «Правда о религии в России».
Мой отец никогда не мог простить советской власти жестокого подавления чувств верующих, не говоря уже о физическом истреблении священнослужителей, разрушения церквей и прочего варварства. Он считал, что широким народным массам необходима религия с ее молитвой, традиционными праздниками, обрядами. Зачем было выбивать из-под ног у верующих последний спасительный камень? Куда преклонить голову страждущим?
«И будет Господь прибежищем угнетённому, прибежищем во времена скорби», «ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему» (Псалтырь, псалом 9, 21).
В разгар войны, в годы неудач и отступлений православной церкви снова позволили поднять свой голос. Она вместе со всем народом переживала трагедию войны. Оккупация нанесла чудовищный урон всему тому, что еще осталось у православной церкви после революции. Храмы снова подвергали разрушению, их бомбили, били по ним из орудий, сжигали, грабили. Священников вытаскивали из церкви во время богослужения, расстреливали, зачастую вместе с паствой. Верующие не могли об этом молчать, они собирали документы, свидетельские показания, фотоснимки. Всё это легло в основу внушительного тома, от одного прикосновения к которому сжимается сердце. Митрополит Московский и Коломенский Сергий лично патронирует это начинание и пишет предисловие к книге. В ней собрано более шестидесяти фотографий, письма, акты, составленные по горячим следам событий, которые дают потрясающую картину бедствий, насилия, ужаса, обрушившихся на головы гражданского населения на оккупированных территориях. Составители «Правды о религии в России» Митрополит киевский и Галицкий Николай, профессор книговедения Григорий Петрович Георгиевский и протоиерей Александр Павлович Смирнов совершили гражданский подвиг, оставив на память потомкам этот том о чёрных днях фашистской оккупации.
Николай Вирта с большой готовностью откликнулся на обращение Патриархии с просьбой помочь в подготовке книги к печати. Он снова завален работой. Ему пересылали груды писем, обгоревших документов, отрывочных записей рассказов очевидцев, множество фотографий.
Н. Вирта принял участие в книге и как автор одного из очерков, поместив его под псевдонимом Николай Моршанский (его дед был родом из Моршанска). Очерк под названием «В этот день» рассказывает о праздновании Пасхи в Москве в кафедральном Елоховском соборе, когда налёт немецкой авиации был отбит нашими зенитными расчётами и верующие смогли без помех провести эту святую ночь. В Ленинграде, где городские власти ради проведения Пасхи отменили неукоснительно соблюдавшиеся до того ограничения комендантского часа, верующие со всех концов города также стекались в действующие церкви. Но защитники Ленинграда не смогли сдержать массированный налёт немецкой авиации, который задолго готовился фашистами, началась бомбежка, погибло много народа…
Очерк «В этот день» дышит болью и гневом. Он кончается так:
«Мы не забудем всех бомб, сброшенных на наши дома, и особенно тех бомб, что были сброшены в эту ночь, когда свободная совесть свободных русских людей, верующих в Бога, верующих во Христа, трепетала в молитвенном горении. Наступит воздаяние, оно близится, и во имя высшей справедливости не законы милосердия вступят тогда в силу, а суровые законы Бога Отца, карающего преступления человека против лучших устремлений человечества». Н. Вирта не дожил до времен, когда церковь была восстановлена в своих правах и обрела уважение властей.
Весной 1943 года мои родители выписали нас с бабушкой из Ташкента в Москву. Бытие нашей писательской колонии в Ташкенте заслуживает хотя бы краткого описания. Эвакуированным писателям был выделен целый двор, посреди него протекал неглубокий и не слишком чистый арык и росло могучее буйно плодоносившее тутовое дерево. А вокруг двора располагались типично южные постройки, обмазанные глиной, с окошками, исподлобья глядящими на мир, – в них жили писатели М. Берестинский, А. Файко, О. Леонидов, В. Луговской и Елена Сергеевна Булгакова с семьями. Был и ещё один дом, побольше, выходивший фасадом на улицу и побелённый снаружи, за что его прозвали «Белым домом». В нём были три двухкомнатные квартирки, в которых располагались семьи Погодиных, Уткиных и наша. Тут были еще большая кухня и центральное помещение по настоянию моей мамы превращённое в общую столовую, – каждая семья приносила на свой край большого стола свою снедь и вместе со всеми садилась за завтрак, обед и ужин. Получалось некое подобие нормального человеческого общения, хотя настроение было подавленное. Наши войска повсюду отступали, и мы, уставившись в тарелки, под сводки Совинформбюро молча жевали пищу. Николай Федорович Погодин подслеповато – у него было плохо со зрением – разглядывал хлеб, близко поднося к глазам кусок, и не мог понять, из чего он состоит. Иосиф Уткин, только что вернувшийся с фронта, качал свою забинтованную раненую руку, – она у него постоянно болела и ныла. И только сестра Уткина, пожилая стоическая женщина, сохраняла оптимизм. Она вставала в шесть часов утра, слушала радио и к завтраку встречала нас радостной информацией о том, что наши войска захватили столько-то единиц стрелкового оружия, подорвали столько-то танков, а партизаны спустили под откос немецкий эшелон. При этом умалчивалось о том, какие города, районы и края были оставлены за истекшие сутки…
В нашем дворе было двое детей – Таня Погодина и я. Мне было одиннадцать лет, Таня Погодина на пару лет моложе меня. В школу нас не отправляли из-за тифа, нас обучала всем предметам, а также столь непопулярному в то время немецкому языку, мать поэта Наума Гребнева, который был на фронте. В остальное время мы были предоставлены сами себе и занимались, чем хотели. Самым заманчивым для нас с Таней была дружба с Еленой Сергеевной Булгаковой. Прежде всего все в нашем дворе были поражены, узнав, что Елена Сергеевна по возрасту не подпадает под обязательную трудовую повинность. Глядя на это прелестное лицо, на эту осанку, на весь ее лучезарный облик, невозможно было себе представить, что и она может иметь какой-то возраст. Во всяком случае, все имеющиеся в наличии мужчины, список которых, правда, был сильно урезан в связи с войной, замирали при появлении булгаковской Музы, а поэт Владимир Луговской был сражен наповал. Поскольку излучать обаяние для Елены Сергеевны было все равно что дышать, она излучала его и на двух маленьких девочек. Для нашего кукольного театра, в который мы с Таней увлеченно играли, у Елены Сергеевны нашлись лоскутки от каких-то немыслимых и доселе невиданных нами материй – синего бархата, лилового атласа, розового шифона. Эти пёстрые куски материи прилетели сюда, в убогую обстановку неналаженного быта эвакуированных из других сфер: из бывшего когда-то столь элегантным, уютным и красивым московского дома Булгаковых, где, несмотря на все невзгоды и тяготы бытия, царили любовь и счастье.
В Ташкенте, рискуя навлечь на себя большие неприятности, Елена Сергеевна давала некоторым своим друзьям читать «Мастера и Маргариту». Его прочел Олег Леонидович Леонидов и был в сильнейшем шоке. «Такой роман лежит под спудом, – сокрушался он. – Но я верю – его время придёт!» – утешал он тех, кто не имел к нему доступа. И время действительно пришло. Только ждать его пришлось не три года, – «обещанного три года ждут» – как гласит пословица, а целую четверть века.
Но вот она пришла, пришла Победа! Толпы ликующего народа на Красной площади, слезы, жажда слиться со всеми, вот с этими, незнакомыми, своими…
Парад Победы, как известно, состоялся не сразу, а спустя некоторое время, 24 июня 1945 года. Был хмурый, дождливый день, не было тогда авиации, разгоняющей облака. Николай Вирта вместе с другими писателями из радиостудии, оборудованной в ГУМе, комментировал парад, непосредственно наблюдая его в огромные окна магазина. Меня же взял с собой на парад Олег Леонидович Леонидов с женой, и я стояла в первом ряду слева от Мавзолея с другими детьми.
Каждый из нас тысячу раз видел эти исторические кадры в кино и по телевизору, но и по сей день горло перехватывает и подступают слёзы при виде этого торжества, которое было завоевано столь тяжелой ценой.
После всего этого, казалось, сама судьба уготовила нам всем, нашей стране, нашей культуре прорыв в светлое будущее. Однако ничего подобного не произошло. Маршал Жуков, народный полководец и герой, оказался в опале, а культуру травили и преследовали. Какая только терминология не изобреталась в послевоенные годы, чтобы посильнее заклеймить творческую интеллигенцию: формализм в музыке, безродные космополиты в литературе, позднее прибавились «педерасы» в изобразительном искусстве, под нож попадали журналы, оперы, симфонии, картины, стихи и проза. Во всем этом разгуле повального шельмования с последующим исчезновением отдельных представителей литературы и искусства судьба миловала Николая Вирту. Ему не припомнили ни его неблагополучного происхождения, ни, например, его пьесы «Клевета, или Безумные дни Антона Ивановича». Надо сказать к его чести, что в травле своих собратьев по перу он ни разу не был замечен, гнусных писем не подписывал, ни в каких официальных должностях в Союзе писателей не состоял. В партию никогда не вступал, что сделали из карьерных соображений или под давлением свыше многие, в том числе выдающиеся деятели литературы и искусства. В те времена тотального подавления любого вида интеллектуальной самобытности мой отец, не примыкая ни к каким кланам и группам, стоял особняком и надеялся в основном на свой здравый разум. Хотя нередко и прислушивался к советам «умников», своих ближайших друзей – Юзи Гринберга, Лёвы Левина (называю их так, как называли мои родители). За свою независимость ему предстояло поплатиться потом, в конце пятидесятых, но до этого еще дело не дошло.
Единственная буря, которую пережила наша семья в пятидесятые годы, носила характер частного бедствия. Отец ушел из дома к одной даме, от чар которой сам же до войны спасал своего друга Евгения Петрова, увезя его срочно из Ялты в Москву, поближе к семье. Союз с ней оказался недолговечным и очень скоро распался. Через некоторое время отец женился снова. Не буду распространяться о его третьей жене. В конце жизни отца они практически расстались, так как Вирта поселился безвыездно в Переделкино, на своей новой даче, а его жена в Москве.
Но пока что моим родителям предстояло провести вместе несколько счастливых лет. Они были молоды, отцу после войны было немногим более сорока лет, мама на три года моложе. У нас в семье произошло радостное событие – родился мой младший брат Андрюша. И только одно по-прежнему беспокоило моих родителей – это здоровье отца.
Но ни диета, ни постоянное профилактическое лечение на наших курортах и в Карловых Варах не смогли полностью избавить отца от его болезни. В конце концов, этот злой недуг, неотступно преследовавший его после войны все оставшиеся годы, и свел его раньше срока в могилу, не дав дожить несколько месяцев до семидесяти лет.
А в Переделкино наладилась мирная жизнь – общение с друзьями и соседями: П. Нилиным, И. Гринбергом, А. Штейном, Н. Погодиным, летчиком И. Спириным, адмиралом А. Головко. Снова были шумные вечера у кого-нибудь на даче, на террасе, чтения новых произведений. Они снова разыгрывали друг друга, юмор спасал от многого в те непредсказуемые времена, когда на каждого мог быть повешен вздорный ярлык, с которым можно было угодить в «чёрный список» или ещё куда-нибудь подальше.
Творческая активность Николая Вирты в послевоенные годы была поразительной: что ни год, то новая драма. Бывали такие осенне-зимние сезоны, когда Москва была буквально сплошняком заклеена афишами с именем Н. Вирты. Его пьесы шли во МХАТе («Земля», «Заговор обреченных»), в Театре Вахтангова («Заговор обреченных»), в Театре драмы («Великие дни», «Хлеб наш насущный»), Театре Транспорта («Три года спустя»), Малом театре («Заговор обречённых»). Из провинции афиши и программы спектаклей присылали нам домой в Лаврушинский переулок пачками и рулонами, поскольку пьесы отца шли в десятках театров по разным городам страны. За всем этим шелестом и овациями как-то глухо звучали голоса предупреждения, искреннего желания предостеречь Н. Вирту от поспешности, от погони за острозлободневными сюжетами и темами, необходимыми для постановок к определенной дате. Такое предупреждение получил он от Вс. Вишневского, некогда благословившего начинающего автора вступить на путь литературного творчества и с отеческой требовательностью относившегося к нему всю жизнь. Оно касалось пьесы «Великие дни», написанной по сценарию «Сталинградская битва» и принятой к постановке Н. Охлопковым в Московском театре драмы (ныне Театр Маяковского): «Ты с Охлопковым бежишь, торопишься к дате… Николай, гляди на вещи прямо, честно. Писал «Одиночество»: всё смело, крупно, прямо… С мыслями: а может, и головы не сносить? А тут скорей к дате… дело в порядке. Не то, писатель земли русской. Разве написал бы ты все это в романе? Да ты тридцать раз все исчеркал бы и нашел правду. Измучил бы бывалых солдат собеседников, выжал бы нужное». (Письмо от 7.12.47 г.)
Литературный вкус Вс. Вишневского не изменил ему и на этот раз, и потому фальшивые ноты показной бравады, наигранной бодрости, натянутость некоторых диалогов резали ему слух. Но задерживаться, искать более точные интонации, выстраивать диалоги, а тем более переосмысливать некоторые образы было некогда. И голос Вс. Вишневского не был услышан.
Премьера состоялась 15 ноября 1947 года в юбилейные дни официальных торжеств по поводу 30-й годовщины Октябрьской революции. В спектакле были заняты известные актёры: Л. Свердлин играл роль Сталина, Е. Самойлов – Рокоссовского, А. Ханов – Чуйкова, М. Штраух – Молотова. Декорации крупнейшего театрального художника П. Вильямса (это была последняя его работа для театра, он скоропостижно скончался вскоре после премьеры «Великих дней») – то развернутые огромной картой боевых действий, то панорамой горящего города, то Волгой с ледяными торосами – создавали тревожный, полыхающе-огненный фон к спектаклю. Н. Охлопков в полной мере использовал в спектакле самые последние достижения театральной техники, световые эффекты, кино, музыкальное сопровождение. И, конечно, новая постановка была замечена и публикой, и прессой. Война – это было святое для каждого сидящего в переполненном зале, грохот недавних сражений за Сталинград стучал в сердце каждого, а потому публика рыдала и плакала, и аплодировала стоя. Актеров, постановщика спектакля Н. Охлопкова, автора пьесы Н. Вирту, художника П. Вильямса вызывали множество раз. Да, судьба не поскупилась отпустить моему отцу успеха полной пригоршней. Снова овации, поздравления, хвалебные рецензии в прессе.
В эти же годы Николай Вирта вновь обращается к своей заветной теме – земле, которая всегда была и оставалась для него наиболее близкой и болезненной. Он пишет пьесу «Хлеб наш насущный». Пьеса была как нельзя более актуальной, поскольку состояние послевоенной деревни было поистине катастрофическим, и надо было искать выход из порочного круга нерешенных проблем. С одной стороны, разруха, нехватка техники, удобрений, посевного материала, рабочей силы, с другой стороны, – неоплачиваемые трудодни, отсутствие паспортов. Всё это было прекрасно известно писателю, никогда не порывавшему связей с его родным краем – Тамбовщиной. Однако в пьесе, призванной служить откликом на коренные беды сельского хозяйства в России, происходит подмена серьёзных проблем более поверхностными. Поиск возможного выхода, в обход объективных обстоятельств, лежит в ней в сфере идеалистической – поиска «правильных» людей. Придёт в район, область, сельсовет «правильный» человек, «правильно» ориентирующийся на тотальный подъем сельского хозяйства, и оно будет поднято, отсталая деревня преобразится в передовую. Вот и появляется в районе после выполнения спецзадания фронтовик Рогов, главный герой произведения, и разоблачает председателя показательного колхоза Силу Силыча Тихого, вся слава которого была, оказывается, дутой. Тихий пользовался порочными методами ведения колхозного хозяйства, принуждал людей работать больше положенного, шел на приписки, чтобы втереть районному начальству очки и добиться для своего колхоза максимальных льгот, необходимых для того, чтобы удержаться в передовых и показательных. Этакий кулак советского разлива, однако старался он не только ради личного обогащения, но и ради почестей, сохранения власти. Критика тех дней проводит интересную параллель между образом Тихого и Сторожева из пьесы «Земля» того же автора и видит много общих черт, составляющих существо их натуры, – алчность, эгоизм.
Пьеса «Хлеб наш насущный» была поставлена в 1947 году Московским театром драмы, где только что прошла премьера «Великих дней», а вслед за ним многими театрами по всей стране и шла в течение нескольких лет. Рецензии тех лет называли «Хлеб наш насущный» значительным, проблемным произведением. Отмечалась блестящая игра артистов, в особенности А. Ханова, исполнителя роли Тихого, создавшего колоритный и впечатляющий образ новоявленного кулака, пришедшего на землю, типичного «носителя индивидуалистических пережитков», как писали о нём критики.
Да, то был, несомненно, социалистический реализм, но при этом один из лучших его образцов. «Хлеб наш насущный» написан рукой крепкого профессионала с соблюдением всех законов жанра: занимательной коллизией, насколько позволяла сельская тематика, динамичным диалогом, столкновением характеров – в данном случае «положительных» и «отрицательных».
Надо сказать, что Николай Вирта обладал редким даром, сочетающим в себе талант прозаика и драматурга. Тяга к театру, к сцене, к изобразительной пластике присутствовала в нём с юных лет, однако развивать в себе эти способности моему отцу не пришлось. И лишь после постановки «Земли» во МХАТе ему представилась возможность приобщиться к современным методам сценического мастерства. Он целый год был слушателем студии МХАТ, где читались лекции драматургам, литературоведам, постановщикам, вообще «театральным людям». Отец всегда вспоминал это время с теплотой и благодарностью. «Сподобился в кои-то веки стать студентом», – говорил он про себя и признавался, с каким трепетом открывал всякий раз тяжелые резные двери студии и как много полезного почерпнул для себя во время учёбы.
«За этот год я прошел огромный курс, великую науку МХАТа, школу настоящей драматургии. Здесь я научился смотреть на сцену не так, как смотрел раньше, когда писал «Землю». Здесь я узнал, что такое актер и режиссер, что такое слово в пьесе…» – писал Н. Вирта в очерке «Год в школе Художественного театра».
Ну а как же правда о земле?! Разве не видел писатель, обладавший генетическим пониманием деревни, где кроется корень зла? Быть может, и видел. Кто знает, что думал он по этому поводу? Однако вряд ли мы можем с позиций сегодняшнего дня предъявлять претензии автору за то, что он не покусился на самые основы социалистического способа ведения сельского хозяйства, порочной практики государства в отношении деревни! Наивно было бы предполагать, что даже тень сомнения в правильности линии коммунистической партии, проводимой в деревне, могла промелькнуть в каком-нибудь художественном произведении тех лет.
Несомненно, что все послевоенные годы творчество отца происходило с оглядкой на Кремль, где бодрствовал, ни на минуту не теряя бдительности, великий вождь. Не так страшно для отца было попасть в «лакировщики действительности», если пользоваться терминологией тех лет, как стать «апологетом кулачества», что чуть было не произошло с писателем в самом начале его литературной биографии.
Сложно утверждать однозначно, чего больше в такой пьесе, как «Хлеб наш насущный», – умышленного искажения реалий того времени или все-таки искреннего самообмана. Николай Вирта по своему общественному темпераменту не мог не откликнуться на самые острые проблемы современности, однако была ли девальвация глубины этих проблем прямым отражением «легкомысленной сделки с эпохой» (по выражению Пастернака) или же неумышленным бессилием писателя трезво оценить бесперспективность линии, начертанной партией для развития деревни? Кто возьмётся судить об этом сейчас! Печальнее всего обреченность подобных произведений, чей срок измеряется мерой «актуальности» для нужного момента, после чего они предаются забвению. В этом смысле судьба многих произведений советской литературы поистине трагична.
Незадолго до войны, в Кремле Сталин пообещал писателям, в ночной беседе с ними, заняться объединением славян в единую братскую семью. Победа в войне давала возможность вождю всех народов вплотную приступить к осуществлению этого замысла. Проводимая в отношении стран ближнего зарубежья политика насильственного насаждения социализма советского образца достаточно красноречиво свидетельствовала о серьёзности намерений Сталина. В странах Восточной Европы возникало активное сопротивление действиям «большого брата», Москва со своей стороны усиливала давление.
В таком политическом климате в 1948 году появляется пьеса Н. Вирты «Заговор обреченных». В каком-то смысле эта драма оказалась злым пророчеством – в 1948 году ещё никто не предполагал, что в недалёком будущем мир, содрогаясь, будет наблюдать за тем, как на улицы Будапешта медленно вползают советские танки, а позднее окажется перед лицом разгрома Пражской весны. А тем временем в преддверии грядущих событий пьеса «Заговор обречённых» или «В одной стране», как в подзаголовке назвал ее автор, показывала, как в этой самой стране коммунисты вели ожесточенную борьбу за установление своего диктата и искоренение последних остатков свободы.
Острая злободневность пьесы сделала ее сенсацией дня.
В самом начале 1949 года ее поставил Театр им. Евг. Вахтангова, а вслед за тем в Москве Малый театр, Театр Транспорта, МХАТ, в Ленинграде Академический театр им. Пушкина и многие другие театры страны.
Рубен Николаевич Симонов, постановщик «Заговора обречённых» в Театре им. Евг. Вахтангова, занял в спектакле первый состав актеров. Ганну Лихта, лидера коммунистов, играла А. Орочко. Блестящую и коварную Христину Падера, министра продовольствия, – Ц. Мансурова. Материал пьесы давал ей возможность создать яркий образ обольстительной и опасной интриганки, плетущей нити заговора против коммунистов и Советского Союза. Обаятельная, юная тогда актриса Ю. Борисова исполняла роль Магды, влюбленной в привлекательного рабочего паренька, которого играл Ю. Любимов. Это был замечательный дуэт двух молодых и необычайно красивых актеров. Сэра Генри Мак-Хилла, американского магната, выразительно играл М. Астангов, мастерски используя для создания образа сатирические, а подчас и гротесковые краски. В роли фермера Варра выступал А. Горюнов – простоватый и прямодушный крестьянин в его исполнении пользовался неизменной симпатией зрителей, и его появление на сцене сразу же встречали дружными аплодисментами. Все в этом спектакле были хороши – И. Молчанов в роли социал-демократа Иоакима Пино, Н. Бубнов в роли кардинала Бирнча. В театре был постоянный аншлаг, цветы, аплодисменты. Это был гвоздь сезона.
Ещё более популярным был фильм, снятый по пьесе «Заговор обреченных» в 1950 году режиссером М. Калатозовым. В нём снимались известные актеры: Л. Скопина, С. Пилявская, Н. Судаков. И вот ещё одна сенсация – в роли кардинала Бирнча впервые за весь свой сложный творческий путь появился на экране недавно вернувшийся из эмиграции А. Вертинский. Роль кардинала была создана как будто бы специально для него – величественная фигура в роскошных облачениях, потрясающие жесты его удивительных рук, во всём – ему одному свойственная пластика, изящество, изыск. Безусловно, Вертинский принес фильму дополнительный успех, – зрители ходили в кино смотреть на популярного певца. Отклики в прессе были самые восторженные. Такие серьёзные критики, как, например, Б. Галанов, с энтузиазмом писали о том, что фильм является «остропублицистическим произведением, изобличающим поджигателей войны», и, не кривя душой, восторгались игрой актеров.
Аудитория этих произведений Н. Вирты была огромной, тысячи и тысячи людей в провинции, в городах и сёлах видели фильм, ходили на спектакль.
С позиции сегодняшнего дня можно лишь поражаться тому, что «Заговор обреченных», в котором поддерживалась экспансионистская политика СССР в отношении стран ближнего зарубежья, был востребован многими прославленными театральными коллективами, что его ставили лучшие режиссеры страны, что фильм снимал знаменитый М. Калатозов, что в нём играли известнейшие актеры, а публика валом валила на спектакль и на фильм. Вот и подумаешь невольно о коллективной ответственности общества в целом перед судьбами Отечества.
Пьеса и фильм «наверху» очень понравились, и Н. Вирта получил за «Заговор обречённых» свою последнюю, четвертую Сталинскую премию.
Как бы там ни было, но «Заговор обречённых» вошел в историю советского театра, а само его название стало отчасти именем нарицательным.
В пятидесятые годы Н. Вирта написал большое число драматургических произведений, большинство из них было поставлено в различных театрах столицы и по провинции, но быстро сошло со сцены, не оставив сколько-нибудь заметного следа. Не буду на них останавливаться и приведу лишь неполный их список: «Мой друг, полковник», «Солдатские жёнки», «Тихий угол», «Однажды летом», «Гибель Помпеева», «Три камня веры», «Желанная», «Тихоня», «Солдаты Сталинграда», «Три года спустя».
В начале пятидесятых годов у Н. Вирты началась новая полоса жизни. Я уже упоминала о том, что мои родители расстались, и отец женился во второй раз. Одновременно он переехал жить в село Горелое Тамбовской области. Расположено оно в одном из самых живописных мест области. Для Николая Вирты Тамбовщина была тем же самым, что Вешенская для Шолохова, Дальний Восток для Фадеева или Саратов для Федина.
Мой отец построил на краю села красивый деревянный дом, выходящий окнами на Цну, насадил сад, разбил цветник, держал лошадь. Он стремился вникнуть в новую сельскую жизнь, от которой некоторое время был оторван. Писатель стал депутатом областного и районного советов, заместителем председателя областного и председателем районного комитетов защиты мира. Кроме того, Вирта принимал активное участие в литературной жизни Тамбова и области, – он был редактором альманаха «Тамбов», одним из руководителей областной писательской организации, членом худсовета областного театра.
Я навещала его в то время в Горелом. Отец уезжал из дома рано утром, объезжал колхозы, поля, МТС и возвращался к ночи. А иной раз его можно было дождаться только на следующий день, он допоздна засиживался где-нибудь у местного начальства и оставался ночевать там, где заставала его темнота. За пять лет пребывания в послевоенной деревне писатель глубоко изучил её проблемы, с близкого расстояния увидел те помехи, которые встают на пути к её процветанию. Да, но если бы одного только знания фактического материала было достаточно для создания художественного произведения!
Написанный на Тамбовщине роман «Крутые горы» впервые был выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1956 году, но не имел такого резонанса, как предыдущие произведения Н. Вирты ни в прессе, ни в читательской аудитории.
Надо сказать, что в дальнейшем Н. Вирта талантливо использовал фактический материал, заложенный в романе «Крутые горы», и на его основе создал одну из своих наиболее удачных пьес «Дали неоглядные». Но об этом я скажу позже, а сейчас нам предстоит поговорить немного о дрязгах.
После смерти Сталина недругам моего отца было самое время с ним расправиться. Ага, мол, как-то теперь будет сталинскому любимчику (или поднадзорному), когда не стало покровителя (или тирана)?! Ату его! И борзописцы не замедлили исполнить заказ.
В «Комсомольской правде» 17 марта 1954 года появился фельетон «За голубым забором» (не буду называть фамилии авторов), насквозь проникнутый духом ненависти и доносительства. Обличительный пафос этого сочинения представляется ныне просто смехотворным. Он заключается в том, что переехавший в деревню писатель ведет образ жизни, отличный от жизни окрестных крестьян. Действительно, жизнь писателя сильно контрастировала с тем, что представляла собой в то время тамбовская деревня. Возможно, надо было вести себя скромнее, не все выставлять напоказ. Однако истинная подоплёка развязанной травли состояла отнюдь не в том, чтобы преподать писателю урок этики, а совершенно в другом. Слишком долго стоял он в стороне от всяких кланов, от интриг и разборок, постоянно сотрясавших стены Союза писателей, умудряясь в то же время сохранять, помимо независимости, еще и завидное благосостояние. «Сигналы» могли поступать как из недр районного тамбовского начальства, если он кому-то там особо насолил, так и от коллег-литераторов, не знаю. Однако трагедия отца в 60-е годы состояла не в том, что за неимением каких-либо политических обвинений недоброжелатели следили за каждым его неверным шагом в частной жизни и спешили сделать его достоянием гласности.
Трагедия отца состояла в другом.
Казалось бы – сверху на него больше никто не давил. Всесильное время разрушило оковы всесильной власти, и теперь он был свободен и как художник, и просто как думающий человек. Он многое мог переосмыслить, вернуться к своим истокам, к деревне, и написать о ней всё, что знал, сказать слово правды. В 50-е годы публикуются первые произведения новой волны, волны хрущевской «оттепели», наступившей после разоблачения культа личности Сталина. В «Новом мире» А. Твардовского печатаются «Районные будни» В. Овечкина, родоначальника «деревенской прозы», оказавшей столь сильное влияние на оздоровление нравственного климата в нашей стране. Появляются «Не ко двору» и «Ухабы» В. Тендрякова – это был вызов обществу, не желавшему до той поры обращать внимание на деревенские проблемы. Вслед за Тендряковым в шестидесятые годы выходят в свет произведения Б. Можаева, В. Белова, В. Распутина. Николай Вирта, несмотря на то, что в 1953 году ему было всего лишь сорок семь лет, так и не обрёл второго дыхания, не написал неожиданного о своих корнях, о земле. Слишком долго гнула его власть, слишком долго существовал он под страхом возмездия за своего отца, и что-то главное в нем надломилось, перегорело. А может быть, сказалось и другое – вынужденное употребление дарованного ему свыше таланта для «легкомысленных сделок с эпохой», как выразился Б. Пастернак? Кто знает…
Но вернемся к роману «Крутые горы» – именно в связи с этим романом Николая Вирту ждал еще один всплеск успеха. С ним произошла история, аналогичная той, которая случилась ровно двадцать лет тому назад, когда к нему обратился Немирович-Данченко и предложил написать пьесу по роману «Одиночество». Тогда была создана и поставлена во МХАТе пьеса «Земля». На этот раз Ю. Завадский предложил отцу сделать инсценировку по роману «Крутые горы» для постановки в Театре им. Моссовета, которым он руководил. В тесном содружестве с театром была написана пьеса «Дали неоглядные» и поставлена к сорокалетнему юбилею Октябрьской революции. Такова была эпоха – самые значительные спектакли обязательно появлялись в какие-то юбилейные дни. Это был великолепный спектакль – замечательный театральный коллектив вдохнул жизнь в роман «Крутые горы», и деревня предстала перед зрителями во всей своей красоте, сложности и драматизме.
Премьера пьесы «Дали неоглядные» состоялась в Театре Моссовета 4 ноября 1957 года. Зал был полон, зрители горячо приняли спектакль. И снова фамилия Вирты замелькала в газетах и журналах, и снова афиши, афиши, афиши…
Спектакль поставил сам Завадский, декорации писал художник А. Васильев, музыку специально для этой постановки – В. Мурадели. В. Марецкая блистательно сыграла роль Анны Павловны Ракитиной, Р. Плятт читал текст от автора. Это была одна из звездных ролей великого актера.
А через три года в том же театре состоялась новая премьера. Ю. Завадский поставил спектакль «Летом небо высокое» по пьесе Н. Вирты, и он также был тепло встречен зрителями.
Обе эти пьесы были переведены на иностранные языки, шли за рубежом. Для отца на фоне недавно развернутой против него кампании, нанесшей огромный урон его самочувствию как моральному, так и физическому, успех двух последних его драматургических произведений явился большой поддержкой.
В шестидесятые годы он по-прежнему много работал. Из-под его пера вышли роман «Возвращённая земля», повесть «Мой помощник Карсыбек», рассказы «Воодушевленный Егор», «Обходчик», «Наша Берта», «На проезжей дороге», «Серый денек», пьесы «Три камня веры», «Средь бела дня». Однако эти произведения Н. Вирты не стали художественным открытием и потому остались как бы на обочине его творческой биографии.
Отец, как всегда, был во власти разнообразных планов и идей. Но он не приобщился к миру шестидесятников, в писательском сообществе стоял особняком, все больше и больше замыкаясь в себе, мало бывал на людях. Хотя у него были поводы для радости, не все еще было исчерпано. Он мог гордиться былой своей славой: по стране во многих театрах шли его драматургические произведения, в столице и в провинции переиздавались романы, выходили сборники рассказов и очерков. Он многое видел, много ездил. Однако поездки порой лишь углубляли общий его пессимизм. Из Америки он вернулся в состоянии психологического надлома: он всё примерял американское благополучие к ситуации в нашей стране и приходил в отчаяние и уныние. Поездка в Японию лишь усугубила депрессивный настрой. Его душевный дискомфорт объяснялся, надо полагать, не в последнюю очередь ухудшением здоровья. Но может быть, для этого были и другие, не менее серьезные причины…
Так закончилась эта жизнь, опалённая Гражданской войной, а затем обласканная советской властью. Но взамен она потребовала от него душу.
Николай Евгеньевич умер в московской городской больнице в ночь с 8 на 9 января 1976 года. До его семидесятилетия оставался почти год. Похоронен мой отец в Переделкино, где он прожил едва ли не сорок лет, на сельском кладбище, неподалеку от той церкви, в которую любил заходить.
Москва, 2006 г.
Фотографии
Прадед Самуил
Дед о. Евгений Карельский
Бабушка, мать отца
Рахиль
Борис Наумович Липницкий
Павел Каган
Рахиль после замужества
Рахиль с младшим сыном Юрой
Елена Ржевская с Виктором Некрасовым
Встреча друзей. – П. Горелик, И. Крамов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий
Сашка на одеяле
Сашка с папой
Я с мужем и Максим с женой Таней
Берестинский М. И.
Старший брат Боба с Наташей и Леной
Я с мужем Юрием Каганом
Братья на банкете
Полная реабилитация, выданная Б. Н. Липницкому
Грамота за доблестный труд (фамилия написана с ошибкой)
Грамота за участие в боях за освобождение немецких городов
Родители поженились
Два брата у нас на даче
Отец за работой
Интерьер кабинета в Переделкине
Мама на даче с собаками
Родители перед войной
Друзья отца И. Петров и Ю. Герман
Александр Николаевич Афиногенов
Иван Тимофеевич Спирин
Олень на батарее, Мурманск. Фото Н. Вирты
Могилы погибших. Фото Н. Вирты
Разруха, Сталинград. Фото Н. Вирты
В окопах Сталинграда. Фото Н. Вирты
Началась война
Спаслись, Сталинград. Фото Н. Вирты
Пленные немцы. Фото Н. Вирты
Отец с пленными
Фельдмаршал Паулюс сдается в плен. Фото Н. Вирты
Отец с генералом В. И. Чуйковым, Веймар, 1945 год
Мне 21 год
Одна из последних фотографий отца
Отец с постановщиком фильма «Сталинградская битва» В. Петровым