Укок. Битва Трех Царевен Резун Игорь
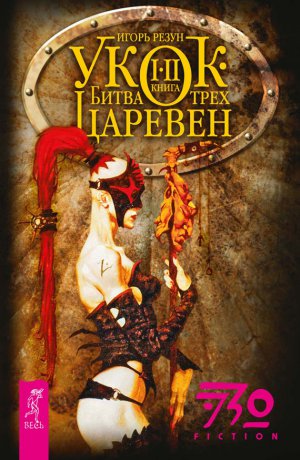
— Нет. Кислотой. Уничтожено все: винчестер, коробки с дисками. Просто и со вкусом, — усмехнулась Лис. — Пожар — это дым, шум, разборки. А тут все тихо и мирно.
В кухоньке повисла тишина, только часы разбивали ее на ровные осколки. Кстати, на часах — час ночи.
— Кто мог знать про «сиреневый эффект»? — спросил Шкипер.
— Кто? Я, ты! И еще Тятя-Тятя. А она?
— Связи нет, — Лис качнула головой. — Дома ее тоже нет. Мать ее ищет. По моргам, больницам… Мы были.
— Вот дела!
— Да уж.
Шкипер треснул кулаком по столу — так, что зазвенела посуда в шкафчике.
— Вот, мля! Никаких примет той бабы, ни фоток! К кому он ходил, кого снимал, с кем возился?
— Вы забыли, мальчики, — подала голос Лис. — Она тоже могла знать. Скорее всего, она как раз и знала, наверняка. Про «сиреневое»…
Лис отвела ногу, посмотрела на свою босую пятку и вздохнула:
— Медный, пластырь есть? Первый раз за все лето порезалась, когда к тебе бежали.
— Там, у окна на телевизоре, — хмуро проговорил Медный.
Она, стараясь не наступать на пятку, ушла. Медный посмотрел на поникшего Шкипера.
— Ты думаешь, всему виной та медная хреновина?
— Уверен, — глухо обронил он. — Именно с этого все и началось. Кто-то среди наших — из той секты!
Видимо, он уже чуть-чуть успокоился. И рассказал еще две вещи: во-первых, оказывается, вчера ночью в телецентр приходила отсутствовавшая на семинаре Тятя-Тятя. Одна! Почти ночью! Охранник сначала ее вроде как не пускал, но потом сдался под ее напором и отдал ключи от их комнатушки, якобы для срочной уборки. Сказав это, Шкипер побледнел:
— Улльра! Там?
Медный отрицательно качнул головой:
— Нет, вовремя прибрал.
А во-вторых, Шкипер обнаружил дома в своих вещах странный, не сразу заметный беспорядок, будто там рылись. И по результатам осторожного выяснения в узком кругу выходило: пока все они были на семинаре, их квартиры — собственные и арендуемые, пустые и полные родственников — кто-то очень незаметно, даже фантастически незаметно, но обшарил. Медный сразу вспомнил о теплом блоке своего монитора.
Они вышли из кухни. Медный сел на тахту, Шкипер — в кресло. Лис возилась там, где-то у телевизора. Медный хотел было включить свет, но внезапно услышал очень тихий голос девушки:
— Свет не включайте, мальчики. Я думаю, за нами следят.
«…Около пяти тысяч жителей Республики Алтай требуют вернуть в республику мумию так называемой „принцессы Укока“, которая в настоящее время хранится в Новосибирске. Обращение с таким требованием жители направили на имя главы республики, а также в Государственную Думу РФ. Под обращением стоят подписи 4654 человек. В документе говорится: „Мы обращаемся к вам с просьбой о скорейшем решении вопроса по возвращению известной мумии укокской принцессы в Национальный музей республики Алтай. Данный вопрос обсуждался в средствах массовой информации, велись переговоры с руководством Института археологии и этнографии СО РАН, однако они не получили развития“. Многие духовные лидеры Алтая, говорится в обращении, связывают болезни и стихийные бедствия в республике именно с раскопками и вывозом „принцессы Укока“ с Алтая. Кроме того, авторы обращения не исключают и силового решения проблемы: как рассказал нашему корреспонденту один из лидеров местной шаманской общины, пожелавший остаться неизвестным, алтайцы уже предприняли ряд действий оккультного характера, чтобы выпустить на волю дух их Принцессы…»
Дэниэл Марсан. «Скандалы в России»Еру Australian, Сидней, Австралия
Людочка с трудом выпросила у Ирки разрешение сходить в институт, чтобы убраться у Мумиешки: звонил Алтынбаев из профкома, долго извинялся, а потом рассказал, что заменяющая ее уборщица пол в коридорах моет, а к Мумиешке — ни ногой: боится! Институт ожидает крупную делегацию из Англии, и поэтому надо там хотя бы влажную уборку сделать.
Ирка дернула плечами:
— Ну, Ваше Высочество, если только в порядке милости к рабам Вашим, недостойным облобызать даже пятки Ваших божественных ног! Иди уж…
И девушка пошла. В обычном своем зелененьком, но с золотой черепахой и бирюзой на голых ногах. А по дороге размышляла: ну вот разговаривала она с Мумиешкой, протирала ее стеклянный саркофаг, без страха смотрела на эти сморщенные кости, обтянутые кожей. А что она про нее знает? Да ничего. Ну, пазырыкская культура третьего-пятого веков до нашей эры, ну, богатая женщина, захороненная вместе с десятью конями (или верблюдами?). Ничего она не знает.
Людочка помнила, как плевался Шимерзаев после какой-то пресс-конференции, проходя по коридору: «Какая принцесса? У-у, журналюги поганые! Обычная богатая баба, ее бы…» — и так далее. И ведь плевал! Прямо ей, Людочке, под ноги.
А девушка Мумиешку полюбила. Украдкой рассматривала татуировки, сохранившиеся на ее коже за две с половиной тысячи лет. И украшения были. Были — она точно знает! А самое интересное: ее ведь похоронили обнаженной. Это ведь потом разобрались, привезя находку с общего могильника, что кожаные сапоги, шуба, шапка, все это — от мужика, тоже похороненного рядом. Там были и сосуды деревянные, и рога для питья. А ее, Мумиешечку, голенькой схоронили, только были у нее на руках и щиколотках браслетики всякие. Это все в Москву увезли, якобы на экспертизу. А кто она такая: жрица, шаманка, принцесса или просто богатая женщина — черт его знает.
Людочку пропустили охранники. Среди них был новенький, невысокий парень, похоже, якут. Она поднялась по лестнице, щупая подошвами холодные ступени, и засмеялась, вспомнив, как она тут рассекала, как огрела Шимерзаева тряпкой, и как таила от всех этот ритуал. Господи, да она бы сейчас в институт в купальнике бы пришла! Чего ей стесняться? Она — Принцесса! Она такая не модельная, худая, у нее грудь маленькая и ступни уродливые, большие, но она все равно — красавица. Да будет так!
Войдя в кабинет и заперев его на ключ, Людочка привычно скинула халат, оставшись в одном белье, и принялась за уборку. На полу тут появился новый темно-синий шелковистый ковер, в углу блестел суперпылесос, немецкий, для влажной уборки. Даже саркофаг Мумиешке поменяли: он стал плоским, как диван. Так ее было удобнее рассматривать, стекло уже не искажало коричнево-бурые черты.
Людочка подошла и вгляделась в смятое веками лицо. Каким оно было? Сейчас не узнать. Да голую ее похоронили, ГО-ЛУ-Ю! Иначе зачем бы на ее лобок и грудь накладывали куски кожи? Истлело тут все, поэтому и наложили, чтобы не шокировать публику разъятым чревом нормальной женщины. Хотя что тут такого страшного — в священной простоте детородных органов? А была бы она в одежде, так и сохранилась бы, наверно, плохо, как тот мужик. Его тут не было, оставили на Алтае, а Людочка видела его фото: скукоженный весь, действительно страшный.
Людочка последний раз улыбнулась мертвым, пустым глазницам, мысленно пожелала Мумиешке спокойного сна и принялась убираться. А управляясь с пылесосом, думала: что ее так боятся? Ведь была же живая, теплая и горячая женщина, любила прикосновение мужских рук, любила ласки, которые, наверное, в то время были, хоть и грубее, но разнообразнее нынешних, неумелых, любила кого-то. Может, и рожала. Об этом все академические светила как-то стыдливо умалчивали.
Прошло, наверное, около часа, пока девушка прошла весь ковер, миллиметр за миллиметром, пока протерла пыль. В дверь постучали. Она метнулась было за халатом, но из-за двери придушенно донеслось:
— Эт я, Высочество! Ирка это!
Ирка залетела в кабинет, бросила что-то в пакете на пол: там, как обычно, лежали туфли и что-то стеклянное. Затем она глянула на Людочку победно:
— Убралась? Едва тебя застала.
— Ну да. Почти все уже, — растерялась та.
— Раздевайся! Совсем! — скомандовала подруга.
Людочка оторопела. Инстинктивно прикрыла грудь в лифчике.
— Но зачем?!
— Я тебя сейчас инициировать буду, — загадочно сообщила Ирка, вынимая из пакета какой-то пузырек. — Да не бойся ты! Это не больно! Надо тебя уже считать Принцессой полностью. Понимаешь?
— Я не…
— Раздевайся, а то обижусь!
И Ирка сама быстро сдернула с себя через голову синее платье, расстегнула лифчик. Людочка покорно разделась, косясь на замок дверей: заперт, слава Богу!
Подруга велела ей лечь на саркофаг, животом вверх. Вот так. Девушка не понимала зачем, но диктат Ирки действовал. В конце концов все, что она ни делала, только помогло. Молодая женщина подняла на свет, пробивающийся в зашторенные окна, пузырек с чем-то темным, как отвар из кедровых орешков.
— Что это? — прошептала Людочка.
Ирка плеснула жидкость на широкую ладонь с сильными пальцами, привыкшими выкручивать половые тряпки, и шлепнула ее на правую грудь девушки.
— Ман-дра-го-ра! — торжествующе ответила она. — У гомеопата знакомого достала. Не спрашивай, как… Ужас и кошмар!
Она втирала этот терпко пахнущий состав ей в груди, массируя их, в живот, в бедра так, что сама раскраснелась. Людочка закрыла глаза. Семь бед — один ответ! Ее тела касалась обнаженная Иркина грудь, щекотя соском, и хотя никаких желаний у Людочки не возникало, это было как-то мистически возбуждающе. От этой жидкости ее тело приобрело необыкновенную легкость, что-то странное забурлило в крови, какая-то немота потекла от бедер по всему организму.
— Мандрагора, — говорила Ирка, натирая ее составом, — это такая фигня, по-арабски «иабрунен», растение. А фиг его знает, как на самом деле, мать, но, вообще-то, оно растет из спермы. Ну, то есть когда человека вешают, например…
— О, Господи!
— Тихо! Не дергайся! Так вот, когда вешают, его член, значит, сокращается и выбрасывает семя. Последнее семя в его жизни, поняла?! Там, куда оно стекло, в земле вырастает корешок такой, мандрагора. Он, знаешь… ну, короче, он такого человечка, а точнее, член с ручками напоминает! — Ирка хихикнула. — Мне гомеопат показал.
— Кого?
— Блин! Мандрагору!!! Так вот, она была запрещена инквизицией и являлась символом настоящего колдовства. Женщина, употребившая мандрагору, приносит своим любовникам необыкновенное наслаждение, но они сходят потом с ума и погибают.
— Ой, может, не…
— Спокойно! Мать, ты че, любовников собралась заводить? Пусть мрут, как мухи. Тебе Принц нужен. Живой и веселый. В общем, это сильное успокоительное со снотворными свойствами, Гиппократ лечил ею самоубийц, Флавий… забыла!.. а, одержимых бесом. Сильный гал-лю-ци-но-ген. Так. На живот переворачивайся. Фу ты, господи, я сама вся горю. Людка… то есть Высочество! От тебя не только мужики, но и бабы дохнуть будут, — кожа-то какая. Я не лесбиянка, но и то облизать всю готова. Ладно, проехали, Принцесса. Так вот, мандрагору…
— Слушай, а чем это пахнет?
— А я туда менструальной крови добавила… твоей, — сообщила Ирка. — Помнишь, просила у тебя типа для анализов?
— Вот… дура!
— Стараемся, Ваше Высочество! — смиренно ответила подруга. — Зато будет приворот, так приворот. Лежи смирно! Главное, мать, она от бесплодия излечивает.
— А я, что…
— Молчи давай.
Ирка закончила растирать тело Людочки, пройдясь по всей спине и дойдя даже до нежных мест между пальчиками ног. Она выдохнула тяжело, как после изнурительной работы, и приказала:
— А теперь лежи, как муха осенняя. Никто нас не потревожит. Я охранникам сказала, что мы все шторы перестирывать будем. Поняла?
— Ага.
— А я посижу тут, рядом. Блин, тоже кайф словила, аж трясет!
С этими словами Ирка бухнулась на синий ковер, достала из пакета с туфлями три банки пива, расставила их вокруг себя и откинула кудлатую голову со вспотевшим лбом. В углах ее чувственного рта резко обозначились ранние морщины.
— Позу прими, — словно засыпая, сказала она, — как у твоей Мумиешки.
Людочка повернулась. Соображая, что творится нечто, выходящее за грани сознательного: две почти голые женщины сидят в кабинете с останками древней мумии, — она все же повернулась и удобно улеглась на стеклянной крышке, поджав под себя ноги. Теперь она в точности повторяла позу Мумиешки, и та смотрела на нее снизу бурым своим, оскаленным черепом.
Ей это казалось, или она заснула? Две женские фигуры плыли в пространстве, словно два разных, но симметричных отпечатка. Одна — покрытая лохмотьями кожи, коричневая, как высохшая глина, другая — белокожая. Но у них были примерно одинаковой ширины бедра, одинаковые широкие и костистые ступни, даже провалившаяся грудь мумии была схожа с Людочкиной. Девушка погружалась в охватывающий ее сон, но это все же был не сон. Она одновременно ощущала, что лежит голой на холодном стекле, в самом центре Академгородка, и с другой стороны — что парит над бескрайним белым плато, изрезанным белыми, пробитыми в скальной породе каналами.
Пахло горькой полынью, степными травами и кровью.
Где-то неподалеку дико ржали испуганные кони.
Им хладнокровно резали глотки.
Но Людочку это уже не удивляло.
Под ней, на земле, в сыром квадрате могилы, лежала другая женщина, тоже нагая, в той же позе. На ее руках и тонких щиколотках горели в свете солнца массивные золотые украшения, а самое большое, в виде черепахи, закрывало ее выпирающий лобок. Сухой ветер катил по плато шарики перекати-поля, сыпал красноватую пыль в ее мертвые глаза, закрытые золотыми скорлупками. Наконец Людочка увидела ее лицо и поразилась, что оно совсем не азиатское. В этом узком и длинном лице просматривалась какая-то финно-угорская скуластость, а кожа была желтоватой, как у финикийки, а не медно-красной, как у людей, суетившихся где-то рядом. Впрочем, они интересовали ее не больше, чем муравьи, делавшие свою обычную работу покорно и даже лениво. Они сваливали в выкопанную рядом яму конские трупы, тащили камни с подножия плато. Людочка со своей высоты видела все, даже крашенные каким-то природным красителем ногти ее рук и ступней. Последние были совсем не длинные, словно их не коснулся процесс усыхания тела, давший европейцам повод сочинить легенду о необыкновенном росте ногтей и волос у свежих покойников.
Людочка видела даже мальков каких-то рыб, плескавшихся неподалеку в теплой воде радоновых источников. Но вот эти копошащиеся люди представлялись ей однородной массой.
Сияло высокое солнце, сверкал лед на вершинах гор Табын-Богдо-Ола, по преданию, названных так самим Чингисханом, восхищенным их величием. Парила в небе пятерка серых журавлей.
По сторонам от могильника, камни для которого поднимали эти «муравьи», тянулись продолбленные в земле каналы — геоглифы — глубиной от полутора метров до двух. Группа людей сосредоточенно долбила последний из таких каналов. Людочка отчего-то знала, что в тот день, когда могильник будет окончен, геоглифы покроют все плато паутиной, различимой только с большой высоты, и туда потечет светящееся Молоко Гамаша, сверкая мертвенным синим огнем. Но до этого момента было еще далеко.
Это нагое тело было ей так близко и знакомо, что она ощущала, как ее бедра касаются сырой земли, а между указательным и средним пальцами правой ступни — там, где у нее прочно сидело золотое колечко, — ползет какая-то букашка: то ли червяк, то ли жук. Она знала, что эти двое: и женщина, и мужчина, лежащий в отдалении и уже одетый в шубу и мохнатые сапоги, — умерли в один день, слившись в сладостном совокуплении, разорвавшем их сердца почти одновременно. Их и хоронили вместе. Но ее — повыше. Это означало, что она — Женщина, Мать всего мира, сама Земля, Гея — была и остается главной в этой жизни, дающей потомство, без которого иссякнет любой род.
Неожиданно Людочка ощутила, как ее вырывает из парения, как несет к земле. Но вместо удара о камни она почувствовала какое-то мягкое вхождение в это холодное тело. На секунду ее окатило мертвящей волной, у нее остановилось дыхание…
И вот она снова на этом же плато. Только нет ни могилы, ни копошащихся людей-«муравьев». Колючий снег, который срывало ветром с высокого холма, обложенного крупными валунами, обвивает ее босые ступни, а сама она стоит на нем, не страшась холода, и под ее шубой — нагое тело. Она входит в юрту, стоящую неподалеку от холма. Кисло пахнет козлиным мясом, шкурами, табаком. На коврах сидит человек — шаман. И лишь по выбритой на голове тонзуре она узнает в нем того самого сапожника, которому сдавала старые туфли с квадратными носами.
Он курит трубку. Затем безмолвно протягивает ей чубук, измазанный желтоватой слизью и слюной его рта. Она почему-то жадно прикасается к этому куску дерева, обсасывает его, выпуская режущий горло дым, а шаман, в беспорядочно лежащих на нем одеждах, говорит ей на неизвестном языке, но очень понятно:
— Ты родишь. Ты родишь скоро. Ты родишь девочку. Девочка будет велика. Она будет главнее, чем ты. Внутри твоего живота — наша Царевна. Ты родишь ее!
Людочка ничего не спрашивает, понимает — спрашивать бесполезно. Она смотрит вниз — туда, где разошлась на ней шуба, и вдруг видит, как начинает выпирать живот, как ее лоно наливается багровым, как вспучивается, бесстыдно вываливаясь наружу. Одежда душит… дым трубки ест глаза… Она с криком сбрасывает все с себя и, нагая, выбегает вон. Людочка бежит, молотя пятками по снегу, и ее окатывает холодом, а перед ней — обрыв плато. И, лишь успев поймать глазами сияние пиков Табын-Богдо-Ола, она с криком проваливается туда, вниз, в мертвый холод.
Людочка испустила вопль и вскочила. Скользкое тело свалилось с саркофага, как с горки, прямо на голую Ирку, на ее раскинутые ноги. Та открыла глаза, огромные, как у совы, и забормотала:
— Что? Что я? Где?
По ковру катились пустые банки из-под пива. На животе у Ирки сходило какое-то покраснение, низ трусиков — мокрый. Подруга вскочила. Так и стояли они друг перед дружкой, обалдевшие, ничего не соображающие.
Движимая каким-то инстинктом, Люда кинулась к дверям, сбила рычаг замка и выступила в институтский коридор, теперь, как мог бы написать академик Шимерзаев, действительно бесстыдно обнаженная.
И по этому коридору, удаляясь, цокая тихо по мрамору, расплывалась очертаниями та самая белая собака, кавказская овчарка, которую Людочка видела несколько дней назад!
Девушка с криком рванулась обратно, попала в жесткие руки Ирки, успевшей натянуть на себя платье.
— Чего ты?
— Там… собака! — провыла Людочка.
— Какая? А, белая псина? Да это охранник новый свою псину привел. Она старая уже, ей лет сто, — успокаивала Ирка, гладя подругу по голове. — Я когда проходила, она сидела, язык высунув: клыки у нее все стерты до десен! Расслабься.
Через полчаса, окончательно убравшись и насухо протерев саркофаг, женщины покинули кабинет. Скользя подошвами по мрамору, Ирка усмехнулась:
— Это здесь ты по воде плавала?
Людочка кивнула. Ирка, проехавшись с полметра на пятках по полу, вдруг сказала:
— Интересная житуха началась. А я, ты знаешь, перед тем, как все это случилось, тоже уже думала: может, газом себя и детей отравить? Задолбало все. А сейчас вот… ничего!
И она со смехом, вскочив задом наперед на лакированные желтые перила, съехала вниз до первого пролета.
«…Как заявил агентству Reuters шейх Низам ал-Мулк, ведущий свою родословную от правителей сирийских сельджукидов, правивших страной в XIII–XIV веках, он безвозмездно передает Иранской Национальной библиотеке богатое собрание рукописных книг, древних экземпляров Корана, долгое время хранившихся в его семье. Эти книги, по данным историков, частично принадлежат знаменитой Библиотеке Аламута, захваченной монгольским Хулагу-ханом в 1256 году и считавшейся полностью уничтоженной. Сам Низам ал-Мулк проживает в Сирии и в ближайшее время готовится к переезду в Иран. По словам шейха, в ближайшем будущем внимание мира будет сосредоточено именно на этой стране в связи с рождением нового духовного лидера исламского мира. Однако дальнейшие комментарии шейх давать отказался, сославшись на слова другого исламского теоретика средних веков, имама Джафара ал-Садика: „Наше дело есть тайна, и эта тайна того, что пребывает сокровенным, тайна, которой достаточно быть тайной“…»
Крис Мерилонн. «Кто взрывает Ближний Восток»The Independent, Лондон, Великобритания
Через восемь веков по этому ущелью проляжет железнодорожная линия Тебриз — Тегеран, уходящая далеко на восток, в сторону Ирана, на Мешхед, к пустыням Туркмении. Потом вырастет город Кередж с более чем сотней тысяч жителей. По-прежнему будет выситься, хорошо видный отсюда, вулкан Демавенд, и войсковые колонны будут проезжать в Деште-Кебиб — Большую Соляную Пустыню — грохоча гусеницами бронетранспортеров, пыля колесами армейских грузовиков.
Но сейчас здесь ночь и тишь. Разве только изредка донесется блеяние горного козла, гуляющего во тьме (не успел до заката найти удобное место ночлега!), да слышится вой волка, в это время года особо свирепого животного, голодного и бесстрашного. Ворота будущей провинции Машендеран — скала. Ее называют Аламут, но потом народ станет называть ее аль-Фариб, то есть Скала или Гора Старца.
По этим каменным ступеням поднимается Женщина, тревожа босыми, привыкшими к холоду камней ступнями нанесенные за много недель пыль и песок. На ней — накидка, которую раздувает ветер.
Тысячи ступеней на единственной лестнице в Скале. Защитники Аламута нечасто спускаются по ней, ибо наверху есть все: вода, вяленое мясо и гашиш. Единственное, чего там нет, — это женщин для потехи и еще вина. Но ни то, ни другое не одобряет Аллах. Да что там Аллах! Сам Старец следит за соблюдением Законов, и не один воин, даже самый храбрый, уже отправился вниз со скалы, но не по лестнице, а в свободном полете, распластав руки, как большая и глупая птица. И это смертельное наказание ждало любого за одну лишь высказанную про себя мысль о том, как хочется вмять в перины живое женское тело, облапить чьи-то груди грубыми руками и услышать стон.
Нет. Аламут обходится без этого. Только две женщины, имен которых не знает никто, находятся при Старце — его жены, старая и молодая. Да и те усыхают без его силы. Только иногда — об этом рассказывали самые бесшабашные воины — эти две гурии под темными накидками покидают дом, чтобы совсем рядом, на грязном полу овечьей кошары, сплести свои нагие тела в бесстыдных и бессильных к запретам ласках.
Но сейчас по ступеням поднимается Женщина. Ее никто не видел. А кто видел, тот уже мертв, ибо каждое утро охрана не досчитывается при перекличке то одного, то другого фидаина. И каждый раз это случается все выше и выше, на новых площадках этой бесконечной лестницы. Обшаривая каждую каменную щель, находят лишь отпечатки ее ступней, узких, как клинок, длиннопалых, — и все.
Только один раз сброшенному вниз повезло: он упал на спину двух спаривавшихся горных козлов и миновал их рога. При падении он убил одного из животных, другое испуганно умчалось прочь. Несчастного воина со сломанным хребтом вынесли наверх, где он, голосом, в котором неминуемая скорая смерть растворила страх, рассказал Старцу о ночной гостье.
Лица ее невозможно было увидеть, оно всегда скрыто под накидкой. Но, когда на нее бросаются с клинком, она отбрасывает в стороны эти черные полы и предстает во всей своей отвратительной Аллаху наготе, выпятив живот, огромный, как курдюк с вином, белый и покрытый сеткой мелких синеватых вен.
Так было и с этим фидаином. Тогда он воткнул в это грязное чрево саблю. Отличную саблю! Хозяину делают клинки лучшие оружейники Исфахана! Но этот клинок, закаленный и травленный во многих огнях да водах, хрустнул и сломался, как щепка. Каменный у нее живот! Она схватила воина за горло.
«И когда я… да, отпрянул!.. я знаю, Хозяин, ты казнишь меня за трусость, но я уже все равно умираю… признаюсь тебе: я испугался. Я отступил назад, но ее рука вытянулась, как змея, и обвила мое горло. Хозяин, я ощущал ее пальцы, сильные, как корни дерева, вросшего корнями в самую кручу! Она легко, как пушинку, отправила меня вниз. И вот я перед тобой, о, Всемогущий ас-Саббах!»
Старец молча слушал этот рассказ, а освободившиеся со сторожевого поста фидаины стояли вокруг, замерев. Когда говорящий умолк, Старец просто поставил на его слабое горло свою туфлю из багрового сафьяна и перепилил его, изломал, дождавшись, пока ошметки кожи, жил и хрящей трахеи не расползутся по камням бурым пятном. Неверный умер, слава Аллаху! Он струсил, он предал Аллаха. Да что там его — он предал Старца!
И будут утроены, учетверены караулы, и стражники, пугаясь каждого шороха, будут отрубать друг другу руки, кисти, наносить смертельные раны, не зная, откуда идет безмолвная Смерть с животом в синеватых венах, обремененным плодом.
А Старец будет вставать в ночи, желтыми глазами смотреть в стенку и вспоминать. Ему есть много что вспомнить. От первого пути в Аламут, с его зарезанным комендантом на плече, до того самого момента, когда он приказал бросить теплый комочек, завернутый в тряпье, со скалы вниз — туда же, куда кидали отбросы и трупы, в вечную верную могилу.
Говорили еще, что это — будущая Царевна; что, как только она дойдет до последней Ступени, кончится век Старца, и начнется его Закат; что она родит — и родит не воина, а девочку, которая станет править миром, а не только Персией, и будет делать это во сто крат лучше, чем сам Старец.
Но никто точно не знал, что произойдет. Не знал и Старец, пытаясь доискаться, где она прячется, и выяснить, кто она. Тут или в городе? Не один десяток молодых женщин с маленькими детьми задушили его верные слуги на улицах Казвина, Кереджа, Такестана и Зенджана. Девочкам-младенцам тут же разбивали черепа об камни мостовой, а если попадались мальчики, то им просто вспарывали розовенькое брюшко.
Но проклятая мстительница все поднималась и поднималась и вела свой счет фидаинам, обнаруживаемым утром с такими же раскроенными черепами на валунах внизу, где рокотал чистый горный поток.
Она все шла. И для фидаинов, передвигавшихся в бесшумных и легких, из самой дорогой кожи, сапогах, было великим страхом обнаружить поутру на лестнице, у своей площадки, узкий след босой женской ступни.
Всего этого не знала парочка, которая сейчас стояла и целовалась на площадке лестницы, тоже длинной, словно бесконечной, но всего лишь ведущей с первого этажа на шестнадцатый. И стояли они тут, потому что мало кто из жителей этого дома пользовался таким отжившим рудиментом архитектуры, как лестница, предпочитая ей бесшумный зеркальный лифт. Он теребил ее и, уже почти расстегнув на ней кофточку, хватал руками потную, скользящую грудь, когда появилась Эта.
Она шла вверх, бесшумно ступая по лестнице, и следы от ее мокрых ног — видимо, этажом ниже наступила в пролитое ими пиво — были так же узки, как кинжалы. Она была нага!
Парочка замерла в ужасе, уставясь на ее тощую грудь, узкие бедра, растрепанные волосы. А потом, добравшись взглядом до ее лица, они увидели эти набрякшие, закрытые глаза — она шла вслепую! Они вскрикнули в обоюдном ужасе и бросились вниз: сначала вжались в стену, а потом, за ее худыми ягодицами, посыпались с площадки вниз, ломая каблуки, сдирая руки о перила, перепуганные неожиданным зрелищем.
Она шла дальше.
Андрей проснулся от толчка. Сначала показалось, что Юлька толкнула его во сне бедром, но когда он разомкнул веки, не было рядом бедра, не было девушки — только пустота. Он лежал один в комнате, пухлый, неповоротливый, а на тумбочке поблескивало его второе «Я», без которого он не мог, казалось, сделать и шагу, — очки с толстыми, искажающими очертания глаз стеклами.
Парень вылетел из-под одеяла. Три секунды ровно (этому учили!) — вскочить в джинсы. Еще две — выдернуть из-под кровати сигаретную пачку (пол в доме мыл только он, поэтому тайник можно было спокойно замаскировать), прохрипеть в нее: «Объект „Невеста“. КРАСНЫЙ!!!» — и оказаться за входной дверью.
Инфракрасный анализатор — часы — уже на руке, он никогда их не снимал. Тоненькая струйка-след ползет вверх по ступенькам. Туда. Без звука. Босые ноги не касаются бетона — летят над ним.
По дороге встречаются двое, бегущие и перепуганные чем-то. Резкая реакция, безжалостная, но необходимая: ей, растелешонной, большим пальцем в выбритый висок с пирсингом, ему — в грудную часть, под самым кадыком. Снопами валятся на ступени. Отлично, разберемся. Десять минут есть, верных. Струйка ведет. Последний этаж, шестнадцатый. Замок на люке чердака перекусан, сталь толщиной в палец разорвана, как нагретый пластилин — легко. Понятно. Крыша. Здесь не нужна и струйка энергетического следа: в битуме отпечатались следы ее подошв. След от пятки — алым кружком, битум раскалился, не загорелось бы…
Над городом — ночь. Над притихшими, примолкшими огнями только Красный проспект пунктиром лезет в горку, к бывшей Туруханской площади. И ее тело.
На самом краю.
Глаза закрыты. Он забежал чуть сбоку. Стоит на этих раскаленных острых пятках с каемкой грязи — от крыши. Стоит, как прилепленная.
Стоп! Ни движения. Ни звука. Обдумать. Один звук — и она рухнет. Магия сна пропадет, лунатик окажется в яви. Где она сейчас? Там, в Аламуте, на последней ступени? Очередной стражник направил в ее живот свой кинжал?! Черт, как мало времени!..
В этот момент он слышит, как тяжело, заходя на Толмачево, над ними готовится развернуться в небе самолет. Звук этот только начал пробивать густую пену облаков, а он уже слышит.
И взметывается над крышей шестнадцатиэтажки полуголый человек, внезапно став мускулистым, напряженным, как струна. Летит в воздухе его светлый силуэт. Он приземляется на кисти, повисает над бездной в последнюю минуту, а сверху наползает тучей рокот. Она открывает глаза… качается… Могучий швырок — и…
«Прости! Я ударил тебя в грудь, но этот синяк до свадьбы заживет, у нас еще много времени до этой свадьбы, чтоб она сгинула, чтоб она провалилась — пусть не будет ее никогда».
Два тела, сплетясь, валятся на черную толь крыши, катаясь по ее липкому и шершавому настилу. И слышен испуганный голос девушки:
— Господи… ГДЕ Я?!
Спустя пять минут к подъезду подкатывает обыкновенная «Волга» с шашечками — какая-то новая парочка. Развеселая полупьяная девица с размазанной по лицу помадой и тушью смеется, дуреха-дурехой, над нетрезвой болтовней своего спутника. Оба заходят в подъезд, легко набирая его код.
На четвертом этаже сидят двое, в полной прострации. Они еще не пришли в себя от забытья и дикой боли. Они ничего не понимают. А прибывшая на такси парочка, моментально оборвав смех и разговор, сноровисто укладывает обоих молодых людей на пол, таким же четким движением прижимает к их искаженным лицам плотные марлевые тампоны и легонечко, осторожненько, на плечиках — вниз, в машиночку, до Центра.
«А паспорта есть? Есть документики. Триста пятый просит срочную информацию по всем базам данных. Ясно. Этот, с Ленинского, с мамкой живет, эту папулька с мамулькой третий час с валидолом под языком ждут. Так точно, товарищ полковник! Уже везем. Группу прикрытия — на выезд».
Спустя полчаса совершенно пьяную, но целую и даже не потерявшую честь барышню доставит домой ее «лучшая подруга», имени которой та не вспомнит наутро, и исчезнет, отказавшись от любезно предложенного чая. А парня мамке привезет улыбчивый товарищ, и, понаблюдав, как та хлещет его по голове комнатным тапком, тоже откланяется.
В комнатке, на одном из этажей, Андрей, поминутно теряя свои толстостеклые очки, будет мыть в тазике ноги Юльке, сидящей на кровати, протирая каждый пальчик, каждый милый ноготочек и убеждая виноватым голосом:
— Юльчик, да ерунда все это! Вон, даже Эйнштейн, говорят, тоже лунатизмом страдал. Это бывает. Мало ли что в башку зайдет! Ты перезанималась, точно. Главное — тебя никто не видел. В подъезде пусто, не страдай. Хорошо, что вовремя проснулся.
Еще через десять минут, когда она уснет, разметав по постели свои худые руки с нежной кожицей, он выйдет в туалет, включит воду и скажет в сигаретную коробку с изображением летящей тройки:
— Объект «Невесты». Отбой. Ситуация «Всплеск». Сканируйте источники. Конец связи.
И снова, едва коснувшись щекой подушки, обратится в тютю-матютю, толстомясого увальня с добрыми домашними глазами.
«…Европейский Центр по правам цыган подчеркивает, что сделает все, чтобы разыскать потомков первых европейских цыганских предводителей, которые, по данным Центра, находятся в России. В ближайшее время Центр намеревается направить соответствующий запрос в российское отделение Интерпола…»
Поль Лунген. «Агентура Европы»Le Figaro, Париж, Франция
Нет, наверное, худшего места в Новосибирске, большего места юдолей и скорбей, чем Центральный социальный приют облсобеса на улице Владимировской. Прямо за стеной психдиспансера.
Когда-то за этими стенами укрывались бастовавшие толпы, потом их залили кровью бойцы сибирских Частей Особого Назначения. Затем тут поселилась спецтюрьма НКВД. И наконец, в просоленных кровью и блевотиной стенах разместился приют.
Бомжей свозят сюда с разных мест. На первом этаже круглосуточно работают душевая и прожарочная. Злая тетка забирает одежду и распоряжается: «Иди наверх, сейчас принесут».
По бетонным ступеням темноватой лестницы идут совершенно голые женщины и мужчины: старухи и молодые девушки, едва справившие свое шестнадцатилетие юнцы и вконец запившиеся, истомленные похмельем, взрослые алкаши. Здесь не стесняются голого тела, здесь оно — кусок мяса, как правило, гнилой изнутри, с букетом болезней. Местный дежурный венеролог только устало сортирует: этого — в «грязную», этих — в «чистую».
В «грязной» палате веселее: там иногда пьют спирт, раздобытый у санитаров, совокупляются под кроватями, дерутся и режутся в карты, рассматривают свои половые органы на предмет кондиции: у кого еще сыпь, а у кого уже твердый шанкр.
В «чистой» — лучше и светлей. Там и простыни белее — все-таки не одноразовая серая хэбешка.
Венеролог осмотрел Патрину, стоявшую перед ним в одной, только что надетой блузочке, руками нетерпеливо раздвинул ноги: давай, мол, быстрей. Потом раздраженно бросил свой инструмент на стол:
— Все. Давай обеих в «чистую»! И тапки им дайте, блин! Шлепают тут…
Так Патрина и Мирикла очутились в настоящем бомжатнике, ибо после того, как их начали искать по всему центру города, да еще и люди вокзального «авторитета», самым лучшим местом был этот приют.
В их «чистой» женской палате было сегодня пустовато: несколько старух, коченеющих от старости, одна молодая алкоголичка, одна юная шлюшка с вокзала. Все почти что спали.
Патрину и Мириклу забрали в приют за Кудряшами. Частная охрана одного из коттеджей остановила их и вполне корректно сдала приехавшему патрулю, а тот доставил в приемник. До разбирательства.
Свет зажгла санитарка, полная недобрая женщина, зло бросив:
— Днем поспите, рыла поросячьи. Крайняя от окна и вторая за ней. И чтоб тихо у меня!
Перед сном они обнялись и поцеловались. Мирикла отпихнула Патрину на свою кровать: тут приют, не особняк.
Утро уже начало проливать свет сквозь кованые решетки на окнах, помнивших бравого начальника ОГПУ, фатоватого товарища Эйхе. Но обитательницы не торопились вставать. В зеленых с побелкой стенах пахло хлоркой и гарью от паленой одежды: труба прожарки как раз была проведена под окнами. В палату зашла работница, рявкнула: «Па-адьем!» — и прибавила:
— Ну, б…ди, потом в столовую не суйтесь!
Да и ушла. Жители приюта понемногу просыпались. Старухи возили сморщенными конечностями под простынями. Алкоголичка было проснулась, но тут же сорвала с соседней постели подушку, надвинула ее на свалявшиеся космы и захрапела снова. Встала только шлюшка. Она поднялась и голая пошла к окну, почесывая выбритую санитарами промежность. Затем повернула головку с жидкими волосиками и глянула на цыганок:
— Во, б…! Цыганья тут еще не хватало! Будете п…ть че-нить, башку оторвем!
И пошла, тряся тощими, в синяках, ягодицами, к раковине в углу — умываться и фыркать.
На завтрак они не пошли. Обе давно научились обходиться какое-то время вообще без еды, если не было еды хорошей. Молодую шлюху вскоре увезли на допрос. Пришел молоденький милиционер, и она долго выделывалась, стараясь показать ему все свои синюшные прелести, но вынуждена была натянуть скукоженное после прожарки платье и уйти. Алкоголичка проснулась и, сидя на кровати, тупо бормотала что-то.
В эту минуту в палату зашла женщина. Монашка. Сине-белое ее одеяние струилось по полу, по грязному линолеуму, нисколько, казалось бы, не пачкаясь от него. Это сочетание цветов выдавало в ней монашку ордена Святой Терезы — организации, которая всегда помогала новосибирским бездомным. Брови Мириклы при виде ее взлетели вверх, а монашка, заметив новеньких, сразу направилась к ним.
— Храни вас Всеблагой Господь, во имя Отца, Сына и Духа Его! — Она перекрестила женщин тонкими, как спички, пальчиками и присела на краешек соседней кровати. — Христианской ли вы веры, сестры?
У нее были, как у всех монашек, очень бледное, никогда не знавшее радости загара лицо, тонкие губы, прямой носик, редкие, выщипанные брови и блеклые глаза. Это были глаза, повидавшие столько мирских скорбей, что быть выразительными попросту уже не могли. Но волосы монашки — это то, чем она выделялась. Огненно-рыжие, непокорные, вьющиеся, они рвались из-под голубой косынки с белым крестиком. В худых руках — Библия в толстом фиолетовом переплете, из-под подола выглядывают белые кроссовки…
Она смотрела на цыганок, а чисто вымытые Мирикла и Патрина (душ они приняли с огромным удовольствием, санитаркам даже пришлось их оттуда выгонять) — на нее. Мирикла сидела прямо, вполоборота, а девочка, сбросив ненавистные, хлопающие по пяткам тапки — по-турецки, сплетя ступни. Монашка смотрела без всякого страха или презрения.
— Меня зовут сестра Ксения, — ровным голосом представилась она. — Я прихожу сюда каждый день.
Мирикла пошевелилась. Улыбка тронула ее красивые губы, не потерявшие точености и изящества даже без косметики.
— Да будет вам известно, сестра Ксения, цыгане никогда не были никем, кроме как добрыми христианами, — проговорила она, — со времен исхода из Индии, из Гузурата, в триста девяносто девятом, во время завоевания страны Тамерланом. Более того, мы — православные. Не знаю, будет ли это вам угодно.
Она храбро расстегнула свою кофту, приобнажая грудь, чтобы показать сестре Ксении блеснувший крестик.
Та удивилась, но удивилась вовсе не информации о вероисповедании цыган. В блеклых зрачках мелькнул интерес, монашка склонила голову.
— Богу все равно, какой форме креста Его, Всеблагого и Вседержителя, поклоняется человек. Я принимаю ваше право в выборе православия. Скажите, сестры, как я могу помочь вам, нуждаетесь ли вы в чем-либо?
На ее белый воротничок, азартно жужжа, готовилась сесть жирная приютская муха, но, едва подлетев и покружившись, с возмущенным гудением улетела: слишком чисто.
— Вы можете выслушать нас? — помедлив, проговорила Мирикла и быстро оглянулась на палату, но алкоголичка снова спала, уже сидя, а старухи по-прежнему только подрагивали под простынями.
— Я слушаю вас, да хранит вас Господь.
Монашка снова ожидающе склонила голову. Мирикла посмотрела на Патрину внимательно и заговорила негромко:
— Думаю, вы сведущи во всемирной истории, сестра, насколько я могу предполагать по знаку на вашей сутане. Ведь в Терезианском Университете в Бангалоре неучей не приветствуют?
Не обратив внимания на ее, на этот раз неприкрытое, пробившее даже привычную маску изумление, Мирикла продолжила:
— Так слушайте же меня. Итак, в десятом веке наши предки, гонимые наступлением монголов, начали откочевывать из Индии. При дворе Раджи Амритсара они были танцорами, флейтистами, кузнецами и золотых дел мастерами. Часть из нас повернула в сторону Палестины и Египта, где и осталась. Предки вот этой девочки, сидящей перед вами, пошли в Иран. Персия тогда милостиво принимала всех, не требуя верности какой-либо религии: лишь бы платили налоги. Некоторое время предки ее жили в нынешнем Тебризе. И только начавшиеся распри между персидскими правителями и низаритами-исмаилитами вынудили их покинуть Персию и следовать в Византию, еще более благосклонную к иноверцам. Там они и остались. На Пелопонессе первый известный ее предок, Симон Маг, получил в тысяча триста семьдесят восьмом году грамоту императора Константина, которому помогал в охоте. Затем мы можем отследить потомков Симона Мага с тысяча четыреста семнадцатого года, когда большая группа цыган, под угрозой натиска турок на Византию, двинулась в Западную Европу. Табор возглавлял избранный общинами король Синдел со своими «воеводами»: Михаилом, Андреем и Пануелом, который и был прямым потомком Симона Мага, единственным уцелевшим на тот момент. В таборе насчитывалось триста верховых мужчин в хорошем облачении. Прежде всего цыгане получили у венгерского дворянина Миклоша Гара грамоту, дающую право на свободное передвижение и неподсудность местным властям. Эту грамоту табор вскоре заверил у императора Сигизмунда. Она была выписана именно на Пануела. И эта грамота существует до сих пор! Далее табор разделился на четыре части. Король Синдел откочевал через Чехию в Германию, а табор Пануела через Прагу и Дрезден направился к берегам Северного и Балтийского морей — в сторону Гамбурга, Любека, Ростока. Некоторые части от него откололись на юг — к Мецу и Страсбургу. В этой части была и дочь Пануела, Синда. Она вскоре стала флейтисткой при дворе герцога де Меца. С этого времени предки Патрины… да, эту девочку зовут Патрина… живут во Франции. Религиозные войны рассеяли их по стране, но в тысяча четыреста двадцать третьем году император Сигизмунд выдает родному брату Синды, воеводе Ладиславу, грамоту. Я помню ее наизусть, сестра Ксения, так как много раз держала ее в руках. Вот она: «Мы, Сигизмунд, король Венгрии, Богемии, Далматии, Хорватии и других земель… Наш верный Ладислав, воевода цыган, и те, которые зависят от него, обратились к Нам с нижайшей просьбой оказать им Наше особое благоволение. Мы соизволили принять эту почтительную просьбу и не отказали им в такой грамоте. В соответствии с этим, если вышеназванный Ладислав и его народ появятся в каком-то из мест нашей империи, в городе или селе, мы предписываем вам проявить верность по отношению к Нам. Вам следует оказать покровительство этому народу всеми способами, дабы воевода Ладислав и подвластные ему цыгане могли бы проживать без ущерба в стенах ваших городов». В это же время Синда погибает во время заговора и осады Меца герцогом Компьенским. А Ладислав со своим табором остается на территории нынешней Венгрии. В семнадцатом веке потомки Ладислава, утерявшие свое положение, перебираются в пределы Польши. На границе их задерживают. В тюрьму помещены: пятидесятилетняя Мари (она же Мараус, она же Гроссенор) — это прямой потомок Ладислава по мужской линии; тридцатилетний вожак табора Мейо (он же Энгельбер, он же Ливма), его жена Минсбургетт и двенадцатилетняя дочь Альбертина. С этой двенадцатилетней девочки начинается полностью подтвержденная генеалогия Патрины, по документам архивов Республики Польша и России. Я не буду вам рассказывать, сестра Ксения, как в петровскую эпоху потомки Альбертины оказались на русской службе в качестве «поводных» русского царя и как развивалась история далее. Единственное, что я могу сообщить сейчас, — это то, что в тысяча девятьсот тринадцатом году в семье конского барышника Егория Лойко родилась прабабушка Патрины, московская цыганка Лизетта. Семья Лойко, кстати, много жертвовала на благотворительность, в том числе на создание первого Католического Странноприимного Дома на Малой Якиманке, хотя все члены семьи были крещены в православие.
Патрина слушала все это с открытым ртом. В алой раковине ее губок блестели ровные белые зубы. Так вот зачем Мирикла заставляла ее учить все эти старинные грамоты! Вот зачем она целыми днями читала все эти тяжелые фолианты, вместо того чтобы носиться в таборе босиком по навозным кучам! Вот почему та ее с детства делала особенной, не похожей на других, но все время заставляла быть сильнее, выносливее, чем остальные! Вот почему она старательно научила ее не стесняться своего тела и любоваться им в зеркале, становясь рядом обнаженной и показывая преимущества ее, казалось бы, нескладной фигуры! Значит, она…
В палате стояла полная, оглушающая тишина. Патрина обернулась и с ужасом поняла, что те две растрепанные старухи и украшенная синяками пьянчужка сидят на кроватях, вслушиваясь в слова Мириклы. Этого не могло быть!
Старая цыганка это тоже поняла. Поэтому встала, оправила юбки и закончила:
— Мы нашли ее на дороге. Мой покойный муж нашел, Георгий Антанадис. Я восстановила ее биографию, не пожалев денег. Все документы сейчас лежат в банке в Лозанне. Копии у меня есть. Перед вами — единственный в мире потомок первого цыганского короля Симона Мага, почти шесть веков назад получившего грамоту императора Византии Константина и пять веков назад — королевскую грамоту императора Сигизмунда. Она — царевна.
Патрина побледнела. Она стала пунцовой и в ужасе зарылась с головой в простыню, только бы не видеть этого, не знать, заснуть. По белой ткани черными ручьями текли ее роскошные волосы.
— Если вы мне не верите, — проговорила тихо старая цыганка, — то спасибо вам за смирение и терпение. Храни вас Господь так же, как и нас. Я дала обещание Богу сделать ее царевной. И я это выполню.
Патрина все равно это услышала, как бы ни затыкала она пальчиками уши, и также услышала, как зашуршал шелк, сине-белый, и голос сестры Ксении произнес:
— Я хочу забрать вас отсюда. К нам. Я должна это сделать!
В номере парижского отеля «Ritz» сладко пахло гашишем от смеси Arabian Bloore, с добавлением вишни. Этот сорт доставляли из Саудовской Аравии исключительно арабы, и ценился он поэтому дороже, чем ямайские или доминиканские смеси. Впрочем в отель «Ritz» редко заглядывали полицейские из отдела по борьбе с наркотиками, а поэтому обитателям номера можно было, не опасаясь ничего, курить свой кальян. Этот номер выходил окнами на Вандомскую площадь, с торчащим посреди гордым фаллосом Колонны, увенчанной знаком французских побед. Сейчас по комнате люкса, устланной текинским коллекционным ковром, расхаживал сухопарый смуглый человек в хорошем, сшитом на заказ костюме и начищенных остроносых штиблетах. В манжетах его были видны запонки с бриллиантами примерно в четыре карата каждый. Галстук человека, красно-зеленый, был небрежно брошен на журнальный столик из баобаба.
А на ковре, перед большим бронзовым кальяном, расположилась довольно пышная женщина. Она сидела в халате на голое тело, полураспахнутом и поэтому открывавшем ее слишком полную, а потому бесформенную и рыхлую грудь. Она скрестила ноги, сцепив их толстыми пятками, и сладострастно вдыхала дым кальяна; иногда раздавалось журчащее бульканье в сосуде, наполненном розоватой влагой.
— Как мило, что Хасан не оставил инициированных потомков, а, Робер? — говорила женщина резким и в то же время вкрадчивым голосом. — Чертовски недальновидно! Ну, еще бы, он всех убил. Моххамеда зарезал за нарушение закона… за прелюбодеяние, не так ли?
— С такой же жирной свиньей, как и ты! — холодно заметил человек в остроносых туфлях, продолжая шагать по периметру зала. Руки его, смуглые, с синеватыми ногтями, как у всех коренных ливанцев, были сцеплены за спиной.
Но женщина не обратила внимание на яд его слов. Это при других она могла называть его почтительно «Мой господин!», целовать пальцы с перстнями, а сейчас могла и расслабиться. Она продолжала втягивать в себя дым кальяна, раскачиваясь своим крепким, ширококостым телом, как будто медитируя.
— Да, это он все-таки сделал зря. А дочку, которая у него родилась, его первая жена сбросила со Скалы. И верно, зачем Старцу девочки? А потом было поздно, очень поздно. Шайх аль-Джабаль, Рашид ад-Дин ас-Синан, кто еще? Их было восемь, после него. Тогда уже было не до инициирования. Ай-ай, плохо дело. Надо было обороняться. И все, что он нам оставил, — Невесты. Да, Робер? А мы режем их, как свиней.
Робер-Антуан Вуаве расхаживал по номеру. Он никогда не курил и очень редко пил, предпочитая сухое белое вино, и поэтому сейчас сосал только мятные леденцы, запас которых всегда держал в платиновой коробочке в кармане.
Мириам между тем не успокоилась. Она сделала вдох, и ее большие глаза скатились к переносице, как у всех наркоманов, рабов кальяна, при вдохе гашиша. Потом наступил период расслабления, Мириам откинулась на подушку и заговорила снова:
— Какой ужасный, скучный город. В Лондоне было гораздо лучше, Робер. Здесь мы сидим, как в клетке, в этом вонючем отеле! Ты знаешь, мне начинают сниться нехорошие сны. В Лондоне мне не снились эти сны. А тут я вспоминаю историю, которая приключилась с Хасаном почти за год до его смерти. Ровно за девять месяцев. Тогда на лестнице, ведущей на Скалу, стали один за другим пропадать стражники. Их находили утром мертвыми, внизу. Один выжил, рассказал, что какая-то женщина с каменным чревом, которое не может пробить ни один клинок, взбирается туда по лестнице и убивает стражников, одного за другим. Хасан потерял покой, он не спал ни днем, ни ночью. А та, неуязвимая, все поднималась и поднималась. И в конце концов Хасан умер! Хотя все считали его вечным. И все прекратилось. Не было больше этой женщины. Начался упадок. Ты помнишь эту историю, Робер?
— Я не интересуюсь спекуляциями на тему Скалы, — брезгливо проговорил ливанец, замирая перед окнами.






