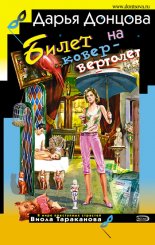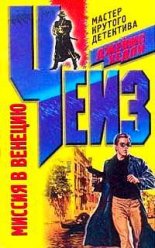Над кукушкиным гнездом Кизи Кен

– Хардинг, в чем дело? Что происходит?
– Ты об этом обо всем?
Макмерфи кивнул.
Хардинг покачал головой:
– Вряд ли я сумею тебе ответить. Нет, я мог бы назвать тебе причины с изысканными фрейдистскими словечками, и все это было бы верно до известной степени. Но ты хочешь знать причины причин, а я их назвать не могу. По крайней мере, в отношении других. А себя? Вина. Стыд. Страх. Самоуничижение. В раннем возрасте я обнаружил, что… как бы это выразиться помягче? Видимо, более общим, более хорошим словом. Я предавался определенному занятию, которое в нашем обществе считается постыдным. И я заболел. Не от занятия, надо думать, а от ощущения, что на меня направлен громадный, страшный указующий перст общества – и хор в миллион глоток выкрикивает: «Срам! Срам! Срам!» Так общество обходится со всеми непохожими.
– И я непохожий, – сказал Макмерфи. – Почему же со мной такого не случилось? Сколько помню себя, люди привязывались ко мне то с одним, то с другим, но я не от этого… Я от этого не спятил.
– Да, ты прав. Спятил ты не от этого. Я не выдавал свою причину за единственную причину. Правда, раньше, несколько лет назад, в мои тонкошеие года, я думал, что порка, которой тебя подвергает общество, – это единственное, что гонит по дороге к сумасшествию, но ты заставил меня пересмотреть мою теорию. Человека, сильного человека вроде тебя, мой друг, может погнать по этой дороге и кое-что другое.
– Да ну? Учти, я не согласен, что я на этой дороге, но что же это за «другое»?
– Это мы. – Рука его описала в воздухе мягкий белый круг, и он повторил: – Мы.
Макмерфи без особой убежденности сказал:
– Ерунда, – и улыбнулся. А потом встал, подняв за собой девушку. Прищурясь, поглядел на тусклый циферблат часов. – Скоро пять. Мне надо покемарить перед отвалом. Дневная смена придет только через два часа; не будем пока трогать Билли с Кэнди. Я оторвусь часов в шесть. Сэнди, детка, может быть, часок в спальне нас протрезвит. Что скажешь? Путь у нас завтра неблизкий – в Канаду ли, в Мексику или еще куда.
Теркл и мы с Хардингом тоже встали. Все еще порядком шатались, были порядком пьяны, но опьянение подернулось мягкой печалью. Теркл сказал, что через час вытурит Макмерфи и девушку из койки.
– И меня разбуди, – сказал Хардинг. – Когда ты поедешь, я хочу стоять у окна и спрашивать: «Кто это скачет от нас во всю прыть?»
– Иди ты к черту. Ложитесь-ка вы оба спать, глаза бы мои вас не видели. Ты меня понял?
Хардинг улыбнулся и кивнул, но ничего не ответил. Макмерфи протянул руку, и Хардинг пожал ее. Макмерфи отклонился назад, как ковбой, вывалившийся из салуна, и подмигнул.
– Большой Мак линяет, и ты, браток, опять можешь быть главным психом.
Он повернулся ко мне и нахмурил брови.
– А кем тебе быть, вождь, не знаю. Придется тебе самому решать. Может, устроишься на телевидение, играть бандитов. Главное, не суетись.
Я пожал ему руку, и мы пошли в спальню. Макмерфи велел Терклу нарвать простыней и подумать, какими узлами он хочет, чтобы его связали. Теркл сказал, что подумает. Когда я лег в постель, в спальне уже светало; Макмерфи с девушкой тоже залезли в постель. Я ощущал тепло во всем теле, но тело было как чужое. Я услышал, как мистер Теркл открыл дверь бельевой в коридоре и с громким, долгим вздохом-отрыжкой затворил ее за собой. Глаза мои привыкли к сумраку, и я увидел, что Макмерфи и девушка уткнулись друг другу в плечо, умостились как два усталых ребенка, а не как взрослые люди, которые легли в постель для любви.
Так и застали их в половине седьмого санитары, когда пришли зажигать в спальне свет.
Я много думал о том, что произошло после, и, наверно, это должно было произойти так или иначе, раньше или позже – даже если бы мистер Теркл поднял и выпустил Макмерфи и девушек, как мы задумали. Старшая сестра все равно бы дозналась о том, что было, догадалась бы, например, по лицу Билли, и сделала бы то, что сделала, и при Макмерфи и без него. И Билли сделал бы то, что сделал, а Макмерфи узнал бы об этом и вернулся.
Должен был вернуться, потому что не мог он гулять на воле, играть в покер в каком-нибудь Рино или Карсон-Сити и допустить, чтобы последнее слово, последний ход остался за сестрой, так же как не мог этого допустить, сидя в больнице. Словно подписался довести игру до конца и уже не мог нарушить договор.
Едва мы встали и разбрелись кто куда, шепоток о том, что у нас было ночью, пополз по отделению, как низовой пожар в лесу. «Что у них было?» – спрашивали те, кто не участвовал. «Проститутка? В спальне? Вот это да!» Не только она, говорили им наши, но и попойка несусветная. Макмерфи хотел выпустить ее до прихода дневной смены, но проспал. «Что ты мне мозги крутишь?» – «Не кручу – от первого до последнего слова святая правда. Я сам при этом был».
Остальные участники ночного гуляния рассказывали о нем со сдержанной гордостью и изумлением, как очевидцы пожара в большой гостинице или прорыва плотины, – но чем дальше шел рассказ, тем меньше оставалось у них уважительности. Каждый раз, когда старшая сестра и ее расторопные санитары набредали на что-нибудь новенькое вроде пустой бутылки из-под микстуры или дивизиона инвалидных кресел, выстроившихся в конце коридора на манер свободных тележек в Луна-парке, тут же вытаскивалось еще одно ночное происшествие – тем, кто не участвовал, послушать, а тем, кто участвовал, посмаковать. Всех – и хроников и острых – санитары согнали в дневную комнату, они перемешались там и взволнованно толклись друг возле друга. Два старых овоща сидели, утонув в своих подстилках, хлопали глазами и деснами. Все были в пижамах и тапках, кроме Макмерфи и девушки; она только обуться не успела, и нейлоновые чулки висели у нее на плече, а он был в черных трусах с белыми китами. Они сидели рядышком на диване, держась за руки. Сэнди опять задремала, а Макмерфи привалился к ней с сонной и сытой улыбкой.
Тревога наша непонятно почему сменилась радостью и весельем. Когда сестра нашла кучу таблеток, которыми Хардинг посыпал Сефелта и девушку, мы стали фыркать и с трудом удерживались от смеха, а уж когда в бельевой обнаружили мистера Теркла и он вышел, кряхтя и моргая, замотанный в сто метров рваных простыней, как похмельная мумия, – загоготали во весь голос. Старшая сестра восприняла наше веселье даже без тени ее всегдашней приклеенной улыбки; каждый наш смешок становился у нее поперек горла, и казалось, она с минуты на минуту лопнет, как пузырь.
Макмерфи забросил голую ногу на край кушетки, стащил на нос шапочку, чтобы свет не резал воспаленные глаза, и все время облизывался – язык у него словно отлакировали микстурой от кашля. Вид у него был больной и страшно усталый, он все время зевал и сжимал ладонями виски, но при этом продолжал улыбаться, а раза два, после очередных находок сестры, даже захохотал.
Когда сестра ушла звонить в главный корпус насчет отставки мистера Теркла, Теркл и девушка Сэнди воспользовались удобным случаем, отперли сетку на окне, помахали нам на прощанье и вприпрыжку побежали к дороге, спотыкаясь и оскальзываясь на сырой, искрящейся под солнцем траве.
Хардинг сказал Макмерфи:
– Оно не заперто. Беги. Беги за ними!
Макмерфи закряхтел и открыл один глаз, кровавый, как насиженное яйцо.
– Издеваешься? Я голову сейчас не просуну в окошко, не то что тело.
– Друг мой, ты, кажется, не вполне сознаешь…
– Хардинг, пошел ты к черту со своими умными словами; сейчас я одно сознаю – что я еще наполовину пьян. Меня тошнит. И между прочим, думаю, что ты тоже пьяный. А ты, вождь, ты еще пьяный?
Я сказал, что в носу и щеках у меня нет никакой чувствительности, если только это можно считать признаком.
Макмерфи кивнул и снова закрыл глаза; он обхватил себя руками, съехал в кресле, опустил подбородок на грудь. Потом чмокнул губами и улыбнулся, как будто задремывал.
– Братцы, – сказал он, – все мы еще пьяные.
Хардинг никак не мог успокоиться. Он долбил, что Макмерфи надо поскорее одеться, пока ангел милосердия звонит доктору и докладывает о бесчинствах, а Макмерфи отвечал, что волноваться не стоит: положение его хуже не стало, правильно?
– Всем, чем могли, меня уже угостили, – сказал он.
Хардинг развел руками и ушел, пророча гибель.
Один санитар заметил, что сетка не заперта, запер ее, ушел на пост и вернулся с большой папкой; он повел пальцем по списку, сперва прочитывая фамилии одними губами, а потом уже вслух и отыскивая взглядом человека с этой фамилией. Список был составлен в обратном алфавитном порядке, чтобы запутать людей, и поэтому он добрался до «Б» только под самый конец. Он оглядел комнату, не снимая пальца с последней фамилии в списке.
– Биббит. Где Билли Биббит? – Глаза у него сделались большими. Он испугался, что Билли улизнул у него из-под носа и теперь его не поймаешь. – Вы, балбесы, кто видел, как ушел Билли Биббит?
Тут люди стали вспоминать, где Билли; снова послышалось шушуканье и смех.
Санитар ушел на пост и сказал об этом сестре. Она бросила трубку на рычаг и выскочила в коридор, а санитар за ней следом; прядь волос выбилась у нее из-под белой шапочки и упала на лицо, как мокрая зола. Между бровей и под носом выступил пот. Она грозно спросила у нас, куда сбежал новобрачный. Ответом ей был общий смех, и глаза ее стали рыскать.
– Ну? Он сбежал, верно? Хардинг, он еще здесь… в отделении, верно? Говорите, Сефелт, говорите!
При каждом слове она вонзалась взглядом в чье-нибудь лицо, но яд ее на людей не действовал. Они встречали ее взгляд; они ухмылялись, передразнивая ее былую уверенную улыбку.
– Вашингтон! Уоррен! Идемте со мной обыскивать комнаты.
Мы встали и пошли за ними, а они отперли лабораторию, потом ванную комнату, потом кабинет доктора…
Сканлон, улыбаясь и прикрывая рот жилистой рукой, прошептал:
– Ох, будет сейчас комедия с нашим Билли. – Мы кивнули. – А если подумать, не с одним Билли – помните, кто там еще?
Сестра вместе с санитарами подошли к двери изолятора в конце коридора. Мы сгрудились сзади и вытянули шеи, чтобы увидеть из-за их спин, как она открывает дверь. Комната была без окна, темная. В темноте послышался писк и возня, сестра протянула руку и включила свет: на полу на матрасе Билли и девушка моргали, как две совы в гнезде. Сестра даже не обратила внимания на гогот, раздавшийся за спиной.
– Уильям Биббит! – Она очень старалась говорить холодно и строго. – Уильям… Биббит!
– Доброе утро, мисс Гнусен, – сказал Билли и даже не подумал встать и застегнуть пижаму. Он взял девушку за руку и улыбнулся. – Это Кэнди.
В костлявом горле у сестры что-то заклокотало.
– Билли, Билли… как мне стыдно за вас.
Билли еще не совсем проснулся и слабо воспринимал ее укоры, а девушка, теплая и вялая после сна, возилась, искала под матрасом свои чулки. Время от времени она прекращала свою сонную возню, поднимала голову и улыбалась сестре, которая стояла над ними с ледяным видом, скрестив руки; потом проверяла пальцами, застегнута ли кофточка, и опять принималась дергать чулки, прижатые к кафельному полу матрасом. Оба они двигались как толстые кошки, напившиеся теплого молока, разомлевшие на солнце; мне показалось, что они тоже еще не протрезвели.
– Ах, Билли, – разочарованно, чуть ли не со слезами в голосе сказала сестра. – Такая женщина! Продажная! Низкая! Размалеванная…
– Куртизанка? – подхватил Хардинг. – Иезавель? – Сестра повернулась и хотела пригвоздить его взглядом, но он все равно продолжал: – Не Иезавель? Нет? – Он задумчиво поскреб голову. – Ну, тогда Саломея? Славилась своей порочностью. Может быть, вы хотели сказать – демимоденка? Я просто хочу помочь.
Она опять повернулась к Билли. Он был занят тем, что пытался встать на ноги. Он перевернулся на живот, подобрал под себя колени, поднял зад, как корова, потом разогнул руки, потом оперся на одну ногу, потом на обе и выпрямился. Он был доволен своим успехом и как будто не замечал, что мы столпились в дверях, поддразниваем его и кричим: «Ура!»
Громкие голоса и смех захлестнули сестру. Она оторвалась от Билли и девушки и перевела взгляд на нашу стаю. Эмалево-пластмассовое лицо разваливалось. Она закрыла глаза и старалась унять дрожь. Она поняла, что этот миг настал: ее приперли к стенке. Когда она открыла глаза, они были совсем маленькие и неподвижные.
– Беспокоит меня, Билли, – сказала она, и я услышал перемену в ее голосе, – как это перенесет ваша бедная мать.
На этот раз ее слова произвели нужное действие. Билли дернулся и приложил ладонь к щеке, будто ее обожгло кислотой.
– Миссис Биббит всегда гордилась вашим благоразумием. Мне это известно. Она ужасно расстроится. Билли, вы знаете, что с ней бывает, когда она расстраивается, вы знаете – бедняжка сразу заболевает. Она очень чувствительна. Особенно в том, что касается ее сына. Она всегда говорила о вас с гордостью. Она все…
– Нет! Нет! – Он открывал и закрывал рот. Он мотал головой, умолял ее. – Н-не н-н-н-надо!
– Билли, Билли, – сказала она. – Мы с вашей мамой старые подруги.
– Нет! – закричал он. Его голос оцарапал белые голые стены изолятора. Он поднял подбородок и кричал прямо белой луне-лампе в потолке. – Н-н-нет!
Мы перестали смеяться. Мы смотрели, как складывается Билли, чтобы лечь на пол: голова откинулась назад, колени подогнулись. Он тер ладонью зеленую брючину, вверх-вниз. Он мотал головой в панике – мальчишка, которому пообещали немедленную порку, сейчас только срежут розгу. Сестра тронула его за плечо, успокаивая. Он вздрогнул, точно от удара.
– Билли, я не хочу, чтобы мама о вас так думала… но что мне самой прикажете думать?
– Н-н-не г-говорите, м-м-м-мисс Гнусен. Н-н-не…
– Билли, я обязана сказать, я просто не верю своим глазам – но что еще прикажете думать? Я нахожу вас на матрасе с женщиной такого сорта…
– Нет! Это н-не я. Я н-не… – Он опять поднес ладонь к щеке, и ладонь прилипла. – Это она.
– Билли, девица не могла затащить вас силой. – Она покачала головой. – Поймите, мне бы хотелось думать иначе… ради вашей бедной мамы.
Рука поехала вниз по щеке, оставляя длинные красные борозды.
– За-за-затащила. – Он огляделся. – М-М-Макмерфи! Он! И Хардинг! И остальные! Они д-д-дразнили меня, обзывали!
Теперь его лицо было прикреплено к ее лицу. Он не смотрел ни налево, ни направо, только прямо, на ее лицо, как будто вместо черт там был закрученный спиралью свет, гипнотизирующий вихрь сливочно-белого, голубого и оранжевого. Он сглатывал слюну и ждал, что она скажет, но она молчала; ее смекалка, эта колоссальная механическая сила, снова к ней вернулась – просчитала ситуацию и доложила ей, что сейчас надо только молчать.
– Они м-м-меня з-заставили! Правда, м-мисс Гнусен, она за-за-за…
Она убавила луч, и Билли уронил голову, всхлипывая от облегчения. Она взяла Билли за шею, притянула его щеку к своей накрахмаленной груди и, гладя его по плечу, медленно обвела нас презрительным взглядом.
– Ничего, Билли. Ничего. Теперь вас никто не обидит. Не бойтесь. Я объясню маме.
А в это время продолжала свирепо глядеть на нас. И ее голос, мягкий, успокоительный, теплый, как подушка, не вязался с твердым фаянсовым лицом.
– Ничего, Билли. Пойдемте со мной. Вы можете подождать в кабинете у доктора. Нет никакой нужды держать вас в дневной комнате и навязывать вам общество этих… друзей.
Она повела его в кабинет, поглаживая по склоненной голове и приговаривая: «Бедный мальчик, бедный мальчик», – а мы тихо убрались из коридора и сели в дневной комнате, не глядя друг на друга и ничего не говоря. Макмерфи уселся последним.
С той стороны прохода хроники перестали толочься и разместились по своим гнездам. Я украдкой поглядывал на Макмерфи. Он сидел в своем углу – минутный отдых перед следующим раундом, а раундов еще предстояло много. То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда. Ты можешь только побеждать раз за разом, пока держат ноги, а потом твое место займет кто-то другой.
С поста опять звонили по телефону, и приходило начальство знакомиться с уликами. Когда появился наконец сам доктор, они посмотрели на него так, как будто это он все устроил или, по крайней мере, разрешил или простил. Он бледнел и дрожал под их взглядами. Ясно было, что он уже слышал почти обо всем, но старшая сестра рассказала ему еще раз в подробностях, медленно и громко, чтобы мы тоже слушали. Слушали, как надо, на этот раз – серьезно, не шушукаясь и не хихикая. Доктор кивал, теребил очки, хлопал глазами – такими влажными, что, казалось, он ее обрызгает. Под конец она рассказала о Билли – по нашей милости он пережил трагедию.
– Я оставила его у вас в кабинете. Состояние его такое, что вам надо немедленно с ним поговорить. Он перенес ужасные страдания. Мне страшно подумать, какой вред причинен несчастному мальчику.
Она подождала, пока доктору тоже не стало страшно.
– По-моему, вы должны пойти к нему и поговорить. Он очень нуждается в сочувствии. На него смотреть жалко.
Доктор опять кивнул и пошел к кабинету. Мы провожали его глазами.
– Мак, – сказал Сканлон. – Ты не думай, что мы этой ерунде поверили, слышишь? Дело худо, но мы знаем, кто виноват… тебя мы в этом не виним.
– Да, – сказал я, – тебя никто не винит. – И захотелось язык себе вырвать – так он на меня посмотрел.
Он закрыл глаза и обмяк в кресле. Словно чего-то ждал. Хардинг встал, подошел к нему, хотел что-то сказать и только открыл рот, как в коридоре раздался вопль доктора и вбил во все лица одинаковый ужас и догадку.
– Сестра! – завопил он. – Боже мой, сестра!
Она побежала, и трое санитаров побежали – туда, где еще кричал доктор. А из больных никто не встал. Нам оставалось только сидеть и ждать, когда она вернется в комнату и объявит о том, без чего, мы знали, дело уже обойтись не может.
Сестра подошла прямо к Макмерфи.
– Он перерезал себе горло. – Она подождала, что он ответит. Макмерфи не поднял головы. – Билли открыл стол доктора, нашел там инструменты и перерезал себе горло. Бедный, несчастный, непонятый мальчик убил себя. Он и сейчас сидит в кресле доктора с перерезанным горлом.
Она опять подождала. Но Макмерфи все равно не поднял головы.
– Сперва Чарльз Чесвик, а теперь Уильям Биббит! Надеюсь, вы наконец удовлетворены. Играете человеческими жизнями… играете на человеческие жизни… как будто считаете себя Богом!
Она повернулась, ушла на пост и закрыла дверь, оставив за собой пронзительный, убийственно холодный звук, который рвался из трубок света у нас над головами.
У меня сразу мелькнула мысль остановить его, уговорить, чтобы он взял все выигранное прежде и оставил за ней последний раунд, но эту мысль немедленно сменила другая, большая. Я вдруг понял с невыносимой ясностью, что ни я, ни целая дюжина нас остановить его не сможем. Ни Хардинг своими доводами, ни я руками, ни старый полковник Маттерсон своими поучениями, ни Сканлон своей воркотней, ни вместе все – мы его не остановим.
Мы не могли остановить его, потому что сами принуждали это делать. Не сестра, а наша нужда заставляла его медленно подняться из кресла, заставляла упереть большие руки в кожаные подлокотники, вытолкнуть себя вверх, встать и стоять – как ожившего мертвеца в кинофильмах, которому посылают приказы сорок хозяев. Это мы неделями не давали ему передышки, заставляли его стоять, хотя давно не держат ноги, неделями заставляли подмигивать, ухмыляться, ржать и разыгрывать свой номер, хотя все его веселье давно испеклось между двумя электродами.
Мы заставили его встать, поддернуть черные трусы, как будто это были ковбойские брюки из конской кожи, пальцем сдвинуть на затылок шапочку, как будто это был четырехведерный «стетсон», и все – медленными, заученными движениями, а когда он пошел по комнате, стало слышно, как железо в его босых пятках высекает искры из плитки.
Только под конец, после того как он проломил стеклянную дверь и она повернула лицо – с ужасом, навек заслонившим любое выражение, какое она захочет ему придать, – и закричала, когда он схватил ее и разорвал на ней спереди всю форму, и снова закричала, когда два шара с сосками стали вываливаться из разрыва и разбухать все больше и больше, больше, чем мы могли себе представить, теплые и розовые под лампами, – только под конец, когда начальники поняли, что трое санитаров не двинутся с места, будут стоять и глазеть и борьбу придется вести без их помощи, и все вместе – врачи, инспектора, сестры – стали отрывать красные пальцы от ее белого горла, словно пальцы эти были костями ее шеи, и, громко пыхтя, оттаскивать его назад, – только тогда стало видно, что он, может быть, не совсем похож на нормального, своенравного, упорного человека, исполняющего трудный долг, который надо исполнить во что бы то ни стало.
Он закричал. Под конец, когда он падал навзничь и мы на секунду увидели его опрокинутое лицо, перед тем как его погребли под собой белые костюмы, он не сдержал крика.
В нем был страх затравленного зверя, ненависть, бессилие и вызов – и, если ты когда-нибудь гнался за енотом, пумой, рысью, ты слышал этот последний крик загнанного на дерево, подстреленного и падающего вниз животного, когда на него уже набрасываются собаки и ему ни до чего нет дела, кроме себя и своей смерти.
Я оставался там еще недели две, хотел посмотреть, что будет. Все менялось. Сефелт и Фредриксон вышли вместе под расписку вопреки совету медиков; два дня спустя выписались еще трое острых, а шестеро перевелись в другое отделение. Было долгое следствие о ночной попойке и о смерти Билли, доктору сообщили, что он может уволиться по собственному желанию, а он сообщил начальству, что пусть уж идут до конца и вышибают его, но сам он не уйдет.
Старшая сестра неделю провела в медицинском корпусе, а у нас за старшую была маленькая сестра-японка из буйного; это позволило нашим многое изменить в распорядке. К тому времени, когда вернулась старшая сестра, Хардинг добился даже открытия ванной комнаты и банковал там, своим тонким вежливым голосом пытаясь изобразить аукционерский рев Макмерфи. Он как раз сдавал, когда она вставила в скважину ключ.
Мы вышли из ванной и двинулись навстречу ей по коридору, чтобы спросить о Макмерфи. Когда мы подошли, она отскочила на два шага, и я подумал, что она убежит. Лицо у нее с одной стороны было синее и распухшее до бесформенности, глаз полностью заплыл, на горле толстая повязка. И новая белая форма. Некоторые ухмылялись, глядя на ее перед: хотя форма была теснее прежней и накрахмалена еще туже, она уже не могла скрыть того, что сестра – женщина.
Хардинг, улыбаясь, шагнул к ней и спросил, что с Маком.
Она вынула из кармана блокнотик с карандашом и написала: «Он вернется», – а потом пустила листок по кругу. Бумажка дрожала у нее в руке.
– Вы уверены? – спросил Хардинг, прочтя листок.
Мы слышали всякие рассказы: что он сшиб двух санитаров в буйном, отобрал у них ключи и сбежал, что его отправили обратно в колонию и даже что сестра, оставшаяся за главную, пока не подыскали нового врача, назначила ему особое лечение.
– Вы вполне уверены? – переспросил Хардинг.
Сестра снова вынула блокнот. Движения давались ей с трудом, и рука ее, еще более белая, чем всегда, ползла по блокноту, как у ярмарочных цыганок, которые за денежку пишут тебе судьбу. «Да, мистер Хардинг, – написала она. – Если бы не была уверена, не говорила бы. Он вернется».
Хардинг прочел листок, потом разорвал и бросил обрывки в нее. Она вздрогнула и заслонила рукой распухшую сторону лица.
– Хватит за… нам мозги, мадам, – сказал ей Хардинг.
Она посмотрела на него долгим взглядом, рука ее подрожала над блокнотом, но потом она повернулась и, засунув блокнот в карман, ушла на сестринский пост.
– Хм, – сказал Хардинг. – Кажется, беседа получилась несколько бессвязная. А впрочем, если тебе говорят: хватит… нам на мозги, – что ты можешь написать в ответ?
Она попыталась навести порядок в отделении, но легко ли этого добиться, если Макмерфи все еще топает взад и вперед по коридорам, хохочет на собраниях, распевает в уборных. Она не могла прибрать нас к рукам, тем более что одной рукой приходилось писать на бумажке. Она теряла больных одного за другим. После того как выписался Хардинг и его забрала жена, а Джордж перевелся в другое отделение, нас, побывавших на рыбалке, осталось только трое: я, Мартини и Сканлон. Я пока не хотел уходить: уж больно уверенный у нее был вид; похоже было, что она ожидает еще одного раунда, а если это так, я хотел, чтобы это произошло при мне. И однажды утром, когда Макмерфи отсутствовал уже три недели, она начала последнюю партию.
Дверь отделения открылась, и санитары ввезли каталку с карточкой в ногах, где жирными черными буквами было написано: МАКМЕРФИ, РЭНДЛ П. – ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ. А ниже чернилами: ЛОБОТОМИЯ.
Ее ввезли в дневную комнату и оставили у стены рядом с овощами. Мы подошли к каталке, прочли карточку, потом посмотрели на другой конец, где в подушке утонула голова с рыжим чубом и на молочно-белом лице выделялись только густые лилово-красные кровоподтеки вокруг глаз.
После минутного молчания Сканлон отвернулся и плюнул на пол.
– Фу, что она нам подсовывает, старая сука? Это не он.
– Нисколько не похож, – сказал Мартини.
– Совсем за дураков нас держит?
– А вообще-то неплохо сработали, – сказал Мартини, перейдя к изголовью и показывая пальцем. – Смотрите. И нос сделали сломанный и шрам… даже баки.
– Конечно, – проворчал Сканлон, – но какая липа!
Я протиснулся между другими пациентами и стал рядом с Мартини.
– Конечно, они умеют делать всякие шрамы и сломанные носы, – сказал я. – Но вид-то подделать не могут. В лице же ничего нет. Как манекен в магазине, верно, Сканлон?
Сканлон опять плюнул.
– Конечно, верно. Эта штука, понимаешь, пустая. Всякому видно.
– Смотрите сюда, – сказал кто-то, отвернув простыню, – татуировка.
– А как же, – сказал я, – и татуировки умеют делать. Но руки, а? Руки-то? Этого не сумели. У него руки были большие!
Весь остаток дня Сканлон, Мартини и я высмеивали эту штуку – Сканлон звал ее дурацкой куклой из ярмарочного балагана; но шли часы, опухоль вокруг глаз у него начала спадать, и я заметил, что больные все чаще и чаще подходят и смотрят на тело. Они делали вид, будто идут к полке с журналами или к фонтанчику для питья, а сами поглядывали на него украдкой. Я наблюдал за ними и пытался сообразить, как поступил бы он на моем месте. Одно я знал твердо: он бы не допустил, чтобы такое вот, с пришпиленной фамилией, двадцать или тридцать лет сидело в дневной комнате и сестра показывала бы: так будет со всяким, кто пойдет против системы. Это я знал твердо.
Ночью я ждал до тех пор, пока звуки в спальне не сказали мне, что все уже спят, и покуда санитары не кончили со своими обходами. Тогда я повернул голову на подушке, чтобы видеть соседнюю кровать. Я уже много часов прислушивался к дыханию – с того времени, когда привезли каталку и переставили носилки на кровать, слушал, как запинаются и перестают работать легкие, потом начинают снова, и надеялся, что они перестанут совсем, – но не поглядел туда еще ни разу.
В окне стояла холодная луна и лила в спальню свет, похожий на снятое молоко. Я сел на кровати, и моя черная тень упала на него, разрезала его тело поперек между плечами и бедрами. Опухоль вокруг глаз спала, и они были открыты; они смотрели прямо на луну, открытые и незадумчивые, помутневшие оттого, что долго не моргали, похожие на два закопченных предохранителя. Я повернулся, чтобы взять подушку, глаза поймали это движение, и уже под их взглядом я встал и прошел метра полтора или два, от кровати до кровати.
Большое, крепкое тело упорно цеплялось за жизнь. Оно долго боролось, не хотело ее отдавать, оно рвалось и билось, и мне пришлось лечь на него во весь рост, захватить его ноги своими ногами, пока я зажимал лицо подушкой. Мне показалось, что я лежал на этом теле много дней. Потом оно перестало биться. Оно затихло, содрогнулось раз и затихло совсем. Тогда я скатился с него. Я поднял подушку и увидел, что пустой, тупиковый взгляд ни капли не изменился, даже от удушья. Большими пальцами я закрыл ему веки и держал, пока они не застыли. Тогда я лег на свою кровать.
Я лежал, накрывшись с головой, и думал, что все обошлось без особого шума, – но ошибся.
Сканлон зашептал со своей кровати:
– Спокойно, вождь. Спокойно. Все правильно.
– Замолчи, – прошептал я. – Спи.
Стало тихо; потом он опять зашептал:
– Все кончено?
Я сказал ему:
– Да.
– Господи, – сказал он, – она догадается. Ты же понимаешь? Конечно, никто ничего не докажет… всякий может загнуться после операции, бывает сплошь и рядом… но она – она догадается.
Я ничего не ответил.
– На твоем месте, вождь, я бы рвал отсюда. Беги, а я скажу, что видел, как он встал и ходил после твоего побега, и на тебя не подумают. Правильная идея, скажи?
– Ну да, как все просто. Попрошу открыть дверь и выпустить меня.
– Нет. Один раз он тебе показал как – вспомни. В первую же неделю. Помнишь?
Я ему не ответил, и он больше ничего не сказал, в спальне опять было тихо. Я полежал еще несколько минут, потом встал и начал одеваться. Когда оделся, залез в тумбочку Макмерфи, вынул его шапку и попробовал надеть. Она была мала, и мне вдруг стало стыдно, что примеряю ее на себя. Я бросил ее на постель к Сканлону и вышел из спальни.
Он сказал мне вдогонку:
– Спокойно, браток.
Лунный свет, протискивавшийся сквозь сетки на окнах в ванной комнате, очерчивал тяжелый пульт, блестел на хромированных деталях и стеклах приборов – такой холодный, что, казалось, слышишь, как он щелкает, падая на металл. Я набрал полную грудь воздуха, нагнулся и схватил рычаги. Я напряг ноги и почувствовал, как под махиной что-то хрустнуло. Снова натужился и услышал, как выдираются из пола провода и муфты. Вскинул пульт на колени и сумел обхватить одной рукой, а другой поддеть снизу. Металл холодил мне скулу и шею. Я встал к окну спиной, потом развернулся, на половине оборота выпустил пульт, и он по инерции с протяжным треском прорвал сетку и окно. Стекло расплескалось в лунном свете, словно холодной искристой водой окропили, окрестили спящую землю. Я перевел дух, подумал о том, чтобы вернуться за Сканлоном и кое-кем еще, но тут в коридоре послышался беглый писк санитарских туфель, и я, опершись рукой на подоконник, выскочил вслед за пультом – под лунный свет.
Я побежал по участку в ту сторону, куда бежала когда-то собака – к шоссе. Помню, что бежал громадными скачками, словно делал шаг и долго летел, пока нога не опускалась на землю. Мне казалось, что я лечу. Свободен. Никто не гоняется за беглыми, я знал это, а Сканлон сумеет ответить на любые вопросы о мертвом – незачем так бежать. Но я не остановился. Я пробежал без остановки много километров, а потом взошел по откосу на шоссе.
Меня подсадил шофер-мексиканец, гнавший на север грузовик с овцами, и я загнул ему такую историю насчет того, что я профессиональный борец-индеец и гангстеры упрятали меня в сумасшедший дом, что он тут же остановился, отдал мне кожаную куртку прикрыть мой зеленый наряд и одолжил десять долларов на еду, пока буду добираться на попутных до Канады. На прощание я попросил его написать свой адрес и сказал, что, как только подработаю, сразу вышлю деньги.
В Канаду я, может быть, и правда отправлюсь, но по дороге, наверно, заеду на Колумбию. Покручусь вокруг Портленда, у реки Худ и у Даллз-Сити – вдруг встречу наших из поселка, таких, кто еще не спился. Хотелось бы посмотреть, что они делают с тех пор, как правительство захотело купить у них право быть индейцами. Я слышал даже, что некоторые из племени стали строить свои хилые деревянные мостки на гидроэлектрической плотине и острожат рыбу в водосливе. Дорого бы дал, чтоб на это посмотреть. А больше всего охота посмотреть наши места возле ущелья, вспомнить, как они выглядят.
Я там долго не был.