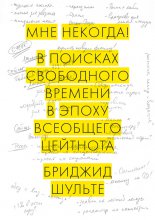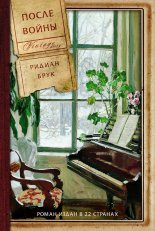Абрамка Замлелова Светлана

I
На свете есть только две великие идеи – Бог и другая.
Если бы я верила в Бога!.. Я раздала бы всё и стала бы всем слугой. И мыла бы раны прокажённым, и омывала бы ноги нищим. Но где взять веру?
И я мечтала о красивых и сильных людях с открытыми лицами, ослепительными улыбками и пленительными телами, потому что если нет Бога, то самая прекрасная идея на земле – это быть как боги.
Быть как боги – значит быть равным среди равных. Мы говорим «мы», но каждый сознаёт своё «я». Мы любуемся друг другом, но каждый не похож на другого. Наше единство не кажется нам обременительным, в нём нет ничего от стадности, когда слабые, неинтересные люди вынуждены сбиваться в стаи. Мы, именно мы – сильное, прекрасное, избранное меньшинство – творим судьбы мира. На нас устрояется мироздание, и на нас равняются народы. Мы освобождаемся от оков любых традиций и становимся для большинства Абсолютом. Именно мы достигаем невиданного ранее расцвета Личности, мы взращиваем человеческое древо, отсекая больные ветви. Для нас нет препон, мы сами есть мера всех вещей. И множество низших, безликих существ, толкаясь, тянут к нам руки и стараются хотя бы прикоснуться к одному из нас!..
Но пока я и сама была таким же ничтожеством, толкущимся возле обиталища богов. Я знала, что никто из них не ждёт меня. Ведь на Олимп каждый идёт своей тропой, скопом залезть туда невозможно. И на вершине каждый надеется только на себя, не пробавляясь сказками о сердобольности. Потому что там собираются люди, живущие настоящим, презирающие прошлое и не нуждающиеся в будущем. Их удел – наслаждение, которое они заслужили.
Чтобы быть как боги, нужно иметь что-нибудь особенное, что-нибудь вроде пропуска. Большинству таким пропуском служат деньги или положение в обществе. Кто-то пробивается, благодаря своим талантам. Я не располагала ничем в достаточном количестве. К тому же в нашем городе нет и не было ничего похожего на Олимп, а все мечтатели вроде меня уезжали хотя бы в Москву. Везло, понятно, не всем. Но портреты двух или трёх наших земляков мы видели в газетах и журналах. Одна девочка из нашей школы появлялась даже на обложках. И когда я смотрела на это красивое, смеющееся лицо, на ровные белоснежные зубы, на персиковые щёки, блестящие матовым блеском, на белокурые волосы, струящиеся вдоль шеи, на длинные ногти с белыми кончиками, на тонкие бретельки маленького чёрного платья, мне становилось грустно. Ведь она, красивая, сильная, среди себе подобных – она уже воплотила мою мечту. Хотя дело, конечно, не в ногтях и бретельках. Это всего лишь атрибуты, знаки отличия.
Но что мне делать, чтобы наследовать жизнь красивую – я пока только задавалась вопросом, когда в нашем городе произошли странные события.
А началось всё смертью одной старухи.
Происшествие, могущее показаться заурядным, когда бы ни сто пятый юбилей, который Мария Ефимовна справила незадолго до своей кончины.
Нет никаких сомнений, что Мария Ефимовна Люггер была и остаётся легендой и, можно даже сказать, достопримечательностью нашего города. Все мы давно свыклись с мыслью, что Мария Ефимовна – участница двух революций и гражданской войны – есть неотъемлемая часть нашего города, как площадь перед зданием правления или городской парк. Не одно поколение горожан выросло на примере Марии Ефимовны. А потому и в отношении нашем к ней было что-то почти мистическое – казалось, она не родилась от отца с матерью как все прочие люди, а была всегда и пребудет вовек.
В краеведческом музее с незапамятных времён висит портрет Марии Ефимовны и краткая её биография, из которой можно узнать, что родилась Мария Ефимовна в патриархальной религиозной семье в одной из западных губерний тогдашней Империи. Подростком, Мария Ефимовна примкнула к революционному движению. И, в качестве проверки, учинённой товарищами по партии, метнула бомбу в какого-то генерала. Генерал вскоре скончался, а Мария Ефимовна оказалась за решёткой. Потом были побег и заграница, прокламации и пломбированный вагон, революции и гражданская война. В 39-м Марию Ефимовну арестовали, в 54-м вернули честное имя. С тех пор Мария Ефимовна посвятила себя народному просвещению, быв и учителем истории, и директором школы и возглавив перед пенсией городской отдел народного образования.
Повидавшая Ленина и Максима Горького, для нас Мария Ефимовна давно уже стала символом или эмблемой. «Человек-эпоха», – написала к её столетнему юбилею местная газета. И все согласились с этим, несмотря даже на те разоблачения, без которых невозможно было обойтись в последние годы. Это сегодня журналисты соревнуются в сочинительстве альковных побасенок, но было время, когда подписчикам предлагали совсем иные истории. Тогда было модным разоблачать и срывать маски. Конечно, столичной печати не было дела до Марии Ефимовны Люггер, но местные борзописцы просто не могли обойти её своим вниманием. Не то, чтобы они как-то особенно ненавидели Марию Ефимовну или жаждали отмщения. Тем более что в городе её любили и гордились ею. Просто время тогда было такое. Публика алкала правды, а газетчики и романисты, захлёбываясь в новой информации, старались унять эту алчбу. Многие тогда сделали себе имя, публикуя самые дерзкие и совершенно невозможные дотоле версии истории.
Надо и тут отдать должное Марии Ефимовне, которая отнеслась к разоблачительным заметкам на свой счёт с беспримерной невозмутимостью. И это несмотря на то, что среди разоблачителей оказалось немало бывших учеников её и даже последователей.
В городе статейки почитывали, бывало и удивлялись. В целом же отношение к Марии Ефимовне не менялось, за исключением разве каких-нибудь крайних, радикальных элементов нашей общественности.
Более же других удивлял всех Иван Петрович Размазлей. Иван Петрович – это мой отчим. Сейчас он городской голова, а начинал учителем истории. В классе, где учился Иван Петрович, классным руководителем была Мария Ефимовна. Это был её последний выпуск, её последняя любовь.
Иван Петрович слыл в классе лидером. Тогда уже это был карьерист – с самого почти детства его то выдвигали, то избирали на какие-то должности. То он занимал совершенно загадочный и непонятный для меня пост Председателя Совета Отряда, то, волею комсомольского собрания, становился Комсоргом.
Может, существовало между ними какое-то сходство, и Иван Петрович напоминал Марии Ефимовне её самоё в юности. А может, глядя, с каким рвением следует заветам партии юный комсорг, Мария Ефимовна вспоминала революционную молодость и гражданскую войну, боевого коня и товарища Маузера... А может, Иван Петрович напоминал ей какого-нибудь молоденького комиссара, затянутого в чёрную кожу? Но только как иначе объяснить особенное расположение Марии Ефимовны к «Ваничке Размазлею»? Ведь и умирая, не забыла она любимого ученика, оставив ему по завещанию «революционный хлам» – так назвал эти вещи Иван Петрович. Среди «хлама» оказалась пачка старых фотографий, на которых Мария Ефимовна, точно кавалерист-девица, позировала верхами. Была ещё потёртая кубанка с красной ленточкой, расшитый мешочек для чернильницы, несколько пожелтевших писем, которые Иван Петрович не удостоил прочтением. Было стальное перо, сломанные очки и изрядно потрепанный томик Бабеля. Дома, в кругу семьи, Иван Петрович довольно насмеялся над революционной сентиментальностью Марии Ефимовны. На публике торжественно и даже с оттенком трагизма передал вещи в дар краеведческому музею. Не сомневаюсь, что Иван Петрович и сам метит в экспонаты. И надеется увидеть со временем собственный портрет и биографию в одном из залов. Думаю, именно с этим умыслом он и затеял лет пятнадцать тому назад писать диссертацию о революции и революционерах. Само по себе желание понятное, да и тема не предосудительная. Вот только главной фигуранткой исследования опять-таки стала Мария Ефимовна Люггер.
Лучшие и наиболее яркие страницы диссертации публиковались в местных газетах.
Может быть, Иван Петрович и не сказал своей диссертацией ничего нового, зато он так ловко переставил акценты, так мастерски поменял местами чёрное и белое, что город вздрогнул. Все и так знали, что Мария Ефимовна воевала в гражданскую и участвовала в подавлении белогвардейских мятежей. Со слов же Ивана Петровича выходило, что Мария Ефимовна расстреливала пленных белогвардейцев. Да и как расстреливала! Будто бы, расположившись в каком-то брошенном провинциальном театре, Мария Ефимовна и компания услаждались спектаклями: на сцену выводили пленённого офицера, а революционная молодёжь, соревнуясь в меткости, открывала стрельбу из зала. Мишенью служил офицерский лоб.
Ничего более богомерзкого городская пресса ещё не предлагала. А Мария Ефимовна на наших глазах превращалась в отвратительного монстра. Многие просто отказывались верить Ивану Петровичу и кляли его как лжеца и вероотступника. Другие, напротив, торопились и предлагали лишить Марию Ефимовну персональной пенсии.
Но дело это так ничем и не кончилось.
Времена, когда горожане могли позволить себе потолковать об исторической справедливости были на исходе. Вместо этого стали поговаривать о банкротстве керамического завода. И про Марию Ефимовну скоро забыли. Правда, в связи с кончиной её кое-кто вспомнил об Иване Петровиче и даже усмотрел в его публикациях причину преждевременного ухода стопятилетней старухи. Но это уж была совершенная нелепица.
II
Мне всегда казалось, что Иван Петрович беспрерывно что-то ищет, но что именно, не знает сам. А оттого и найти не может. И в этом, пожалуй, главная его мука, потому что как вечный жид, обречён Иван Петрович на годы странствий и поиска.
Ведь Иван Петрович так и не защитил своей диссертации о революции и революционерах, потому что увлёкся идеей демократических выборов, которые тогда только входили у нас в большую моду. Возмечтав быть избранным в законодательное собрание, Иван Петрович оставил научные изыскания, и все силы свои бросил на агитацию. Забегая вперёд, скажу, что вся эта затея с выборами провалилась тогда. Молодого и энергичного Ивана Петровича в городе знали не только как автора нашумевших публикаций, он был известен своими прогрессивными убеждениями. Став в продолжении своей карьеры директором школы, Иван Петрович завёл в подвластном ему учреждении такие удивительные порядки, что иные ретроградные родители назвали их невозможными.
Был самый конец восьмидесятых годов, и к ретроградам уже не очень-то прислушивались. Даже высокое начальство остерегалось порой одёргивать и ставить на место входивших во вкус преобразователей.
Среди учеников Иван Петрович очень скоро сделался всеобщим любимцем и своим парнем. Прежде всего, Иван Петрович отменил по субботам обязательную тогда школьную форму. Потом он учредил в школе какой-то особенный комитет, куда входили выборные представители от учителей, родителей и от старшеклассников. Комитет собирался раз в неделю, Иван Петрович много говорил о демократических преобразованиях в школе, чем приводил слушателей в восторг, но дальше этого дело не шло.
– Теперь всё зависит только от нас, – уверял Иван Петрович. – Мы сами теперь должны решать свою судьбу.
Комитетчики радовались новой возможности и благодарно аплодировали Ивану Петровичу. Однако, что именно нужно теперь делать и почему школа не может существовать как раньше, никто из них в толк взять не мог.
Наконец ничегонеделание комитета стало слишком заметным и неприличным. На третьем или четвёртом заседании, в видах борьбы за успеваемость, постановили исключить кого-нибудь из школы.
По поручению Ивана Петровича учителя отобрали двоих. Вместе с родителями жертвы были приглашены на заседание комитета. Иван Петрович вынес на голосование вопрос о целесообразности их дальнейшего обучения в школе. Большинством голосов сочли дальнейшее обучение целесообразным, и заседание комитета на этом закончилось. Собирались потом ещё несколько раз. Говорили об успехах демократии в школе. А потом и вовсе перестали собираться.
К тому времени Иван Петрович устроил в школе клуб весёлых и находчивых. Для начала набрали две команды из старшеклассников и назначили между ними день состязания. Смотреть и болеть собралась вся школа. И праздник удался. Особенно же были довольны сами артисты, которых накануне сняли с занятий. Иван Петрович тоже остался доволен. И вот его стараниями в городе решено было устроить состязания между командами КВН всех городских школ. Первый тур был назначен на декабрь, местом проведения выбрали Дворец Культуры имени Радека – лучшую сцену в городе.
Во всех школах города в срочном порядке были устроены свои клубы весёлых и находчивых, и те, кому выпало состязаться в декабре, приступили к репетициям.
Команда Ивана Петровича вышла в полуфинал, который, как вскоре стало известно, назначили на февраль. Стоит ли говорить, что занятия в школе перестали интересовать кавеэнщиков. После уроков сходились у кого-нибудь дома и до ночи просиживали, бренча на гитарах и мечтая о предстоящей победе в полуфинале. Многие родители были довольны: такой солидарности, такой горячей дружбы между школьниками никогда ещё не было. Ивана Петровича поминали почти как благодетеля. Но ретрограды и тут не молчали: выпускникам не мешало бы подумать о будущем – хмурились они – пора готовиться к выпускным и вступительным экзаменам, пора концентрировать усилия и собираться с мыслями.
Но об этом оказалось невозможно и заикнуться, особенно после того, как школа Ивана Петровича одержала бесспорную победу в полуфинале и вышла в финал, назначенный на апрель. За победу в финале власти города пообещали приз – трёхдневную путёвку в Таллинн.
Время тогда было особенное, вовсю дул ветер перемен, и всем хотелось чего-то необычайного. Школьники, которым почти отменили форму и у которых теперь спрашивали совета об отчислении нерадивых товарищей, тоже как будто опьянели и заподозрили, что отмена формы и занятий – события одного порядка. И что репетировать вместо уроков – это так и надо, потому что вполне в духе времени. И когда финал был выигран, а победившей команде вручили плюшевого медведя и обещанную ранее путёвку, кавеэнщики, перепутав жизнь с мечтой, и вовсе потеряли головы. Иван Петрович был поднят на щит, все ретрограды посрамлены. А на другой день местная пресса устроила победившей команде овацию: «Настоящей сенсацией стала финальная игра КВН!.. Фортуна сопутствовала им на протяжении всей игры!.. Победившая команда награждена путёвкой в Таллинн!.. Спасибо Ивану Петровичу Размазлею – организатору праздника!..»
Потом был Таллинн: узкие кривые улочки, толстые круглые башни. Но вскоре по возвращении домой не замедлил и час расплаты за лёгкую и весёлую жизнь. Ни один из вчерашних кавеэнщиков не выдержал вступительных экзаменов в ВУЗы.
И это было в то самое время, когда Иван Петрович готовился принять участие в выборах в законодательное собрание, и повсюду висели листовки с круглой его физиономией. А старшеклассники проводили летние каникулы, агитируя на улицах города голосовать «за самого демократичного кандидата». Когда же какой-то солидный господин, которому школьники сунули пачку прокламаций, попытался выяснить у вожака агитаторов – востроглазой, румяной барышни – что это такое значит, она только воскликнула:
– Ах! Он такой демократичный!
А больше ничего не нашла сказать.
И вот, по странному рассуждению горожан, «неподготовленных, – как отозвался Иван Петрович, – к демократии», выходило, что самый демократичный и прогрессивный человек не мог представлять город в законодательном собрании.
И всё же Иван Петрович продолжал оставаться убеждённым поборником реформ. В студенческие годы у него произошла смена мировоззрения, чему способствовала и стажировка в Европе. Иван Петрович любил рассказывать ребятам о своих тогдашних открытиях. Ребята слушали, раскрыв рты. Потерпев поражение на выборах, Иван Петрович придумал устроить в школе кружок по изучению истории и целиком отдался своему новому детищу. Теперь два раза в неделю собирались в классе и при свете зелёной лампы слушали и задавали вопросы. Собственно историей занимались мало, всё больше разоблачениями. Читали Евгению Гинзбург, из «Архипелага ГУЛАГа», что-то в защиту Бухарина и Троцкого.
Кружок истории просуществовал целый год. Кабинет, где проходили занятия, едва вмещал всех желающих. Родители и учителя ликовали: впервые столько ребят выказывало желание приобщиться истории. Но, как ни странно, из пятнадцати человек, державших летом вступительный экзамен по истории, справились только двое. Остальным пришлось на год оставить мечту о высшем образовании. Но Иван Петрович уже не был в то время директором школы.
Кажется, был какой-то скандал из-за мимолётного романа Ивана Петровича с одной старшеклассницей. Но скандал этот постарались заглушить, для чего Ивану Петровичу предложили перейти на работу в Отдел Культуры. Иван Петрович предложение охотно принял.
В пароксизме нетерпения Иван Петрович хватался за новые и новые идеи, рассчитывая на скорый и громкий результат. Казалось, Иван Петрович всё не может определиться. Старое было поругано и уже смердело. Новое хоть и открывало возможности, но открывало их не каждому, требуя взамен отказа от привычек и взглядов, отказаться от которых вот так сразу было непросто. А Иван Петрович считал себя человеком интеллигентным, он морщился при виде бесцеремонности. Ему мерещилось какое-то идеальное устройство: хотелось продолжать ощущать себя интеллигентом и наслаждаться при этом всеми благами, доступными смертным – семейным счастьем и уважением коллег, славой и народной любовью, плодами труда своего и Бог знает, чем ещё. Хотелось, кстати, и в Бога верить, и бывать на мессах. Но всё почему-то устраивалось не так, как грезилось.
Семейное счастье и вовсе, по-моему, у него не задавалось. Брак с моей матерью второй у Ивана Петровича. Первая его супруга, Наталья Алексеевна, сама сделала ему предложение и сама же оставила его после четырёх лет совместной жизни. Оставила ради какого-то разбитного молодца, с которым и уехала в Москву. Объяснила свой поступок Наталья Алексеевна тем, что разглядела в новом избраннике человека предприимчивого.
Наталья Алексеевна нередко совершала довольно странные поступки, объяснение которым находилось не сразу. Это была особа довольно крупная, ширококостная, с сильными руками и большой грудью. Впрочем, несколько сутуловатая. В лице её всегда было что-то напряжённое, даже когда она смеялась. Усиливали это впечатление губы – тонкие и бесформенные.
Главная странность Натальи Алексеевны заключалась в том, что, будучи нрава тихого, она то и дело удивляла всех суждениями настолько циническими, что и видавшие виды, тёртые и потасканные люди приходили в смущение. Странность довольно распространённая, среди людей, желающих казаться. Желание казаться толкает человека на несообразные поступки. Наталье Алексеевне, очевидно, рассудилось, что чем циничнее и бессердечнее будут её деяния и суждения, тем более здравого смысла и ума проглянет за ними. «Никаких сантиментов!» – был её девиз.
Ивану Петровичу Наталья Алексеевна так и объявила:
– Я тебя люблю, Ваня, но выбираю деньги!
Хотя и денег-то особенных тогда не было. А вероятнее всего, что Наталья Алексеевна сочла такого рода поступок за проявление ума, а момент подходящим, чтобы ум свой кому-то показать. Хотя сегодня до нас доходят слухи, что второй супруг Натальи Алексеевны неплохо устроен и даже, кажется, имеет отношение к известному банку. Впрочем, совсем недавно пришло известие, что Наталья Алексеевна в тюрьме, и что будто бы она наняла убийцу для расправы с конкурентами мужа. Иван Петрович, когда узнал, совершенно растерялся и долго восклицал, что «этого никак не может быть». Но потом признал, что именно этого или чего-нибудь в этом роде он как раз таки ждал и боялся.
После развода с Иваном Петровичем Наталья Алексеевна хотела забрать дочку, бывшую тогда четырёх лет. Но Иван Петрович вмешался и проявил неожиданную твёрдость характера, настояв, чтобы девочка осталась с ним.
А примерно через год Иван Петрович женился на моей матери. Точнее было бы сказать, что мать женила его на себе. А я так думаю, что кто бы ни позвал его тогда – за любую бы пошёл. И удивляюсь: как могло случиться, что никто до моей матери не успел подхватить этакого жениха.
Мне было тогда три года. Наверное, я была так мала, что Иван Петрович поначалу не замечал меня. По-моему, однажды он удивился, заметив, что у него теперь две дочери. Впрочем, меня никогда почему-то не замечали. Сначала и вовсе скользили по мне взглядом. Потом, стоило мне раскрыть рот, начинали смеяться или грубо одёргивали. Мне всегда казалось, что я всем только мешаю и всех раздражаю. Первое слово, в котором я правильно проговорила «р», было слово «дрянь». Иногда так называл меня мой настоящий отец. Когда родители мои развелись, мы с матерью убежали в другой город, где вскоре мать вышла за Ивана Петровича. Убежали, потому что отец даже и после развода не оставлял мать в покое и, случалось, её поколачивал. А бийца был убеждённый. Убеждения же его сводились к тому, что «женщину надо учить». Сколько я помню отца, человек это был маленький, тщедушный и пьяный – как говорится, у нашего Тита и пито, и бито. Чему уж он там учил мать – не знаю. Но иногда, грешным делом, почти его понимаю. Есть такая эмблема – змея, кусающая себя за хвост. По-моему, с матерью давно уже происходит нечто похожее.
Войдя в семью Ивана Петровича, мать поставила своей целью доказать, что она «не какая-нибудь там», а высокодуховная личность и не без талантов. Происхождения мать действительно самого простого. Семья же Ивана Петровича хорошая, с традициями. Так что мать поначалу и оробела. Но тут же в припадке гордости возненавидела новых родственников самой лютой ненавистью. А заодно вспомнила о каком-то троюродном брате, игравшем в Новгородском драматическом театре, и навыдумывала мне необыкновенных музыкальных способностей. За что мне очень скоро пришлось отдуваться в музыкальной школе, а после – в училище.
Вместе с тем, в характере матери прижилась непреодолимая потребность жалеть себя. Родных же Ивана Петровича мать назначила себе в обидчики. Потребность обидеться и пожалеть себя со временем становилась всё неотвязнее. К тому же всякий раз мать обнаруживала, что удовлетворения от обид и обвинений она не чувствует, да и родственники как будто мнения своего не меняют. Всё это вместе только распаляло несчастную, заставляя буквально на каждом углу кричать о брате-артисте и о моих музыкальных дарованиях.
Возможно, и был момент, когда кто-то из родни Ивана Петровича косо взглянул в сторону матери. И этого оказалось достаточно – мать, повидавшая и жестокость, и несправедливость вспыхнула мгновенно. Озлобленная, приучившаяся уже жалеть себя, мать не привыкла только прощать и запоминала каждую маленькую обиду. Лелеемые обиды, понуждали мать злорадствовать и злословить, привычка жалеть себя заставляла видеть обиды там, где их не было. Круг замыкался.
Узнав, что Иван Петрович женился на матери, Наталья Алексеевна снова потребовала назад свою дочь, которую Иван Петрович намеривался было оставить у себя и за которую так отважно бился с Натальей Алексеевной. Но на новый виток борьбы сил у Ивана Петровича не достало. И он уступил.
Наталья Алексеевна увезла дочь. Но то ли отчим не обрадовался, то ли Наталье Алексеевне вздумалось ум показывать, только Лизу, не прожившую в Москве и месяца, переправили к бабушке в деревню под Архангельском. И в следующий раз Иван Петрович увидел Лизу только спустя двадцать лет, когда Лиза, получив диплом о высшем образовании, приехала к отцу повидаться. Иван Петрович давно уже приглашал Лизу приехать, но Лиза всё как-то откладывала.
III
Лиза приехала в тот день, когда во дворце имени Радека назначили гражданскую панихиду по Марии Ефимовне Люггер. В городе только и разговоров было, что о смерти старушки. Проститься с ней пожелали все. День был объявлен нерабочим, и ко дворцу имени Радека с самого утра стали стекаться люди. Чем-то это напоминало похороны большевистских вождей. Хотя, конечно, давки на улицах не было. Но это лишь потому, что город наш не слишком многолюден. Думаю, больше здесь было любопытства, нежели другого какого-то чувства.
Хлопоты об устроении панихиды, похорон и поминок выпали на долю Ивана Петровича как городского головы. И дело не только в том, что Мария Ефимовна давно уже сделалась достоянием городской общественности, но главным образом, по причине одиночества старушки. У Марии Ефимовны был сын, но ещё в 60-е годы он переселился в США, где и почил лет десять назад. Остались у него дети и внуки, которых Мария Ефимовна никогда не видела. Сын не раз предлагал Марии Ефимовне переехать к нему, но всякий раз Мария Ефимовна наотрез отказывалась. Внуки и правнуки не баловали Марию Ефимовну своим вниманием, и никто из них ни разу не приезжал в наш город.
И всё же о смерти Марии Ефимовны решено было их известить. Иван Петрович связался по телефону с американскими Люггерами, и те, к удивлению нашему, объявили, что кто-нибудь из них обязательно приедет на похороны.
Грешным делом я и тут не увидела искренних чувств, а разве только желание развеяться да потешиться, да на медведей посмотреть. Впрочем, про себя я не сочла это чем-то дурным, скорее разумным. Ведь не убиваться же, в самом деле, американским Люггерам по своей прабабке, которую они и в глаза-то никогда не видели! «Слёзы были бы – une affectation». И не за домиком же, оставшимся от Марии Ефимовны, из Балтимора ехать.
Словом, мне нравилось тогда думать, что у этого приезжающего Люггера ничего, кроме насмешливых и потешных соображений и быть не могло. Возможно, всё было и не так, но мне именно хотелось думать в этом роде. Я даже решила заранее, что оскорбляться тут нечем, а всё поделом и даже на пользу.
Люггеры делегировали к нам младшего из правнуков Марии Ефимовны. Как только приезд подтвердился, Иван Петрович захлопотал. Всё вокруг забегало, засуетилось. Решено было устроить поминки по высшему разряду – с икрой. Кто-то даже предложил шампанское. Но вовремя спохватились, что на поминках шампанское неуместно.
Люггера, прилетавшего в Москву, Иван Петрович распорядился доставить на казённой машине прямо из аэропорта. Составили программу пребывания Люггера с обязательным посещением керамического завода и краеведческого музея. Иван Петрович вошёл во вкус и хотел было предложить Люггеру остановиться в нашем доме, но мать воспротивилась. И была совершенно права. Дело в том, что в доме у нас, помимо кухни и прихожей, всего три комнаты. Так что где именно собирался Иван Петрович поселить американского гостя, осталось для меня тайной. Казалось, что Иван Петрович возлагает на Люггера какие-то особенные надежды. Дело здесь было не в русском хлебосольстве – очень уж хлопотал Иван Петрович, очень уж волновался.
На похороны Марии Ефимовны Люггер опоздал. Траурную церемонию решено было не отменять, зато поминки перенесли на несколько дней.
Приехавший Аркадий Люггер пожелал остановиться в родовом гнезде, то есть в домике Марии Ефимовны. Домик, по распоряжению Ивана Петровича, на всякий случай прибрали и приукрасили накануне. Как только сообщили, что Люггер доставлен, Иван Петрович лично отправился свидетельствовать ему своё почтение.
Домой он вернулся чрезвычайно довольный. Кажется, он даже что-то напевал себе под нос.
– Ну и как Люггер-флюгер? – спросила я.
– Люггер-то? – Иван Петрович рассмеялся. – Люггер хорош! Довольно симпатичный, молодой – лет сорока, может быть. Брюнет! – Иван Петрович снова рассмеялся. – По-русски лучше нас с тобой говорит.
– Женат? – поинтересовалась я.
– Нет! Кажется, нет…
Мать ни о чём не расспрашивала. И по одному только этому было понятно, что гроза надвигается.
IV
В организации панихиды, похорон и поминок Ивану Петровичу удалось задействовать половину города. Ему вздумалось даже настаивать на отпевании. Но Мария Ефимовна не была крещена ни в одной из христианских церквей, и благочинный, к которому Иван Петрович обратился с просьбой устроить как-нибудь отпевание, объявил, что об отпевании не может быть и речи. Ивану Петровичу бы принять и согласиться. Но он вздумал настаивать. И даже взялся объяснять благочинному, что в данном случае отпевание просто необходимо, поскольку смотреть придёт весь город. А внимание множества людей, пусть даже и в такой скорбный день, необходимо как-то занять. К тому же отпевание такой особы явно будет способствовать упрочению роли Церкви в нашем городе.
Разговор происходил в кабинете Ивана Петровича – он вызвал благочинного к себе. Секретарша Ивана Петровича, Вероника Евграфовна, дама почтенная и ненаклонная к пустым выдумкам, передавала, что благочинный возмутился настойчивостью Ивана Петровича:
– Это Церковь, Иван Петрович! – воззвал он. – Церковь Христова, а не балаган! Я на службах надеваю митру, а не шутовской колпак. И отпевать иноверку или безбожницу, пусть бы и бодрствующую в помышлениях благих, я не стану. Может, не всё и совершенно в Церкви земной, но эта Церковь лишь видимая часть. Есть же часть невидимая – мистическая! И глава ей – Христос! И Ему ответ дадим, и Ему одному поклонимся…
Но Иван Петрович так, кажется, ничего и не понял, потому что продолжал стоять на своём. Благочинный вышел из себя и уехал восвояси. Но, как рассказывала Вероника Евграфовна, позже перезвонил Ивану Петровичу и предложил встретиться уже после похорон, чтобы «очень многое обсудить». Иван Петрович предложение принял, но до последнего, даже и в обход благочинного, пытался найти «хоть какого-никакого завалящего попа», который не отказался бы служить панихиду. Уж очень хотелось Ивану Петровичу обставить похороны Марии Ефимовны!
А ведь было! Было, что обсудить Ивану Петровичу с благочинным! В самом деле, отношения главы города и благочиния складывались весьма непросто. Сначала, казалось, всё шло хорошо. Иван Петрович и благочинный отец Мануил жали друг другу руки, целовались троекратно и даже поговаривали о сотрудничестве. Но потом вдруг всё изменилось. Первые разногласия появились в связи с идеей Ивана Петровича устроить в городе парк скульптур.
Ивану Петровичу, как только его избрали городским головой, захотелось войти в анналы и он принялся выдумывать всякие штуки. К тому же, как я уже говорила, Ивану Петровичу очень хотелось оставаться интеллигентным человеком. Интеллигентность – это игра, это поза, раз приняв которую, переменить невозможно. Религия, например, требует смирения и покаяния. Олимп ждёт веры в себя и в свои силы. Кстати уж замечу, вера в себя и свои силы исключает веру в Бога. В самом деле: как это возможно, положившись во всём на волю Божию, как того требует религия, верить, что человек сам творец своего счастья. Бог повелел Аврааму убить единственного сына. Можно себе представить, каково это, поднять нож на собственного малютку! Но Авраам таки поднял. Поднял, потому что верил: какие бы чудачества ни предлагал Бог, в них, несомненно, больше толку, нежели в самых мудрых человеческих мудростях.
Некоторые, впрочем, полагают, что успех ниспосылается за какие-то особенные заслуги или добродетели. Но уж это – чистой воды самообман. Добродетели некогда думать об успехе, да и кому нужен он в вечности?
Олимп и религия – две вещи несовместные. Но удел интеллигенции – всегда оставаться прослойкой. Потому что принять крайнее она не может. Иначе придётся переменить позу. И прощай репутация непрошеного борца за свободу!
Но немножко ото всего отщипнуть и немножко всё покритиковать – вот вам и гуманизм, интеллигентское кредо. Образованный, духовный, независимый и стремящийся «жить по-человечески». А если что-то не так, если кто-то вдруг обронит колючее слово «подлость» – так ведь «это жизнь!», и всякий поступок достоин оправдания. Такие люди вечно колеблются между мерзостью и благовидностью. Однако всему предпочитают личное довольство.
И ведь так и живут: у каждого по-своему понятый, удобный Бог, у каждого свои, удобные святыни.
Возглавив город, Иван Петрович решил, что первый его долг как современного интеллигентного руководителя – убрать с улиц памятники советским вождям. Отправить на переплавку рука не поднималась, к тому же среди горожан оставалось немало последователей коммунистического движения, а среди скульптур – настоящих произведений искусства. Вот тут-то у Ивана Петровича и родилась идея устроить в городе парк скульптур. Этим выстрелом Иван Петрович намеревался убить не двух, а сразу четырёх зайцев: убрать с улиц напоминания об Октябрьском перевороте, избежать недовольства верных ленинцев, сохранить творения знаменитых мастеров и, наконец, устроить в городе место прогулок и паломничества.
Загвоздка была только в одном: в городе, как это ни странно, никогда не было парка. То есть, возможно, парк когда-то и был, но помнить о нём могла только Мария Ефимовна. Был, правда, монастырский сад, где при советской власти появились аттракционы, а потом – автостоянка и свалка. Но о том, чтобы убрать стоянку не могло быть и речи – капитал был частный и для Ивана Петровича неприкосновенный. Насадить новый сад тоже оказалось невозможным – уж очень долго и хлопотно. Иван Петрович вспомнил, что при монастыре есть ещё и некрополь, где давно уже никого не хоронят, и где в старину предавали земле монахинь и славных горожан.
Деревья, шелестя листами и перебирая ветками, беспорядочно разрослись на старом кладбище. Могилы почти сравнялись с землёй. И только сохранившиеся кое-где каменные кресты и плиты свидетельствовали, что именно здесь нашли свой последний приют никому неизвестные и всеми давно забытые, но, тем не менее, когда-то любившие и ненавидевшие, верившие и сомневавшиеся, воевавшие или молившиеся за Отечество простые русские люди.
Со стороны Церкви, решил Иван Петрович, возражений не может возникнуть, так как монастырь ей не принадлежит. Действительно, собственником бывших монастырских зданий и по сей день остаётся государство, а в храмах и корпусах размещается наш краеведческий музей.
Иван Петрович собрал городских архитекторов, и те согласились: лучшего места для парка скульптур в городе просто не найти. Решено было проредить заросли, выложить дорожки, подправить сохранившиеся надгробия, а над неизвестными могилками установить памятники и бюсты вождям. Иван Петрович ликовал. Новая идея, как всегда, захватила его, и он с поистине молодёжным энтузиазмом бросился воплощать её в жизнь. И нетрудно представить себе его раздражение, когда на пути непреодолимым препятствием вдруг возник отец Мануил.
Вероника Евграфовна рассказывала, что отец благочинный сам явился к Ивану Петровичу.
– Одумайтесь! – воззвал он. – Одумайтесь, Иван Петрович! Перестаньте быть врагом народу своему! Если сегодня мы хотим выжить, нам надо защищать святыни свои, а не топтать их!
– О чём это вы, отец Мануил? – удивился Иван Петрович. – Что такое случилось? Вот, присядьте лучше… Воды, что ли, выпейте… Что такое случилось? Опять безбожники одолевают?
– Вот то-то, – вздохнул отец Мануил, присаживаясь, – одолели совсем безбожники. Пантеон свой задумали на святом месте устроить. Капище богомерзкое.
– Да о чём это вы? – рассмеялся Иван Петрович.
– Если вы, Иван Петрович, решили демонтировать в городе памятники – это ваше дело. Но водружать их над могилами православных людей… Изваяния воинствующих атеистов на монашеском кладбище… Так себе славы не снискать, Иван Петрович!..
Настоящего или, как говорят, мирского, имени отца Мануила я не знаю. Известно, что родом он откуда-то из Малороссии и что путь свой выбрал очень давно и совершенно самостоятельно. Происхождения он самого простого, а семья его не была ни воцерковлённой, ни даже просто верующей. Рассказывают, что когда-то в юности он пережил странное видение. Наблюдая как-то на танцплощадке за парами, вдруг ощутил он, что всё, бывшее у него перед глазами, точно превратившись в листок бумаги, свернулось в трубку. И будущий благочинный совершенно отчётливо разглядел у танцующих копыта вместо штиблет и туфель. Поражённый своим видением, в страхе бежал он с танцплощадки.
Природа видения осталась невыясненной. Была ли это галлюцинация, а может, оптический обман или ещё что-нибудь – юноше, задававшемуся в ту пору вопросами «зачем?» и «как?» было совершенно неважно. Непонятным, нелепым, казалось бы, образом он вдруг получил ответы на свои вопросы. Хотя, быть может, ответы эти таились где-нибудь в недрах его сердца и только ждали подходящего времени, чтобы вырваться из оков, прогреметь в душе и увлечь за собой.
Известен ещё один случай из биографии отца Мануила. Старший брат его сжёг как-то в костре живого котёнка. Отец Мануил, как младший, не посмел вмешаться, но, говорят, когда, уже будучи благочинным, отец Мануил вспоминал этот случай, всякий раз ему становилось нехорошо.
Конечно, ни один отец Мануил задавался в юности вопросами. Но не всем, очевидно, даются ответы. Не все находят, к чему пристать, к чему прикипеть душой. Страх одиночества, неопределённости и безысходности заглушается по-разному. Водка, деланная грубость или жестокость – все средства хороши.
В тот же вечер брат отца Мануила уронил на себя керосиновую лампу, и одежда на нём загорелась. С сильными ожогами увезли его в больницу. С тех самых пор он повредился. Выйдя из больницы, не смог он ни учиться, ни работать и, бессмысленный, влачился всюду за младшим братом.
Случилось братьям поздно возвращаться откуда-то домой. На улице было темно и тихо. В преддверии зимы медленно и неслышно падал первый снег, укрывая грязную мостовую белым ковром.
Никто не встретился поспешавшим домой братьям. Одни, точно в сказке, оказались они на бесшумных белеющих улицах. Будущий отец благочинный и блаженный брат его.
В каком-то переулке из покосившегося, потемневшего домишки услышали они пение и, любопытствуя, кто и зачем поёт в такой хибаре, решили зайти. Приоткрыв дверь в горницу, отец Мануил остолбенел на пороге: комната была полна женщин, одетых во всё чёрное. Это их голоса братья слышали на улице – несколько женщин пели.
Не сразу отец Мануил догадался, что это монашки из закрытого монастыря. Одна из них, заметив непрошеных гостей, ввела их в комнату. Когда закончилось пение, протянула отцу Мануилу книгу и сказала:
– Читай!
Он робко принял книгу и огляделся. Монахини улыбались ему. Спасов лик строго смотрел из угла. Свечи задорно горели. Раскрыв книгу и с трудом разбирая церковнославянские буквы, стал он читать.
– Трудно объяснить, что произошло со мной тогда, – рассказывал отец Мануил, – только пустота в сердце в одночасье исчезла. И наполнилось сердце светом и радостью. Неизреченной, велией радостью!
Разве могли знать те монахини, что, спустя более полувека, отрок, случайно забредший с блаженным братом в их избушку и разбиравший по слогам Апостола, вступится за них, призвав власть вернуть монастырь монашествующим?
Отец Мануил не раз обращался и к Ивану Петровичу, и к бывшему до него городскому голове. Но всякий раз получал один и тот же ответ: «Некуда перевести краеведческий музей. Вот будет здание для музея, будут переговоры с Церковью».
Что до Ивана Петровича, он решительно выступил против отца благочинного. Ведь речь шла уже не просто о передаче монастырских зданий, благочинный вставал на пути устроения парка скульптур. А Иван Петрович возлагал свои надежды на этот проект. Осуществись он, и Иван Петрович из посредственного местечкового градоправителя обернулся бы преобразователем почти областного масштаба, беспощадного к душителям свободы и наклонного к творческим решениям. А тут появляется благочинный и заявляет:
– Так себе славы не снискать!
– Да помилуйте, отец Мануил! – удивился сперва Иван Петрович. – Кому это помешает? Вождей с улиц уберём – городу профит. В парк туристов будем водить – опять профит. А тем, кто там лежит… Да кто их побеспокоит? Пусть покоятся с миром. Прах ничей не тронем, скульптуры поставим исключительно на пустом месте…
– Это не пустое место, Иван Петрович! – перебил благочинный. – Не пустое место и не парк. Это кладбище. Православное кладбище. Там покоятся и те, кого расстреливала безбожная власть. А вы намереваетесь водрузить памятники палачам над могилами жертв! Свет не видывал худшего кощунства, Иван Петрович! Как вы спать после этого думаете? Тут уж не кровавые мальчики, а сонмы окровавленных мучеников перед глазами явятся!
Думаю, был момент, когда Иван Петрович действительно испугался перспективы увидеть сонмы окровавленных мучеников. Но тут же наверняка встрепенулся и, стряхнув наваждение, рассмеялся:
– Будет вам, отец благочинный! Что вы всё не уймётесь? Лучше бы крестили да венчали, в самом деле. А вы бунт устраиваете. Грех вам…
– Грех на вас будет, Иван Петрович, когда совершите вы сие кощунство!
В ответ Иван Петрович поднялся из-за стола.
– Благодарю вас за визит, отец благочинный. Обещаю подумать над вашей просьбой.
– Я ухожу, Иван Петрович, – поднялся и отец Мануил. – Обещать, конечно, не могу, но приложу все силы, чтобы не дать богохульному замыслу вашему осуществиться.
С тем и ушёл. Ивану Петровичу только и оставалось, что рассмеяться вдогонку.
А через несколько дней в одной из наших газет появилось интервью с Иваном Петровичем. Речь сначала шла о нуждах города, как вдруг без особой связи, на вопрос о возможной передаче Церкви монастырских построек, Иван Петрович ответил:
– Видите ли, это сложный вопрос… Сложность, собственно говоря, в том, что возрождающаяся ныне Русская Православная Церковь может стать пособницей вчерашних коммунистов. А точнее тех, кто называет себя сегодня патриотами и борется за так называемое «возрождение России»...
Иван Петрович точно собак спустил. Через день уже все газеты кричали: «Православный иерей сотрудничает с коммунистами…», «В городе запахло кострами Инквизиции…», «Смиренному благочинному не дают покоя безбожники…», «Жадность, нетерпимость, что дальше – антисемитизм?..»
Вокруг благочинного действительно кружилось много разных людей. Образовалось даже что-то вроде кружка поклонников, костяк которого составляли местные богомольные старухи, почитавшие отца Мануила за святого. Многие приходили за советом и наставлениями. Были и далёкие от веры люди, предполагавшие в благочинном духовного лидера будущего сопротивления.
Но, кажется, благочинный только страдал от своих поклонников. Хотя и принимал у себя всех желающих. Вероника Евграфовна рассказывала, как однажды под вымышленным предлогом отправилась к отцу благочинному. Наслышавшись о прозорливости и чуть ли даже не о чудесах отца Мануила, вознамерилась она лично удостовериться в правдивости слухов. Набравшись смелости, заявилась как-то Вероника Евграфовна в благочиние и потребовала самого отца Мануила.
Её провели в приёмную, и не успела она толком оглядеться, как к ней вышел сам благочинный. Вероника Евграфовна оробела, увидев отца Мануила в штопанном коричневом подряснике. Благочинный благословил Веронику Евграфовну и спросил, что ей нужно. Но несчастная так растерялась, что позабыла выдуманную накануне причину визита.
– Я… батюшка… видите ли… – забормотала она, перебирая в уме всё, о чём можно было бы спросить. – У меня… сестра… то есть… у меня племянница хочет стать фотомоделью. Так уж вы помолитесь…
Благочинный нахмурился.
– То, о чём вы меня просите, сделать не смогу, – сурово сказал он, глядя в глаза Веронике Евграфовне. – Сердце человека – Престол Божий. А на Престоле Божием нет места безблагодатным ценностям. И помните: кланяясь идолам преуспеяния, каждый из нас становится причастным к разрушению общества, ибо потакает разгулу разрушительных страстей. За племянницу вашу помолюсь, а вам вот ещё, что скажу: любопытство ради любопытства – это грех пред Богом. Ибо сказано: не сообразуйтесь с веком сим, но сообразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия.
С этими словами он ещё раз благословил Веронику Евграфовну, и та, не чуя под собой ног, выскочила на улицу. Только дома она вспомнила, что намеривалась спросить у благочинного, стоит ли ей подавать в суд на своего соседа по даче, передвинувшего на сорок сантиметров забор вглубь участка самой Вероники Евграфовны. Но как бы то ни было, с того самого дня и Вероника Евграфовна сделалась решительной обожательницей отца благочинного. Тем более что и с памятниками вышло по слову отца Мануила.
Благочинный не писал статей в газеты и не давал интервью, но всё складывалось именно так, как он предрёк Ивану Петровичу. Точно невидимая стена встала между некрополем и устроителями парка скульптур. Демонтируя, уронили памятник Ленину – самый большой и наиболее интересный в городе. Так что даже голова у вождя откололась и, говорят, покатилась по мостовой. Памятник пришлось отправить на реставрацию, а дальнейшие работы, из-за непредвиденных расходов и нарушения изначального плана действий, решено было приостановить. К тому же фигуре Ленина предписывалось стать центральной и паркообразующей.
Случайное, казалось бы, совпадение. Но в городе с каким-то даже удовольствием приписали его влиянию отца Мануила.
Был отец Мануил невысок, худ и сед. Власы и бороду имел жидкие с прозеленью – седина иногда отчего-то отдаёт в зелень. А между тем, Вероника Евграфовна убеждала нас с матерью, что «это же могучий старец» с пламенным взором и гремящим голосом. Вероятно, такое впечатление сложилось у Вероники Евграфовны под воздействием проповедей отца Мануила.
Проповеди свои благочинный произносил в храме. Не раз передавали их и по местному радио. Услышавшему впервые отца Мануила в самом деле не пришло бы и в голову, что голос принадлежит болезненному и чахлому старичку. Возможно, так сильно было впечатление от радиопроповедей, что и столкнувшись близко с отцом Мануилом, Вероника Евграфовна предпочла видеть в нём могучего старца.
– Любите врагов ваших, крушите врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божьими, – гремел из радиоприёмника отец Мануил, и редкий слушатель не стихал, предвкушая, что голос этот скажет именно то, о чём давно хотелось услышать. – Отечество ныне поругано, святыни попраны – всё отдано во власть жрецам новой религии. Новыми идолами стали Богатство и Слава, Успех и Комфорт. А смогут ли новая религия и новые идолы стать основой народной жизни? Нет! И не нужно обманывать себя. Нужно оглянуться и одуматься. Нужно оградить себя от потребительства, этой моровой язвы, от тряпок и побрякушек. В погоне за миражами, за мнимыми ценностями растрачиваются и обесцениваются подлинные основы народной жизни – идея соборности, идея духовной общности, произрастающие не из прав человека, а из общего служения и долга, служения Правде Божией как единственной абсолютной ценности. Служение Правде и самопожертвование возвышают человека и приближают его к Богу. А это, в конечном счёте, и есть смысл человеческой жизни…
Когда, бывало, слушала я отца Мануила, какой-то внутренний голос с восторгом кричал во мне: «Вот то, что тебе нужно!» Но тут же другой, насмешливый, голос говорил: «Нет, не то. Со-о-всем не то…»
V
Отпевать Марию Ефимовну так никто и не согласился. Зато какие-то доброхоты посоветовали Ивану Петровичу пригласить раввина. Иван Петрович подумал, но на раввина не решился. Пришлось довольствоваться гражданской панихидой.
Заниматься организацией поминок Иван Петрович поручил матери. Мать взялась за дело с энтузиазмом – из казны ей выдали денег, назначили помощников. Но когда уже арендовали зал в ресторане «Север», когда оговорили меню и сервировку, вот тут-то мать поняла, чего ей всё это время не хватало.
Сёстры Ивана Петровича, Ольга Петровна и Татьяна Петровна, не принимали участия в организации похорон и поминок, обе они остались в стороне от всеобщей суеты. Но матери вдруг пригрезилось, что тётки должны были как-то особенно скорбеть о Марии Ефимовне и выступать первыми плакальщицами. Произошло это именно вдруг. До поры, до времени мать ничем не выдавала своего недовольства и, скорее всего, не думала о тётках.
Не знаю, что именно напомнило ей о золовках, но в один прекрасный день она ославила их на весь город. Мало того, что они не рвут на себе волосы и не посыпают головы пеплом, так они ещё и не думают помочь с поминками! Заодно мать припомнила, как третьего года, проходя мимо дома тётки Ольги на рынок, она зашла поздороваться, а тётка Ольга не напоила её чаем.
С чаем вообще отдельная история. Как только матери хочется на кого-то обидеться, точнее, как только на неё находит приступ жалости к себе – эта похоть себялюбия, – и жребий падает на нового обидчика, мать первым делом вспоминает, что в какой-то момент ей не предложили чаю. «Обидчиков» у матери довольно много. И каждый в своё время не напоил её чаем. А уж чай-то она никому не спускает! Чай – это святое.
Тётка Ольга уже не раз отказывала матери в чае. И вот новый чайный скандал!
Очевидно, до тёток не дошли слухи о том, что они должны были скорбеть и не скорбели, должны были хлопотать и не хлопотали. Тётка Ольга, наверное, непростительно забыла, как три года назад не напоила мать чаем. Словом, обе тётки явились на поминки как ни в чём ни бывало.
Мать поздоровалась с ними холодно. Тётки сделали вид, что ничего не заметили. Равнодушие тёток раззадорило мать. И, не сомневаюсь, с той самой минуты ни о чём, кроме как об обиде, мать и думать не могла. Она здоровалась с гостями, переговаривалась, распоряжалась, но в каждом её жесте и взгляде, в каждой ужимке и интонации чувствовалась обида. И даже когда стали произносить заупокойные речи, когда кутья и блины с икрой разошлись по тарелкам – мать всё не уставала показывать, что молчит только потому, что воспитание не дозволяет ей высказаться. Наконец она не выдержала и обратилась к сидевшему подле Люггеру:
– Кушайте, кушайте, Аркадий Борисович. Не стесняйтесь…
Но Люггер и не думал стесняться. Уж чего-чего, а поесть на дармовщинку иностранная братия умеет! Хотя… Если уж нам и предложить больше нечего…
– Вот блинов возьмите, Аркадий Борисович, – мать пододвинула к нему тарелку с блинами. Было видно, что ей очень хочется что-то сказать Люггеру, но она никак не решится начать.
Люггер благодарил и кушал с большим аппетитом.
– Любите блины-то? – простодушно поинтересовалась мать.
Люггер также простодушно закивал.
– Да-а… – вздохнула мать. – А ведь всё это я сама… – и она выразительно посмотрела на Люггера, точно спрашивая: «А как бы вы думали?»
Отмалчиваться дальше становилось неприличным, и Люггер был вынужден вступить в разговор:
– Как? – постарался изобразить он интерес и удивление разом. – Вы одна всё это приготовили?
– Да нет же! При чём тут приготовила! – мать, недовольная бестолковостью Люггера, нахмурилась. – Я одна всё организовала. Понимаете?
– А-а-а! – догадался Люггер. – Значит, вы… manager?
– Хм… Ну, пожалуй, менеджер, – согласилась мать. – Но главное… слушайте-ка… главное, что мне никто не помогал. Понимаете?
– О-о-о! Значит, вы… э-э-э… современная женщина?
– Да нет же! – мать снова нахмурилась. – При чём тут женщина… современная. Слушайте-ка… Всё это, – и мать провела рукой в воздухе, указывая на столы и на гостей, – всё это легло на мои плечи, – и мать ткнула пальцем себя в плечо.
Люггер скосил глаза на круглые материны плечи и закивал.
– У Ивана Петровича есть сёстры… две сестры, – мать показала Люггеру два пальца. – Ни одна из них мне не помогала… Да вот, посмотрите. Вон там, у правого стола в розовой кофточке… китайской… это Ольга Петровна. А рядом… такая блондинка… крашеная… это Татьяна Петровна. Ваша бабушка, Аркадий Борисович, очень любила Ивана Петровича. Очень! И, знаете, я тоже очень скорблю по ней. Очень! А Ольга Петровна и Татьяна Петровна… Вы знаете, как будто это их не касается! – и мать посмотрела на Люггера, точно спрашивая: «Каково?»
Люггер уловил вопрос и сочувственно закачал головой.
– Слушайте-ка, – продолжала, осмелев, мать и даже доверительно дотронулась до локтя Люггера. – Пошла я на рынок… Тут у нас есть рынок… недалеко. Но он так себе… не очень. Ну, вы меня понимаете?
– Конечно, – отозвался Люггер и подавил зевок.
– Я хожу на дальний рынок. Это возле Ольги Петровны. Я хожу в молочный ряд. Творожок беру, сметанку…
– И Ольга Петровна с вами? – перебил её Люггер.
– Ольга Петровна? – мать даже обиделась. – Я зашла к Ольге Петровне проведать. Я всё-таки её родственница, Аркадий Борисович. И нет, чтобы сказать мне: «Проходи, Лида, садись, выпей чайку»… Она даже чаю не предложила!.. Наврала, что уходит. А куда ей идти-то? В воскресенье в школе выходной – она учительница. Ну какие у неё дела в воскресенье? Хм… Да если бы у неё были дела, я бы давно знала! О чём вы говорите, Аркадий Борисович? – и мать возмущённо, как будто и Люггер был в чём-то виноват перед ней, махнула у него перед носом рукой.
Люггер в недоумении посмотрел на неё и часто замигал.
– О чём вы говорите, Аркадий Борисович? – продолжала возмущённо мать.
– Да я ни о чём… – начал, было, Люггер, но мать не дала ему договорить.
– А у меня, между прочим, дочь пианистка, в музыкальном училище, – мать кивнула в мою сторону, но Люггер даже глаз на меня не скосил, – и брат у меня в Новгородском театре играет.
– Вау! – лениво заметил Люггер.
– Да. И племянник у меня в Кувшиново вундеркинд. Двенадцать лет парень. И вообще, вы знаете, у нас у всех в семье очень сильная энергетика. Очень сильная! Моя мама – тоже в Кувшиново – до сих пор ещё! Вот если идут соседи ругаться – ведро с помоями и… сразу окатит! Такая энергетика!.. А Татьяну Петровну я вычислила, – она снова махнула рукой. – Она какие-то открыточки попам рисует. Я её в церкви видела с пачкой.
– Попам? С какой пачкой? – оживился Люггер.
– Я пришла в церковь и всё видела. Хотела подойти к Татьяне Петровне, а она меня заметила и спряталась за колонну. А потом – юрк к попам!.. Вот почему у неё денег-то нет!.. Аркадий Борисович!.. – мать наклонилась к самому уху Люггера, а для пущей убедительности положила свою пухлую, с остро отточенными перламутровыми ноготками руку на костлявое его запястье.
Наверняка в тот момент у Люггера закружилась голова или поднялось артериальное давление. А если бы он ещё немного послушал мать, думаю, он упал бы в обморок. Спас его, сам того не подозревая, Иван Петрович.
– Аркадий Борисович, – наклонился он к другому уху Люггера. – Аркадий Борисович, у нас так не принято!
– Простите? – переспросил Люггер, видимо растерявшийся.
– У нас так не принято, – ласково повторил Иван Петрович, – Мария Ефимовна как-никак бабенька ваша. Здесь уж много про неё говорено. А вы – ничего. Нехорошо. И от людей неудобно. Надо бы помянуть бабеньку-то… Все дивятся – вы у нас человек особенный. А? Как вы?
– Я готов, – растеряно отвечал Люггер.
– Так я объявлю? – уточнил Иван Петрович.
– Да, да…
Матери, очевидно, не понравилось, что Иван Петрович вмешался и перебил её. Сделав опять недовольное лицо, она почти незаметно отодвинулась от Люггера.
– Господа, господа! – обратился Иван Петрович к собранию и даже ножом по стакану постучал. – Прошу внимания! Аркадий Борисович Люггер, правнук всеми нами любимой и оплакиваемой ныне Марии Ефимовны, хочет сказать несколько слов. Прошу вас, Аркадий Борисович!
Люггер, по примеру говоривших перед ним, поднялся, взял в левую руку стопку с водкой и повёл свою речь:
– Да, я хочу сказать несколько слов, – неуверенно начал он. Говорил он с лёгким акцентом, впрочем, не коверкая слов, – у меня уже есть впечатления в России, и я бы хотел о них… Ведь я только вчера приехал, и сразу впечатления… Я хочу сказать, что Россия меня немного удивила, – и, как мне показалось, Люггер покосился на мать. – Я родился в Америке, но дома у нас все говорили по-русски. А моя бабушка каждый день смотрит по телевизору русские передачи. Что я знаю или знал о России? Что это страна Ходорковского и Березовского, блинов, икры и водки, – Люггер, усмехнувшись, кивнул на стол, подтверждавший его представление о России. Все слушали с большим интересом. – Ещё Распутин, мафия, матрёшки, блондинки, революция и моя прабабушка, – здесь Люггер обворожительно блеснул зубной костью. – Ещё я знаю, что в России было много умных людей, которые все уехали за границу. Сначала, чтобы заработать денег, а потом все так и остались, чтобы просто нормально, по-человечески жить. И несмотря даже на то, что в России есть и нефть, и алмазы, возвращаться эти люди не собираются. Это не только моё персональное мнение, так думают все люди на Западе. Но сегодня утром это моё мнение… оно сломалось… изменилось. Очень рано я был на кладбище. Я встретил там одну… э-э-э… персону. Это была очень простая женщина. Она стояла рядом с другой могилой. Я спросил, кто здесь у неё, и она рассказала мне свою историю. Это была могила её подруги. Они вместе были в тюрьме… в ГУЛАГе. Её подруга была француженка, она вышла замуж за советского дипломата и уехала в Советский Союз. Ещё в тридцатые годы. Она была пианисткой и выступала в Москве. Но потом её и её мужа арестовали. Пятнадцать лет она провела в тюрьме…
– Вот олух-то, слушай-ка… – шепнула мне мать. – Про чужую бабку взялся рассказывать…
– …Она вырезала клавиши на лавке, – продолжал Люггер, – и пятнадцать лет играла на лавке. Когда она вышла на свободу, мужа её расстреляли. Она была одна до конца дней. Жила в маленькой однокомнатной квартире. Могла уехать во Францию, но не уехала. Она говорила, что в тюрьме нашла что-то важное, что во Франции не смогла бы найти. И, признаться, я позавидовал, мне тоже захотелось найти это важное…
Люггер остановился перевести дух. Говорил он довольно медленно, оттого выходило весомо и убедительно. В зале было тихо – слушали внимательно и даже с удовольствием. Некоторые то и дело кивали, точно соглашаясь или подбадривая Люггера. Русский человек либо обожает послушать про свою так называемую духовность и русскую душу, либо терпеть этого не может. Лично я отношусь ко второй категории, потому что меня просто бесят эти разговоры. Скажу больше, мне даже нравится говорить и думать в противном смысле.
История про пианистку-француженку была хорошо всем знакома. Кажется, эта француженка поселилась в нашем городе в конце пятидесятых. Мы с матерью как-то были на её концерте во Дворце Культуры. Помню, я обратила внимание, что первый ряд был занят исключительно старухами. Старухи казались ветхими и потёртыми, но держались сурово, а музыку слушали с таким достоинством и серьёзным вниманием, как будто все до одной выросли на Рахманинове и не мыслили себя без его музыки. Мне показалось это смешным, и я спросила у матери:
– Это что? Культпоход дома престарелых?
Но мать одёрнула меня, объяснив, что старухи – подруги и сокамерницы нашей пианистки и что приезжают они на каждое её выступление.
Эта дружба, заквашенная на общих страданиях, произвела на меня впечатление. Я оставила смеяться. Помню, мне вдруг пришло в голову, что попала я не просто на концерт, где артисты развлекают праздных и скучающих зрителей. Перед нами развёртывалось нечто огромное, хотя и невидимое обычному глазу. И всё, что нам оставалось – молча, с замиранием и завистью внимать происходящему.
Несколько лет назад француженка умерла. Наверное, Люггер встретил на кладбище одну из тех её подруг, что я видела тогда во Дворце Культуры. Кто знает, быть может и впечатления его были схожими с моими…
Люггер собрался продолжить свою речь. Он оглядел всех – что-то грустное промелькнуло в его взгляде, – набрал воздуха в лёгкие, но в эту самую минуту среди всеобщей тишины по залу разнёсся тихий, но совершенно отчётливый стон. В следующую секунду дверь медленно, как от лёгкого прикосновения растворилась, и в зал, шаркая по-стариковски ногами, вошёл Абрамка.
Завидев его, Люггер замер с выражением такого ужаса на лице, точно увидел не убогого мальчика-дурачка, а, по меньшей мере, разверзшиеся врата ада. Абрамка уставился на Люггера своими водянистыми глазками и прохныкал:
– Явился мессия народу Божию! Посетил Господь чад своих в изгнании!