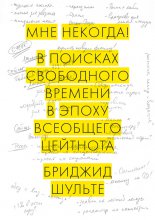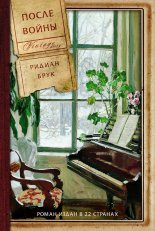Абрамка Замлелова Светлана

Лиза улыбнулась снисходительно.
– Знаете, – обратилась она к Илье, – пиво называют «шампанское пролетариата». Вот и кетчуп…
– Кетчуп, видимо, «соус пролетариата»? – отозвался Илья.
– Соус… хороший соус – это сложное блюдо, его долго готовить.
– Да! – вставила мать, обрадовавшись знакомой теме. – Соус приготовить не просто.
– А все эти доступные радости и дешёвые удовольствия, – продолжала Лиза, – только создают иллюзию полноценной и обеспеченной жизни. И всё это очень плохие признаки…
Лиза точно и не замечала, какое впечатление успела произвести.
– Но почему же ты так считаешь, Лиза? – разволновался Иван Петрович.
– Кетчуп – это имитация, – повела плечом Лиза. – Это как фальшивый бриллиант.
Такое сравнение позабавило. Люггер блеснул улыбкой. Илья расхохотался.
– Ну, Лизунька… – погрозила мать пальчиком.
– Можно сказать, что имитация – это порабощение, – задумчиво, ни к кому конкретно не обращаясь, произнесла Лиза.
– Ну что ты, Лиза! Такое сильное слово… – заулыбался Иван Петрович.
– Почему? – удивилась Лиза. – Мне подсовывают вот эту совершенно ненужную дрянь и хотят уверить, что и мне доступны все удовольствия жизни. Ещё и деньги тянут. Вместо того чтобы на самом деле сделать что-то… настоящее, мне внушают, что вот это, – Лиза кивнула на бутылку кетчупа, – и есть соус. Это как демократия в обмен на нефть…
Под впечатлением Лизиных слов, мать взяла со стола эту бутылку и принялась читать, что было написано на этикетке. Не найдя ничего, что подтверждало бы слова Лизы, вернула злосчастную склянку на стол.
– Ну, это у нас тут… всё не так, – пробормотала она.
– Ничего особенного у нас нет, – возразила Лиза, – везде то же самое. У нас как всегда всё… всё более грубо и зримо. А я не желаю быть рабочим стадом. Ни здесь, ни… где-то ещё…
– Что же ты, Лиза… – растеряно улыбаясь, начал Иван Петрович, – что же, неужели ты думаешь, что тебе в кетчуп что-то подмешивают?
Люггер, оторвавшийся от еды и рассматривавший Лизу с каким-то презрительным любопытством, едва заметно ухмыльнулся. Илья расхохотался в голос.
– Я думаю, – как ни в чем ни бывало продолжала Лиза, – что меня хотят в чём-то убедить. Хотят, чтобы я поверила.
– Кто и во что? – дерзко и весело накинулся на Лизу Илья.
– Что всё, что мне нужно – это секс и успех. А я не хочу в это верить. Как только поверю, буду стадом.
– Ещё кетчуп! – расхохотался Илья. – Кетчуп, секс и успех…
– Кетчуп – это просто вещь из ряда подобных… таких же наглых и убогих уродцев…
– Нужно понять, что мир меняется, – тихо перебила я Лизу. – И каждому предстоит занять своё место. Будут лучшие особи человеческие. Будет кряжистое большинство. Будут слабые и никчёмные. Кому-то из них не стоит и рождаться, чью-то кончину ускорят… из самых человеколюбивых побуждений. Не всем это сразу понравится. Но потом со спокойной совестью примут и то, из-за чего деды шли на войну. Это нормально… Главное, пусть стадом будут другие. Слабые…
– Только слабые не худшие, – пристально глядя мне в глаза, произнесла Лиза, – а сильные не лучшие.
– Пусть слабые это докажут.
Лиза покачала головой.
– Нет… Может, и была мечта о счастье и справедливости. Но дорогой оказалась, – сказала она, обращаясь всё так же ко мне. – И тогда те, кто правит миром, сказали себе: «Выпустим беса, выпустим грех, назовём это свободой – и будет прибыль. Культура сдерживала инстинкт – уничтожим культуру. Худшее назовём нормальным, нормальное объявим подозрительным. Религия говорила об Истине – уничтожим религию, вместо одной придумаем сотни. А главной из них поставим ту, что грех назовёт нормой. И тогда-то скажем, что осуществили вековую мечту о свободе. Потому что освободим падшее и отменим аскезу. И будет прибыль. Не на потребностях, а на страстях. Не на голоде, а на чревоугодии, не на холоде, а на тщеславии, не на болезнях только, а на культе тела. Создадим свой мир, погрузим в него человечество, и будем поддерживать иллюзию. Потому что чем тоньше связь с реальной жизнью, тем выше и легче прибыль». Но они сами погрязли. И оттуда не вылезти. И человекобога не будет.
– Увидим… – усмехнулась я.
Лизе снова удалось завладеть вниманием публики. Все слушали её заворожено.
Когда она закончила, с минуту, наверное, все молчали, точно переводя дух. Я огляделась. Люггер был удивлён, Иван Петрович взволнован, Илья раздражён. Мать ничего не поняла и оттого злилась на Лизу, предвкушая, должно быть, как вздует её перед золовками. Лиза была спокойна.
– Ну, Лиза! – заёрзал Иван Петрович. – Ты всё такие… такие странные вещи говоришь! Целую теорию, понимаешь, из кетчупа вывела! Хи-хи…
– Да ведь она её раньше вывела. Не на ходу же придумала, – тихо заметил Илья.
– Да пожалуй… – покачал головой Иван Петрович. – Так, Лиза? Ты раньше вывела? Ты, наверное, прочитала в какой-нибудь книжке?
– Нет, папа, – спокойно отвечала Лиза. – Это мои мысли.
– Как же ты додумалась? – не унимался Иван Петрович. – Да ведь это какая-то путаница… Ты, наверное, прочитала что-нибудь такое и перепутала… немного.
– Я, папа, ничего не путаю, – твёрдо сказала Лиза. – Я сама так и думаю, как говорю. Я в деревне всё думала. Там в деревне только книги читать да думать. Я с детства всё читаю и думаю.
– А ещё Лизавета Ивановна утверждает, что Америка и большевики – одно и то же, – вдруг вспомнила и обрадовалась я.
– А это что за новое учение? – усмехнулся Илья.
– Против прошлого за светлое будущее! Так? – улыбнулась я Лизе.
– Так. Но не совсем.
– А что не так? Кстати, религия – это тоже мечта о светлом будущем.
– Будущее может быть разным. Может быть вечная жизнь и Второе Пришествие, может быть утопия и несбыточная мечта, а может быть земной рай. То есть накопление и всё такое. А это конечное будущее, которое очень скоро может стать настоящим. И тогда впереди ничего не будет. А когда впереди ничего нет – это тоска. И тогда все устремляются обратно в прошлое. Как наши старухи… – Лиза тихонько рассмеялась. – И дороги у них шире были, и закаты ярче… Смешно, правда. Только это для всех опасно. Потому что неизвестно, кто и что выберет для себя в прошлом.
Мать тем временем стала убирать посуду, чтобы подать чай. Я встала из-за стола помочь ей. Лиза и мужчины оставались на местах.
– Слушай-ка, даже посуду за собой не уберёт, – прошипела мать уже в кухне.
– Она в гостях.
– В гостях… Ну и что! За собой и в гостях убирают, – не унималась мать, с грохотом опуская тарелки в раковину. – Разумничалась… Вот порода-то…
– Она в гостях! Тебя же не возмущает, что Люггер тарелки не моет.
– Люггер – мужчина! – назидательно объявила мать.
– Скажи, пожалуйста… Кто бы мог подумать!.. – фыркнула я.
– Вот ты и подумай, – понизила голос мать. – Мужчина. И холостой мужчина. Холостой и небедный.
– Небедный и сексуальный, – передразнила я мать. – Сексуальный и…
– Ну ладно! – оборвала меня мать. – Он-то уедет сейчас в Нью-Йорк, а ты останешься.
– Всё равно тарелки здесь не при чём, – вздохнула я.
И опять, как тогда в сенях, мне захотелось сделать что-нибудь назло матери. Что-нибудь дерзкое, вызывающее, что бы заставило её ахнуть, а заодно сбило бы с неё спесь. Но вместо этого я схватила поднос с чашками и чайником и потащила его в столовую.
– Что за девка! Порченая… – донеслось мне вслед.
А в столовой Лиза уже пикировалась с Ильёй.
– …Скинули татаро-монгольское иго, скинули французское, скинули немецкое, скинем и англо-саксонское…
– Как?! – раздражался Илья, так что рот даже кривился – о! мне прекрасно знакомо это выражение! – Как?! Молитвой? У России нет армии в современном понимании этого слова. Есть только несколько боеспособных частей и стадо, которое при случае сомнут, как в Великую Отечественную смяли, кстати… в первые две недели.
Я заметила, что Лиза слушает Илью с большим вниманием.
– Молитвой? – переспросила она, когда Илья умолк. – Да, молитвой… Странно, что вы это слово сказали. Даже странно, что подумали… Ну не армией же только воевать…
– Не надо, – обрадовался чему-то Илья, – вот про молитвы не надо! Ответ должен быть адекватным. Око за око, кровь за кровь. А молитва – это не оптимальное средство для кровопускания! А вообще-то, когда кто-то начинает рассуждать, что русских обижают, мне смешно! Правда… Нет, чтобы в себе причины поискать… Знаете, я был в Якутии, общался там с якутами, многие на полном серьёзе утверждают, что их споили русские. То же самое я слышал от молдаван.
– От молдаван-то особенно… – усмехнулся Иван Петрович.
– А курить кто научил якутов? – спросила я, с грохотом опуская на стол поднос с чашками. – Испанцы? Бедные якуты…
– При чём тут… – повернулся ко мне Илья.
– Да, но если бы не алмазы… – улыбнулся Иван Петрович, – эти слезинки якутских младенцев, отцов которых споили русские дикари, не стоили бы так дорого…
– А разве непонятно? – удивилась чему-то Лиза.
– Что? – переспросил Илья.
– Разве непонятно, что это специально? Разделяй и властвуй. Все, все должны стать злобной, самолюбивой кислятиной…
– Ну ладно… Ладно… – с напускной весёлостью затараторила мать, входя в комнату с большим пирогом. – Ладно… спорщики. Лучше вон… сыграй-ка нам что-нибудь, Евгения, – обратилась она ко мне.
– О-о-о! – протянул довольный Люггер, адресуясь не то ко мне, не то к пирогу.
Я знала, что она попросит. Она каждый раз просит меня сыграть перед гостями. Для себя лично ей не нужна музыка, но напоказ… Стоило тратить столько денег на моё обучение, чтобы выставлять потом перед гостями!
В другой раз я бы ни за что не стала играть. Но тогда это отвечало моему настроению. Войдя в комнату после разговора с матерью, я вдруг точно увидела всё по-новому. Стоило мне забыть обо всех на десять минут, как, снова возникнув, они показались мне на удивление нелепыми и смешными. Как странно, что совсем недавно я слушала и принимала их всерьёз! И Лизу – эту курносую, нескладную девицу с умом мощностью в две лошадиные силы, со скуки в деревне накачавшую и развившую мозг и теперь не знающую, что с ним делать. И Люггера, только внешне не привлекающего к себе внимания и могущего сойти за автохтона, да и то, исключительно благодаря безукоризненному владению языком. На деле же решительно ничего не понимающего и наверняка мнящего себя в Зазеркалье. Ещё бы! Сначала старуха, «играющая» на нарах, потом моя мать, юродивый Абрамка, теперь Лиза…
И мать, уже ненавидящую Лизу за то, что та «разумничалась», и разволновавшегося Ивана Петровича, и раздражённого Илью, который, едва Лиза скроется за дверью, назовёт её «самородком хреновым» – о! я была уверена в этом! Как же все они смешны! И на меня нашло неудержимое, просто томительное желание чего-нибудь дерзкого и безумного. Мне захотелось хохотать и вертеться волчком! А может… Может, лучше сбросить с себя всю одежду! Вот сейчас, сию же секунду. Так, чтобы все они рты раскрыли! Нет, лучше отправить что-нибудь из мебели в печку или столкнуть кого-нибудь в подпол, или просто вылететь в окно!
К вящему удивлению матери я тот же час отправилась к инструменту. Я уже знала, что именно буду играть. Я откинула крышку и, закрыв глаза, опустила голову. Молча сидела так несколько секунд. Мне хотелось остановиться на самом крутом витке настроения, достичь высшей точки внутреннего напряжения. В комнате все стихли. Я не могла видеть того, что происходило у меня за спиной, не могла видеть их лиц. Но, представив себе на миг эти лица, я расхохоталась как безумная.
Я стала играть из «Пер Гюнта», «В пещере горного короля». Это одна из любимых моих вещей. Начинается она pianissimo.
Тихо и крадучись, всё ближе к Рондскому замку по тёмным лабиринтам пещер. Всё ближе и явственнее шум из королевского дворца, всё слышнее визг ведьм и гогот троллей. Громче бьётся сердце, скорее шаги!.. Скачи живее, поросёнок! И вот уже тронная зала…
Здесь на fortissimo заколка расстегнулась у меня на затылке и упала на пол. Волосы рассыпались по плечам. Я продолжала играть…
Эх! Сбросить бы одежду, выпить мёду, прицепить хвост – и прочь за двери, старый Адам! Будем веселиться! Будем как боги!..
X
Утром на крылечке флигеля, где квартировала Лиза, нашли мёртвым Абрамку.
Обнаружила его мать. Выйдя рано утром на двор, она заметила нечто странное возле флигеля. Ещё не разобрав, что это может быть, мать настолько перепугалась, что первое время раздумывала: подходить ли ей к флигелю или позвать Ивана Петровича. Но любопытство, как обычно в таких случаях, взяло верх. Мать осторожно приблизилась к домику и… узнала Абрамку. Он лежал на боку прямо на лесенке, упираясь левым плечом в верхнюю ступень. Шея его изогнулась как шея лебедя. Голова покоилась на площадке перед дверью.
Заподозрив худое, но продолжая надеяться на лучшее, мать тронула его за правое плечо. Мальчик безвольно и нелепо перевернулся на спину. Мать увидела, что он мёртв.
В ту же секунду от её крика проснулся весь околоток. Иван Петрович выскочил из дому, запахивая на ходу халат. Я бросилась за ним следом. Лиза, высунувшись из флигеля и наткнувшись взглядом на бездыханного Абрамку и вопившую тут же мать, показалась вся из-за двери – босяком, в коротенькой рубашонке – да так и остолбенела. Прибежала соседка, за ней другая. Не заметив сразу Абрамку, обе кинулись к матери, вообразив, что с нею какой-то припадок. Но мать, продолжая плакать и голосить бессвязно, всё же указала подругам на маленькое, скрюченное тельце.
Несколько уже оправившийся Иван Петрович, помчался обратно в дом к телефону. Через четверть часа прибыла милиция, за ней – «Скорая помощь».
Бросились разбираться и в тот же день выяснили, что умер Абрамка от крысиного яду, которого у нас по двору было разбросано в чрезвычайном количестве. Весной появились в доме крысы, хотя до той поры никогда не водились. Незваные гости съели в подполе пакет муки и лыжные ботинки Ивана Петровича, прежде чем их присутствие оказалось замеченным и были приняты меры по выдворению. Но маленькие серые хищницы, уютно почувствовавшие себя в нашем подполе, ни за что не хотели убираться восвояси.
Сначала мать решила пугнуть их своей рыжей мокроносой кошкой, которая от самого своего рождения ничего не умела делать, как только есть как тигр и спать, свернувшись клубком.
Кошку переселили в подпол, но затея эта немедленно обнаружила свою бесплодность. Потому что жить в доме, под которым орёт и скребётся кошка, оказалось делом невыносимым. Освобождённая кошка бросилась к миске, а после уснула, положив морду на собственный зад.
Через несколько дней Иван Петрович принёс «электрокота». Маленький чёрный приборчик, похожий на архаичный радиоприёмник, днём пронзительно пищал, а ночью сверкал синим глазом. Но пока он пищал и сверкал, сверкал и пищал, крысы прикончили второй пакет муки и принялись за картошку.
Вот тогда-то и решено было прибегнуть к ядам. Иван Петрович заботливо разложил в подполе кусочки мяса, пересыпанные отравой, но крысы мяса не тронули, а поднялись в дом. Наглость, а главное, сообразительность были возмутительны. Иван Петрович с каким-то даже азартом, точно это было делом его чести, бросился на борьбу с легализовавшимися подпольщиками. В доме, на крыльце, во флигеле и на дворе появились крысоловки, дощечки, намазанные каким-то клеем, кусочки мяса, горки муки и прочие приманки, сдобренные ядом. Вот на одну из таких приманок и попался забредший к нам ночью Абрамка. Так и порешили считать.
Правда, никто из нас не слышал, как он пришёл. Да и на руках у него не обнаружили следов яда. Из чего сам собою напрашивался вывод, что яд ему кто-то дал. Но кто? Либо это сделал кто-то из нас, либо его привёл и отравил у нас на дворе кто-то чужой, либо его принесли к нам уже бездыханным. Но поскольку на песчаной дорожке, подготовленной ещё третьего дня наёмными таджиками для укладки плитки, оказались следы босых ног Абрамки, значит, шёл он сам. И так как параллельно его следам на песке других следов обнаружить не удалось, то, скорее всего, был он один. Следовательно, яд ему мог дать только один из бывших в то время в доме. Да ведь нельзя же было так думать! Иван Петрович первое в городе лицо, и вдруг в его доме преступление жестокое, дерзкое и совершенно бессмысленное.
Допросили, впрочем, всех. Но на особом подозрении оказались мы с Лизой.
– Часто ли он приходил под ваши окна? Не возникало ли у вас раздражение? Не мешал ли он вам спать? Не посещало ли вас желание, как-то отделаться от него? – около трёх часов провела я на следующий день в кабинете следователя, молоденького и, очевидно, в высшей степени довольного собой господинчика.
Мне хотелось крикнуть, что вот сейчас у меня возникло раздражение, а заодно желание избавиться от вас, от вас! Хорошо бы ещё запустить в него чем-нибудь тяжёлым. Но вместе этого, я с самым невозмутимым и любезным видом принуждена была отвечать на дурацкие вопросы.
Домой я добралась только к обеду. И не успела войти в дом, как услышала:
– Евгения!.. – слабым голосом звала меня мать.
Врач, приезжавший на «Скорой помощи», сделал матери какой-то укол и препроводил в постель. Вскоре она уснула, вечером, проснувшись, совершенно успокоилась. Но, ослабев изрядно, оставалась в постели. Утром, скушав завтрак, принесённый Иваном Петровичем, объявила, что отдохнёт «ещё немножечко». Теперь же ничто не разубедило бы меня, что она вполне оправилась, а в постель прыгнула, лишь только завидела меня в окно.
Я прошла в её комнату.
– Привет! – как можно беззаботнее сказала я.
– Присядь здесь, дочка! – указала она на стул подле своей кровати. Голос её дрожал.
«Точно завещание оставить хочет! Вот только завещать нечего…», – подумалось мне.
– Да, мама, – сказала я, усевшись на стул.
Мать смотрела на меня из-под полуприкрытых век, мышцы её лица были расслаблены, отчего лицо походило на тряпку, висевшую на гвоздике. Обе руки лежали поверх одеяла – мать изо всех сил изображала тяжелобольную.
– Дочка! – позвала она, точно не замечая, что я рядом.
Я промолчала. Мать выждала немного и снова заговорила.
– Дочка, ну как ты?
– Нормально… Была у следователя. По-моему, всё в порядке.
– Ну слава Богу!.. – мать слабым жестом перекрестилась. – А где Лиза? Как она?
– Лизунька?
– Да, – мать не поняла моей иронии.
– Не знаю. Кажется… кажется, к Ольге Петровне пошла, – я специально сказала об этом. Я могла бы не говорить, но специально сказала.
– К Ольге Петровне? – мать шире приоткрыла глаза. – Ну конечно… это же её тётя. Ох! – она вдруг спохватилась. – Что ж это я? Ты иди, дочка, обедай! Там суп ещё оставался… Я же не готовила сегодня…
– Хорошо, мама.
Я отправилась в кухню. И только села за стол, как на пороге появилась мать.
– Да, правильно. Суп хороший, оставался ещё… – она грузно опустилась поперёк стула напротив меня и уложила на стол свой полный белый локоть. Повернулась и стала смотреть, как я ем.
– Тебе уже лучше? – спросила я, отламывая от куска чёрного хлеба маленький кусочек. Меня раздражало, что она смотрит.
– Получше, – сказала мать своим обычным голосом, но тут же спохватилась и простонала:
– Но не совсем ещё…
– Лиза обедать не будет, так что я не оставлю ей супу, – объявила я.
– А что… она у Ольги Петровны останется обедать? – снова, забывшись, спросила мать.
– Да. У Ольги Петровны обед в честь Лизы. Кажется, и гости будут. Меня тоже звали, но я не пошла. А Лизу и следователь допёк. Так что Ольга Петровна уж постарается её развлечь.
– Следователь? – испугалась чего-то мать.
– Ну да. Подозревает как будто… Человек Лиза новый, только приехала, а тут такое! Мальчик странный, у нас-то к нему все привыкли. А Лиза – кто ж её знает?
– Так это она убила?! Лизка?! – даже глаза у матери загорелись.
– Да нет же! Просто её проверяли…
Но мать уже не слушала меня.
– Слушай-ка! Как же это я не догадалась-то? А? Конечно, она – больше некому. У неё на крыльце… И на руках яду нет… Значит, он сам не брал… Значит, это она ему дала! Слушай-ка! У неё ведь и мать колодница, кого-то прикончила! А-а-а! Ты подумай! Яблоко от яблони… Вот порода-то! – мать хлопнула ладонью по столу. – Ты подумай! Этого отравила… А зачем? Меня чуть в гроб не вогнала… Ну паршивка! Спать, наверное, мешал. Мы-то привыкли все… А тут с непривычки – ходит какой-то, орёт… Слышала ты? Приходил он?.. Слушай-ка! Я вот, что хотела-то… Ай-яй-яй… Ну, каторжные! – ничто больше не выдавало в ней болезни, разве только неряшливый, растрёпанный вид. – Ты вот что… Люггер-то скоро уезжает… Поняла?
– Что?
– Давай-ка… – кивнула она, – давай-ка… оденься, накрасься… и к нему. И нечего тут!
– Что «нечего»?
– Нечего… Терять уже нечего. С белобрысым твоим... Всё уже потеряла давно, – она безнадёжно махнула на меня рукой. – И морщиться нечего. Это жизнь. Все так… Уж всё как есть… Придёшь и скажешь: так, мол, и так, Аркадий Борисович… Поняла?
– Поняла, – спокойно ответила я. – Прямо сейчас к нему и пойду.
– И правильно. Прямо сейчас иди, – мать недоверчиво рассматривала меня. – Прямо иди сейчас собираться. И посуду оставь… Я помою… потом.
Я действительно встала из-за стола и отправилась в свою комнату одеваться, чтобы затем идти к Люггеру. Стоило матери заговорить о нём, как мне стало не по себе. Не от могущего показаться иным ханжам неприличия её наставлений и не от наивного цинизма, с каким она взялась устраивать моё счастье. Но я вдруг поняла, что и сама, ещё до того, как она появилась в кухне, успела подумать о том же. По дороге домой меня мучила засевшая где-то глубоко и не могущая прорваться наружу мысль. Иногда, подумав о чём-то и тут же отвлекшись, я пытаюсь вернуться к первой своей мысли, но тщетно. Она прячется от меня в каких-то тайниках, не оставляя следов. Но не изжитая, она тяготит и лишает покоя. Я именно хотела пойти к Люггеру и предложить себя. Но до тех пор, пока мать не дала благословения, я не решалась выпустить эти мысли. Я отчего-то страшно разозлилась на мать, точно мне было бы приятно, если бы она вдруг стала меня отговаривать и останавливать.
Выслушав её, я решила непременно и во что бы то ни стало идти к Люггеру.
Присев за туалетный столик, я уставилась на себя в зеркало. Узкое, вытянутое, ассиметричное лицо; маленькие, близкопосаженные, ничего особенного не выражающие голубые глазки; мясистый нос с широкой как у льва переносицей, вечно припухшие, точно покусанные пчёлами, губы. Одно утешение – густые тёмные волосы. Терпеть не могу блондинок, но иногда думаю, что быть блондинкой проще и приятнее. Хотя воображаю, что за мужчины увиваются вокруг блондинок – поговорить не с кем. Но осветлять волосы ни за что бы не стала! Крашеная блондинка – это что-то вроде кетчупа в Лизином представлении.
Интересно, что будет, когда Лиза явится домой? Едва ли мать промолчит. Может, не стоило говорить матери об этом обеде у Ольги Петровны? Но ведь я со смертного одра её подняла! В конце концов, какое мне дело до всего этого?
Я оделась, как одеваются у нас проститутки с Заречья: босоножки на каблуках-ходулях, джинсовые шорты, похожие на плавки-бикини, майка, похожая на лифчик и огненно-красная бандана. Чтобы не сломать ноги, и чтобы в городе меня никто не видел в таком виде, я вызвала к дому такси. Выглядела я отвратительно. И мне нравилось выглядеть отвратительно. Мать усадила меня в машину, да ещё и перекрестила вдогонку.
– На Московскую улицу… к дому Марии Ефимовны, – объявила я таксисту.
Пока мы добирались до Московской улицы, мой водитель, у которого имя Марии Ефимовны оказалось в самобытном образном ряду, рассуждал о пользе сталинизма.
– Позвольте, позвольте! – сильно упирая на «о», возражал он кому-то. – Сталин боролся с троцкизмом! Ежели вы не за Сталина, стало быть, за Троцкого. А? Третьего не дано…
– Лично я за Цурюпу, – сказала я, глядя в окно и совершенно не думая, что и зачем говорю. Однако слова мои чем-то смутили таксиста. Он замолчал. К счастью, уже подъезжали.
В голове у меня было совершенно пусто. Ни на секунду я не задумалась о том, что буду говорить и делать, придя к Люггеру. Никогда я не надеялась, что Люггер увезёт меня с собой после того, как я появлюсь перед ним в костюме обитательницы дома терпимости. Всерьёз верить в успех подобного предприятия под силу только моей матери. Не знаю, на что я рассчитывала. Но уже потом мне как-то пришло в голову, что привлекла меня исключительная порочность всей ситуации, а главное, о! главное – это удовольствие. Не физическое, конечно, а тонкое удовольствие, знакомое тем, кто отдавался пороку, кто хоть раз пускался во все тяжкие. Слабый, потом, спустя время, непременно застыдится и ночами, заливаясь в темноте краской, станет ворочаться и грызть подушку. Сильный способен копить любые впечатления. Впрочем, может быть, я всего только рисовалась или, как говорит моя мать, «бахвалилась».
Почему-то в том, что принято называть пороком, мне виделось что-то настоящее, что могут позволить себе не все, а только избранные, только сильные и свободные. Ведь я твёрдо знаю, что порочны все, все как один. Но все, по старой памяти, изображают негодование перед пороком, что означает всего лишь неприятие самого себя. Слабые, рабские натуры робеют традиций, установленных кем-то традиций. Сильные и свободные принимают себя во всей полноте и утверждают собственные нормы. Сильные и свободные никому не позволят диктовать себе. К тому же кто-то уже отменил часть вчерашних запретов. Почему бы не идти дальше? Зачем ждать чьего-то дозволения? Не желаю воровато обкусывать с краю, когда можно съесть весь кусок!..
Машина остановилась прямо напротив калитки. Я расплатилась и, выскользнув из такси, огляделась – мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня. Но поблизости никого не оказалось, и я, довольная, что осталась незамеченной, прошла в калитку.
Улица Московская – центральная в нашем городе. Но домик Марии Ефимовны стоит в самом её конце, где заканчивается асфальт, и начинается поле, за которым уже лес. И после пересечения с Южной улицей дома здесь стоят только на чётной стороне. Вдоль нечётной тянется заросший черёмухой овраг. В мае, когда черёмуха цветёт, и аромат её заставляет замедлять шаг, когда в овраге переливаются соловьи и ветер приносит из лесу кукушкин голосок, я люблю приходить сюда. Этот уголок города похож на сказочный мир. Здесь меня всегда охватывает приятная грусть, отчего-то щемит сердце, и хочется плакать. Но это хорошие слёзы – на душе у меня спокойно и тихо. Я прихожу сюда за ощущениями, которых и объяснить не умею. Но мне нравится слагать их в сердце. Быть может, ощущения эти – одно из немногих моих сокровищ…
Правда, в последнее время с чьего-то почина появилась в овраге помойка. И я боюсь, что однажды весной её зловоние заглушит черёмухин дух.
Я подошла к дому и хотела позвонить. Но вдруг заметила, что дверь на веранду приоткрыта. На двери во внутренние покои, я знала, был свой замок. Первую дверь тоже пытались запереть – задвижка выступала на один поворот ключа. Но в том-то и дело – с непривычки ли, а может, впопыхах, дверь закрыли не на два оборота, а всего лишь на один. Этого оказалось недостаточно: задвижка выскочила, дверь приоткрылась. Неясным оставалось одно: изнутри или снаружи поворачивали ключ.
Почему-то созерцание двери и замка смутило меня. Безразличие исчезло, я вдруг явственно ощутила неловкость и своего наряда, и положения. Но отступать было поздно, и я решительно поднялась на веранду.
XI
Дверь в комнаты оказалась запертой. Я постучала и несколько раз дёрнула ручку. Удостоверившись окончательно, что дома никого нет, я в ту же секунду обрадовалась. Мне уже расхотелось предаваться пороку, и вся затея встала передо мной каким-то отвратительным чудовищем, какой-то грязной, зловонной, раскисшей бабой. Довольная, плюхнулась я на старый кожаный диван и возблагодарила судьбу, которая устроила всё как нельзя лучше.
Не раз бывала я у Марии Ефимовны с Иваном Петровичем. Обстановка комнат и веранды была мне хорошо знакома. Люггер, проведший в родовом имении несколько дней, ничего, кажется, не изменил здесь. Во всяком случае, на веранде всё оставалось, как было при Марии Ефимовне. Стоял круглый стол, покрытый вязаной скатертью, а вокруг стола – плетёные кресла. Стоял старый, а лучше сказать, старинный диван, обтянутый чёрной, изрядно потёртой кожей. Был ещё буфет тёмного дерева и всякая мелочёвка: столик на тонких, высоких ножках, низкий комодец и кованый железом сундук.
Развалившись на холодной коже дивана и разглядывая с аппетитом мебель и безделушки, украшавшие её поверхности, я совершенно уже успокоилась и даже ослабла, как это всегда бывает со мной после душевного напряжения. Я даже забыла о цели своего визита в этот дом. Как вдруг явственно послышался стук калитки, и в следующую секунду я различила голоса. Кто-то направлялся к дому.
Первым моим движением было броситься в раскрытую дверь. Но я вовремя спохватилась. Если Люггер со свидетелями увидит меня выскакивающей из дому, как потом я докажу, что дверь была распахнута до моего прихода? А ну как на веранде уже побывали, а заодно прихватили что-нибудь ценное? Всё это мгновенно пронеслось передо мной. Да и наряд мой, о котором я тут же вспомнила, заставил меня струсить. Я заметалась по комнате.
В моём распоряжении имелись: диван, стол со скатертью и сундук. Почему-то первым делом бросилась я именно к сундуку. Но едва приподняла я крышку, как меня окатило такой могучей волной нафталина, что, бросив в ту же секунду крышку, я со всех ног кинулась к столу. Но и тут меня ждало разочарование: не пойму, как сразу я не заметила, что слишком короткая скатерть не скрыла бы меня всю. И как только Люггер с приятелем появились бы в комнате, первым делом они наткнулись бы на меня, с глупейшим видом выглядывающую из-под стола. Воображаю, что стало бы с Люггером! Слишком много впечатлений за такое короткое время.
Другими словами, мне ничего не оставалось делать, как заползать под диван, который оказался для этого настолько низким, что мне пришлось приподнимать его. И даже распластавшись по полу, я, тем не менее, чувствовала спиной диванное днище. К тому же диван оказался ещё и слишком коротким, и ноги мои, а точнее каблуки, вылезали наружу.
Наверное, никогда уже не повторить мне той позы, какую пришлось принять под старым диваном Марии Ефимовны Люггер. Ворочаясь и подтягивая под себя ноги, я, между делом, подумала, что на этом самом диване не так уж в сущности давно сиживал какой-нибудь курчавый брюнет в пенсне и с маузером в кармане скрипучего кожаного пиджака…
Люггер, меж тем, уже подходил к дому – голоса становились всё явственнее. Я уже не сомневалась, что с Люггером был только один человек, но кто именно, я не разобрала пока. Хотя, без всякого сомнения, этот второй голос был знаком мне. И я рассчитывала, что как только они войдут в дом, я вскоре узнаю гостя Люггера.
Встречаться здесь с кем бы то ни было не входило в мои планы. Но меньше всего на свете мне хотелось бы столкнуться с Иваном Петровичем. И какова же была моя досада, когда в вошедшем я узнала по голосу Ивана Петровича!
– …Да это вы сами и не закрыли, Аркадий Борисович! Посмотрите, на один поворот у вас заперто… Дайте-ка ключики… – послышалось бряцание ключей на связке, а затем щелчок замка.
– Вот видите? – продолжал Иван Петрович. – Это вы сами не закрыли. С непривычки… понятно.
Люггер хмыкнул, пробормотал что-то, и я снова услышала, как щёлкает замок. Потом хлопнула дверь, и Люггер с Иваном Петровичем направились в мою сторону. Наконец они поравнялись с диваном, и я увидела, как тяжёлые шнурованные боты Люггера, не останавливаясь, прошли мимо, к столу. А востроносые замшевые туфли Ивана Петровича на секунду задержались, после чего закружились на месте, и Иван Петрович грузно опустился мне на спину.
– Ерунда, – сказал Люггер, усаживаясь в плетёное кресло, – хотя, думаю, здесь есть… э-э-э… чем поживиться. Кофе хотите?
– Нет, благодарю. Ничем тут особенным на веранде не поживишься. Ту-то дверь, я вижу, вы хорошо заперли? Захотят, Аркадий Борисович, поживиться, всё равно влезут… запирай, не запирай… Э-хе-хе… – шумно вздохнул Иван Петрович. – Что за жизнь такая пошла? Тут режут, тут грабят… И кто их всему этому учит?.. Вы слыхали? – вдруг оживился он. – Слыхали? Мальчишку-то того убили… Ну полоумного-то нашего, юродивого…
– Да, слышал, – равнодушно отозвался Люггер. – Ужасно.
– Ужасно!.. – усмехнулся Иван Петрович. – Ужасно – это не то слово, Аркадий Борисович! Не то слово. Убили-то его не где-нибудь, а у меня на дворе. Вот, что гаже всего. Ну кто, скажите! Кто мог мне эту пакость устроить?! Ну, будем, конечно, считать, что это он сам отравился. Как-нибудь там… случайно… Но если начистоту… То ведь непохоже…
– Вы кого-то подозреваете? – осторожно спросил Люггер.
– Ну для дела-то можно многих подозревать. А если опять же начистоту… Ума я не приложу! А тут ещё… Кто-то донёс Лидии Николаевне, что следователь… ну как бы это… интересовался Лизой. Господи! Это Лизу-то подозревать! Да и то сказать – подозревает! Ну задал лишний вопрос.. Так ведь настучали уже!.. Сволота… А Лидия Николаевна уже вбила себе в голову, что Лиза и впрямь убийца! И уж трубит по всему городу! Что ты будешь делать!.. Это, говорит, у неё семейное. Мать, говорит, у неё колодница, и яблоко от яблони недалеко падает.
Я чуть не вскрикнула под диваном. Значит, мина, заложенная мной, уже подействовала.
– Мать Лизы? – удивился Люггер.
– Ну да… Какая-то тёмная история в Москве. А в Москве, знаете, ни дня без тёмной истории…
– Мегаполис, – заметил Люггер.
– Так-то оно так… Но Лиза-то здесь при чём! А Лидия Николаевна если что вобьёт себе в голову… – Иван Петрович вздохнул тяжеленько. – Разубедить… это легче воробьёв руками ловить. Уж я и так, и этак! Не труби ты, говорю, на весь город! Меня же этим ославишь! Ни в какую!.. Она, говорит, убийца как и мать её. И ведь до седьмого колена всех приложила!
– Не обращайте внимания, – усмехнулся Люггер. – Обычное дело – женщины…
– Да как же, Аркадий Борисович! Лиза-то ведь только домой, на порог только взошла, а уж Лидия Николаевна в крик! Убирайся, кричит, убийца! Так и назвала ведь её! Что ты будешь делать!.. Не хочу, говорит, чтобы моя дочь под одной крышей с убийцей жила. Это Лизонька-то моя убийца! Господи! Да ведь она сама как блаженная, сама юродивая! Вы же видели… Кого ж бы она убить-то смогла!
– Да, – уклончиво заметил Люггер, – много странных людей.
– Лизонька, доченька моя, – продолжал блажить Иван Петрович, – теперь ведь и не приедет ко мне! Двадцать лет я с ней не видался, Аркадий Борисович! Двадцать лет… С доченькой единственной… Нет же у меня больше детей. Да и не будет уж…
«А я, значит, не в счёт!» – промелькнуло у меня. Господи! Да ведь я и впрямь живу среди юродивых! Первый из которых Иван Петрович Размазлей, юродивый себя ради.
– Ничего, – равнодушно заметил Люггер, – вы сами к ней поедете. Это лучше.
– Да пожалуй, – грустно, но уже без причитаний заметил Иван Петрович. – И вот ещё что… Просьба у меня к Вам, Аркадий Борисович. Точнее, приглашение.
– Какое же? – удивился Люггер.
– Завтра… если, конечно, время… Это, видите ли, старая история. Отец Мануил…
– Кто? – испугался чего-то Люггер.
– Отец Мануил. Наш главный поп! – объяснил Иван Петрович и тут же вслед за Люггером хихикнул. – Эту встречу сам он и назначил. Говорить со мной желают! Так что пойдёмте, это может быть интересно.
– Да, это забавно. Что он, гей?
– Виноват… – растерялся Иван Петрович.
– Ну… поп этот ваш… гей?
– Да что вы… С чего вы это… Какой там!..
– Ну, хорошо, хорошо… Я пойду с вами.
– Ну и прекрасно! – обрадовался Иван Петрович. – Прекрасно… Обяжете! Вам интересно, а мне, знаете, сподручно. Вы человек чужой, иностранец даже. Может, урезоните нашего… святого отца! А то, понимаете, очень активный культовый работник.
Они засмеялись.
– А тут ещё эта смерть… – продолжал Иван Петрович, – этого убогого. Так некстати! Так некстати!.. У меня ведь грешным делом промелькнула мысль на них это дело повесить. Убийство-то!..
– На кого?
– Да на патриотов, как они себя называют. Хм… Как будто другие не патриоты! Отец Мануил-то у них вроде духовного лидера. Наш, так сказать, местечковый и доморощенный аятолла Хомейни.
Они снова засмеялись.
– И что же убийство? – вернулся к разговору Люггер.
– Убийство-то? Да ведь найди только следствие какую-нибудь вещичку – книгу ли, тетрадку, листок ли бумаги – всё одно! Но только чтоб непременно со свастикой или с другой какой ерундой в этом роде. И вот вам указание на убийцу! И ведь сразу двух зайцев: и злодея станем искать, и всю эту компанию поприжмём!
Снова засмеялись.
– Свастика – это понятно, – заметил Люггер, – но при чём тут ваша Церковь?