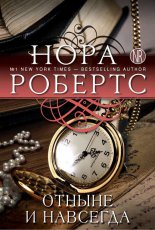Щегол Тартт Донна

— Надо было идти в школу.
— Хмммм, — Борис мне четко дал понять, что в школу ходит только потому, что я туда хожу, и потому, что ему больше нечего делать.
— Нет, правда. Надо было идти. Там сегодня пицца.
Борис нахмурился с неподдельным сожалением.
— Капец. — И вот чем еще хороша была школа — нас там хотя бы кормили. — Теперь уж поздно.
Иногда я просыпался по ночам, подвывая. После взрыва хуже всего было то, как я носил его в собственном теле — этот его грохот, его костоломное пекло. Во сне у меня всегда было два выхода — светлый и темный. И приходилось выбираться через темный, потому что светлый подрагивал пламенем и жаром. Но в темном — в темном были трупы. Хорошо, что Борис никогда не злился и даже не пугался, когда я его вот так будил, будто бы в его мире вопли ужаса по ночам были самым обычным делом. Бывало, он поднимет Попчика, который храпел у нас в ногах, и переложит мягким сонным ворохом мне на грудь. И вот так, придавленный со всех сторон их теплом, я лежал, считал про себя по-испански или пытался припомнить все слова, которые я знал на русском (ругательства по большей части), пока не засну.
Когда я только приехал в Лас-Вегас, то пытался подбодрить себя, воображая, будто мама жива и живет себе в Нью-Йорке привычной жизнью — болтает со швейцарами, берет в кафешке навынос кофе с кексом, ждет электрички в метро на Шестой линии, стоя возле газетного киоска. Но этого хватило ненадолго. Теперь же я зарывался лицом в чужую подушку, от которой совсем не пахло ни мамой, ни домом, и вспоминал квартиру Барбуров на Парк-авеню, а иногда — дом Хоби в Виллидже.
Очень жаль, что твой отец распродал все мамины вещи. Надо было сказать мне, я купил бы что-нибудь и сохранил для тебя. В дни печали — ну, у меня по крайней мере так — знакомые вещи, вещи, которые остались неизменными, могут стать утешительным ориентиром. Судя по твоим описаниям, пустыня — этот безбрежный океан жары — место и ужасное, и прекрасное одновременно. Может, и есть что-то в этой ее пустоте, в этой ее первозданности. Свет ушедших дней сильно разнится со светом дней нынешних, и все же в этом доме каждый уголок напоминает мне о прошлом. Но когда я думаю о тебе, то кажется, будто ты ушел на корабле в море — уплыл в чужестранную яркость, где нет никаких дорог, а есть только звезды и небо.
Письмо это было вложено в старое издание «Ветра, песка и звезд»[45] Сент-Экзюпери, которое я потом читал и перечитывал. Я так и оставил письмо в книжке, где оно замялось и засалилось от постоянных перечитываний.
В Вегасе я только Борису и рассказал, как погибла мама, — и, к слову сказать, информацию эту он воспринял достаточно спокойно, ведь сам он уже успел повидать столько хаоса и насилия, что мой рассказ его ничуть не шокировал. Он сам видел мощные взрывы на шахтах в Бату-Хиджау, где работал его отец, и еще в таких местах, о которых я даже и не слышал, а кроме того, не зная особо никаких деталей, Борис сумел еще достаточно точно угадать, какую взрывчатку тогда использовали.
При всей своей разговорчивости он был достаточно скрытным, и я знал, что он никому не разболтает, мне и предупреждать не надо. Может, оттого, что он рос без матери и сам тесно сходился то, например, с Вами, то с отцовским «денщиком» Евгением, то с Джуди, женой хозяина бара в Кармейволлаге, моя привязанность к Хоби вовсе не казалась ему странной.
— Люди обещают писать, а сами не пишут, — сказал он как-то раз, когда мы сидели на кухне, взглянув на письмо от Хоби. — А этот мужик пишет тебе все время.
— Да, он хороший.
Я уже давно оставил надежду объяснить Борису все про Хоби, про его дом, про мастерскую, про то, как вдумчиво он умеет слушать — не то что отец, — и сильнее всего про то, какая там, ну вроде как приятная атмосфера для мыслей: туманный, осенний, мягкий и манящий микроклимат, где в обществе Хоби я чувствовал себя уютно и безопасно.
Борис зачерпнул пальцем арахисового масла из стоявшей между нами на столе банки, сунул палец в рот. Арахисовое масло он тоже распробовал — его, как и маршмеллоу, еще одно любимое Борисово лакомство, в России было почти не достать.
— Старый гомик? — спросил он.
Я растерялся.
— Нет, — ответил с ходу, а потом: — Не знаю.
— Ну и неважно, — сказал Борис, протягивая мне банку. — Я знавал очень славных старых гомиков.
— По-моему, он не такой, — неуверенно произнес я.
Борис пожал плечами:
— Да какая разница? Он к тебе добр? Мы-то с тобой немного доброты в жизни видали, правда?
Борису мой отец понравился, и чувство это было взаимным. Он лучше моего понимал, чем именно отец зарабатывает на жизнь; ему и говорить не пришлось, он и сам понял, что, если отец проигрался, к нему лучше не подходить, и еще он знал, что отцу нужно то, в чем я ему как раз отказывал — ему нужна была публика; когда он в угаре от выигрыша, взбудораженный, куражась, расхаживал по кухне, ему нужно было, чтоб его рассказы выслушивали, чтоб говорили ему: вот молодец какой. Стоило нам заслышать, как он, разгоряченный, ликующий, мечется внизу в победном чаду — радостно топочет, шумит, Борис тут же откладывал книгу, спускался к нему и терпеливо выслушивал занудный, карта за картой, отчет отца о том, как он сыграл этим вечером в баккара, который зачастую перерастал в невыносимый (для меня) пересказ других его достижений — до самой его учебы в колледже и неудавшейся актерской карьеры.
— А ты мне не рассказывал, что у тебя отец в фильмах снимался, — сказал Борис, возвращаясь наверх с чашкой уже простывшего чаю.
— Ну, снимался. Типа в двух.
— Ну, слушай. Вот тот, тот реально известный фильм — про полицейских, помнишь, — там полицейский брал взятки. Как он назывался?
— У него роль была маленькая. Он на экране был, знаешь, секунду. Играл адвоката, которого застрелили на улице.
Борис пожал плечами:
— Ну и что? Все равно интересно. Приехал бы на Украину — как звезду бы встречали.
— Вот и ехал бы, и Ксандра с ним.
Мой отец разделял страсть Бориса к тому, что сам он называл «интеллектуальными беседами». Политикой я не интересовался, политические взгляды отца волновали меня и того меньше, и я не желал ввязываться в бессмысленные споры о том, что творится в мире, которые так обожал отец. Но вот Борис — пьяный ли, трезвый ли — с радостью ему в этом потакал. Частенько во время таких разговоров отец всю дорогу размахивал руками и передразнивал Борисов акцент, так что я мог только зубами скрежетать. Но Борис, похоже, этого не замечал — или не обижался. Бывало, он пойдет поставить чайник и не вернется, спущусь, а они спорят самозабвенно на кухне, будто актеры на сцене, о распаде СССР или о чем-то в таком духе.
— Ай, Поттер, — говорил он, вернувшись, — папа твой — такой классный мужик!
Я вытащил айподовские наушники из ушей:
— Как скажешь.
— Ну правда, — сказал Борис, шлепаясь на пол, — такой общительный, такой умный. И тебя любит!
— Не знаю, с чего ты это взял.
— Да брось! Он хочет наладить с тобой отношения, просто не знает как. Ему хотелось бы, чтоб это не я, а ты с ним вел беседы.
— Это он тебе сказал?
— Нет. Но правда же! Я знаю.
— Чуть было не поверил.
Борис испытующе глянул на меня:
— За что ты его так ненавидишь?
— Я его не ненавижу.
— Он разбил твоей матери сердце, — веско произнес Борис, — когда ушел. Но тебе надо простить его. Это все теперь в прошлом.
Я уставился на него. Это вот, значит, что отец людям рассказывает?
— Да чушь собачья, — я привскочил, отшвырнул книжку с комиксами. — Мама… — как же объяснить-то? — ты не понимаешь, он вел себя с нами, как мудак, да мы обрадовались, когда он ушел. Знаю, ты думаешь, что он такой классный, все дела…
— А чего в нем ужасного? Потому что с другими женщинами встречался? — спросил Борис, выставив перед собой раскрытые ладони. — Бывает. У него своя жизнь. Ты-то тут при чем?
Не веря своим ушам, я покачал головой:
— Чувак, — сказал я, — вот он тебе мозги запудрил.
Меня всякий раз поражало, как отец мог кого угодно охмурить и заставить плясать под свою дудку. Ему одалживали деньги, продвигали по службе, знакомили с нужными людьми, пускали пожить в свои летние виллы, люди ели у него с рук — а потом вдруг все, дружба кончалась, и отец начинал окучивать кого-нибудь еще. Борис обхватил колени, прислонился к стене.
— Ладно, ладно, Поттер, — миролюбиво сказал он, — твой враг — мой враг. Ты его ненавидишь — я его ненавижу. Но, — он склонил набок голову, — вот он я. Живу в его доме. Что мне делать? Разговаривать, быть милым, приветливым? Или выказывать неуважение?
— Этого я не говорил! Просто не верь всем его рассказам.
Борис усмехнулся:
— Я ничьим рассказам не верю, — сказал он, дружески меня лягнув, — даже твоим.
Отцу Борис, конечно, нравился, но все равно я всеми силами старался отвлечь его внимание от того факта, что Борис практически к нам переселился, что, впрочем, было не так уж и сложно, потому что в перерывах между наркотой и игрой отец был такой рассеянный, что не заметил бы, если бы я и рысь, например, домой привел. Уломать Ксандру было труднее, потому что она чаще ныла про то, какие это расходы, несмотря на то что Борис делал свой вклад в хозяйство — постоянно таскал нам ворованную еду. Когда Ксандра была дома, он, чтобы не попадаться ей на глаза, сидел наверху — хмурясь, читал «Идиота» на русском или слушал музыку через мои переносные колонки. Я носил ему с кухни еду и пиво и научился делать чай так, как он любит: обжигающе горячий, с тремя кусочками сахара.
На носу уже было Рождество, хотя по погоде и не скажешь: по ночам было прохладно, но днем — светло, жарко. Когда поднимался ветер, зонтик возле бассейна хлопал пулеметной очередью. По ночам сверкали молнии, но дождя не было, иногда ветром взметало песок, и он, взвихрившись, носился туда-сюда по улице.
На меня предстоящие праздники наводили тоску, Борис относился к ним куда спокойнее:
— Это все для детей, — презрительно сказал он, лежа у меня на кровати, опираясь на отставленные назад локти. — Елка, игрушки. У нас в сочельник свои praznyky будут. Что скажешь?
— Praznyky?
— Ну это. Типа как вечеринка. Не целый прямо рождественский обед, а просто вкусный ужин. Приготовим что-нибудь особенное, может, отца твоего с Ксандрой позовем. Как думаешь, они согласятся с нами поесть?
К превеликому моему удивлению отец — и даже Ксандра — от этой идеи пришли в восторг (отец, думаю, в основном потому, что ему нравилось само слово praznyky и нравилось заставлять Бориса то и дело его произносить). Двадцать третьего числа мы с Борисом отправились за покупками — с реальными деньгами, которые нам выдал отец (повезло нам, потому что в облюбованном нами супермаркете было полно закупавшегося к праздникам народу — не своруешь ничего толком) — и вернулись с картошкой, курицей, набором малоаппетитных ингредиентов (кислая капуста, грибы, консервированный горошек, сметана) для какого-то праздничного польского блюда, которое, по словам Бориса, он умел готовить, ржаными булками (Борис настоял на том, чтоб хлеб был черный, белый, сказал он, для нашего ужина совсем не подходит), фунтом масла, маринованными огурцами и рождественскими сладостями.
Борис сказал, что есть мы сядем, когда на небе зажжется первая звезда — Вифлеемская звезда. Но мы особо никогда ни для кого не готовили — все больше для себя, и в результате здорово припозднились. В сочельник, часам к восьми вечера мы сделали это блюдо из кислой капусты, а курице оставалось торчать в духовке еще минут десять (мы сообразили, как его готовить, прочитав инструкцию на упаковке), когда вошел отец, насвистывая «Украсьте зал», и лихо забарабанил по дверце кухонного шкафчика, чтобы привлечь наше внимание.
— Давайте, ребята! — воскликнул он. Лицо у него было раскрасневшееся, блестящее, а говорил он очень быстро — натужным, отрывистым тоном, который мне хорошо был знаком. На нем был модный, старый, еще нью-йоркский костюм от «Дольче и Габбаны», но без галстука — рубашка выбилась, пуговицы у горла расстегнуты. — Давайте, причешитесь-ка, приоденьтесь. Я веду нас в ресторан. Тео, у тебя есть одежда поприличнее? Должна же быть.
— Но… — Я расстроенно глядел на него. Узнаю папочку — впорхнуть вот так и в последний момент поменять все планы.
— Ой, да ладно тебе. Ничего с вашей курицей не сделается. Ведь не сделается? Не сделается, — он тараторил, как из пулемета строчил. — И эту, другую штуку можно тоже убрать в холодильник. Съедим ее завтра, на рождественский обед — это же тоже еще будут praznyky? Или praznyky только в сочельник? Или я что-то путаю? Да, ну ладно, тогда у нас свои будут — на Рождество. Новая традиция. И разогретое даже вкуснее. Слушайте, будет потрясно. Борис, — он уже выпроваживал Бориса из кухни, — какой у тебя размер рубашки, товарищ? Не знаешь? Есть у меня куча старых рубашек от «Брукс Бразерс», надо бы все их тебе отдать, отличнейшие рубашки, ты не подумай чего, тебе они, наверно, до колен будут, просто мне они в горле узковаты стали, а на тебе, если рукава подвернешь, будет самое то…
Хоть я жил в Лас-Вегасе уже почти полгода, на Стрипе был всего четвертый или пятый раз, а Борис, который себя вполне комфортно чувствовал, курсируя по нашей крохотной орбите школа — торговый центр — дом, и вовсе в настоящем Лас-Вегасе почти что и не бывал. Мы с изумлением глазели на водопады неона, а вокруг нас сияло, пульсировало, пузырями лилось электричество, и под безумным ливнем огней лицо у Бориса вспыхивало то алым, то золотым.
Внутри «Венецианца» гондольеры перемещались по настоящему каналу с настоящей водой, от которой разило химикатами, а оперные певцы в маскарадных костюмах распевали под искусственными небесами «Тихую ночь» и «Аве, Мария». Мы с Борисом, загребая ногами, неловко тащились за отцом с Ксандрой, чувствуя себя оборванцами, до того пришибленные, что в головах мало что укладывалось. Отец заказал нам столик в шикарном итальянском ресторане с дубовыми панелями на стенах — сетевой собрат куда более знаменитого нью-йоркского ресторана.
— Так, заказывайте все, чего хочется, — сказал он, отодвигая стул для Ксандры. — Я угощаю. Отрывайтесь.
И мы поймали его на слове. Мы ели флан из спаржи под соусом, винегрет с луком-шалотом, копченого лосося, карпаччо из копченой угольной рыбы, перчателли с испанскими артишоками и черным трюфелем, хрустящего черного окуня с шафраном и бобами фава, стейк из грудинки на барбекю, тушеные говяжьи ребрышки, и еще паннакотту, тыквенный пирог и инжирное мороженое на десерт. Это было в сто, в пятьсот раз лучше всего, что я ел за последние месяцы, а то и за всю жизнь, а Борис, который одной только угольной рыбы съел две порции в одно лицо, был в экстазе.
— Ай, прэлэстно, — чуть ли не урча, в пятнадцатый раз повторил он, когда хорошенькая юная официантка принесла нам к кофе еще одну тарелку со сладостями и бискотти. — Спасибо! Спасибо вам, мистер Поттер, Ксандра, — снова и снова говорил он. — Вкуснота!
Отец, который по сравнению с нами и не ел почти ничего (да и Ксандра тоже), отодвинул тарелку. Виски у него взмокли от пота, а лицо было до того красным и блестящим, что казалось, он вот-вот засветится.
— Благодарить надо китайчика в бейсболке «Чикаго Кабз», который весь вечер в казино деньги просаживал, — сказал он. — Господи боже. Да там вообще невозможно было проиграть, — пока мы ехали, он успел уже нам похвастаться сорванным кушем — жирной скаткой сотенных, перехваченных резинкой. — Карта нам так и шла. Ретроградный Меркурий и Луна в зените! Ну то есть — просто как по волшебству. Знаешь, бывает иногда такое — от стола как будто свет исходит, заметным таким нимбом, и ты понимаешь — да, вот оно. Ты и есть этот свет. Там офигенный крупье, Диего, обожаю Диего — блин, чушь, конечно, но он одно лицо с художником Диего Риверой, только в офигеннейшем смокинге. Я вам уже рассказывал про Диего? Он там уже сорок лет, еще со времен «Фламинго». Огромный, тучный, солидный мужик. Мексиканец, короче. Быстрые скользкие ручки, увесистые кольца… — он пошевелил пальцами. — «Бак-кар-РРА»! Господи, как же я люблю этих олдскульных мексиканцев в залах с баккара, они охеренно держат марку. Законсервированные старые стиляги, знают, как себя подать, понимаешь? Ну и, короче, сидим мы за столом у Диего, я и этот китайчик, еще тот хрен, очки в роговой оправе, по-английски ни бум-бум — одно только: «Сяу-мяу, сяу-мяу!», хлебает такой чай этот женьшеневый, ну, который они все пьют — на вкус как пылища, а вот запах я обожаю, это запах удачи, и невероятно просто — нам так перло, Господи боже, и китаяночки все эти как выстроятся позади нас, и каждая комбинация — наша… Как по-твоему, — спросил он Ксандру, — нормально будет, если я отведу их в зал баккара и с Диего познакомлю? Уверен, они от него офонареют. Интересно, смена у него еще не закончилась? Что скажешь?
— Да его уж там нет, — Ксандра выглядела отлично — глаза горят, вся светится, — на ней было бархатное короткое платье, сандалии с блестяшками и помада гораздо краснее ее обычного тона. — Сейчас — нет.
— Ну, он иногда в две смены по праздникам работает.
— Ой, да им туда неохота тащиться будет. Это ж целый поход. Полчаса идти — через все казино и обратно потом.
— Ну да, но я знаю, что он захочет с моими пацанами познакомиться.
— Да, конечно, — миролюбиво сказала Ксандра, водя пальцем по кромке бокала с вином. В ложбинке у нее на горле влажно поблескивала крохотная золотая голубка на цепочке. — Мужик он славный. Но, слушай, Ларри — знаю, конечно, что ты меня всерьез не воспринимаешь, но я правда вот о чем — начнешь очень уж сильно корешиться с крупье, как опомниться не успеешь, а тебя в зале охрана встретит и возьмет за жопу.
Отец расхохотался:
— Господи, — вскричал он, хлопнув по столу так громко, что я аж дернулся. — Если б не знал, как оно все было на самом деле, то и сам бы решил, что Диего сегодня нам помогал. Слушай, а может, и помогал. Телепатия и баккара! Пусть ваши советские ученые над этим поработают, — сказал он Борису, — сразу у вас там экономика поднимется.
Борис — легонько — прокашлялся и поднял свой бокал с водой.
— Простите, можно я скажу кое-что?
— Ага, время тостов? А нам надо было тосты готовить?
— Я благодарю всех вас за прекрасный вечер. И желаю всем нам здоровья, счастья и чтобы все мы дожили до следующего Рождества.
В наступившем удивленном затишье хлопнула на кухне пробка от шампанского, раздался взрыв смеха. Только-только пробило полночь — две минуты, как началось Рождество. Наконец отец откинулся на спинку стула и засмеялся:
— С Рождеством! — взревел он, вытащил из кармана коробочку из ювелирного магазина, которую он подтолкнул к Ксандре, и две пачки двадцаток (по пятьсот долларов! в каждой!), которые перебросил нам с Борисом. И хотя в тот безвременной, кондиционированный вечер в казино слова вроде «дня» и «Рождества» превратились в почти что бесполезные конструкты, «счастье» в громком звяканье бокалов больше не казалось такой уж безнадежной и гибельной идеей.
Глава шестая
Ветер, песок и звезды
Весь следующий год я так старался вытеснить из памяти и Нью-Йорк, и всю мою прошлую жизнь, что едва замечал, как проходит время. В бессезонной жаре мелькали одинаковые дни: утром — похмелье, езда в школьном автобусе, саднит заалевшие спины, потому что мы опять заснули у бассейна, бензиново несет водкой, от Поппера вечно воняет хлоркой и мокрой псиной, Борис учит меня русскому: считать, спросить дорогу, предложить выпить, всё — с тем же терпением, с каким он учил меня ругаться. Да, давайте, пожалуйста. Большое вам спасибо. Govorite li vy ро angliyski? Ya nemnogo govoryu po russki.
Лето ли, зима ли — дни были безоблачными: ветер из пустыни обжигал нам ноздри и сушил глотки. Все было забавным, все нам было смешным. Бывало, прямо перед закатом, едва-едва примется лиловеть голубое небо, к нам в пустыню выкатывались невероятные, бело-золотые пэрришевские облака, простеганные электричеством — будто божественные видения, что привели мормонов на запад. Govorite medlenno, говорил я. Povtorite, pozhaluysta.
Но мы уже до того друг в друга встроились, что могли и не разговаривать, если неохота было: мы умели уже довести друг друга до истерики, всего-то вскинув бровь или вздернув уголок рта. По вечерам мы ели, сидя на полу по-турецки, и на учебниках потом оставались жирные отпечатки наших пальцев. Из-за дурного питания у нас началось истощение, руки и ноги пошли мягкими коричневыми синяками — нехватка витаминов, сказала школьная медсестра, влепила каждому по болезненному уколу в задницу и выдала по банке разноцветных жевательных витаминок для детей.
(«Жопа болит», — жаловался Борис, потирая зад и проклиная металлические сиденья в школьном автобусе.) Я же от торчания в бассейне покрылся веснушками с головы до ног, от хлорированной воды в волосах, которые стали еще длиннее, проступили светлые пряди, и чувствовал я себя в целом неплохо, хотя тяжесть в груди так никуда и не делась, а из-за того, сколько мы жрали сладкого, задние зубы у меня начали гнить. Но, если этого не считать, то я был в порядке. Так — вполне себе счастливо — время и шло, но затем, почти сразу после того, как мне исполнилось пятнадцать, Борис повстречал девчонку, которую звали Котку, — тут-то все и переменилось.
Это имя — Котку («Котыку» по-украински) делает ее интереснее, чем она была на самом деле, но это не настоящее ее имя, а прозвище (по-польски это означало «Котик»), которое ей придумал Борис. Фамилия ее была Хатчинс, звали ее, впрочем, тоже как-то типа Кайли, Кейли или Калли, и жила она в округе Кларк, штат Невада, всю свою жизнь.
Хоть она и училась в нашей школе всего классом старше, лет ей было гораздо больше нашего — на целых три года больше, чем мне. Борис, похоже, давно ее заприметил, но я об этом ничего не знал до тех пор, пока как-то вечером он не сказал, развалившись на кровати у меня в ногах:
— Я влюбился.
— Да? И в кого?
— В эту телочку с обществознания. У которой я травы прикупил. Прикинь вообще, ей уже восемнадцать! Господи, такая красотка.
— У тебя трава есть?
Дурачась, он напрыгнул на меня и ухватил за плечо — знал мое слабое место, сразу под лопаткой — туда всего и надо было нажать пальцами, чтоб я заорал. Но я был не в духе и врезал ему как следует.
— Ой! Блин! — сказал Борис, откатываясь назад, потирая челюсть. — Ты чего?
— Надеюсь, больно было, — ответил я. — Так где трава-то?
И больше мы про Борисов любовный интерес не разговаривали, ну в тот день — точно нет, но потом, пару дней спустя, выхожу я с математики и вижу — он возле шкафчиков стоит, навис над этой девчонкой. Для своего возраста Борис был не слишком высоким, но девчонка была вообще крошечная, хоть и старше нас: грудь плоская, бедра тощие, высокие скулы, лоб блестит, а лицо — резкое, заостренное, треугольничком.
Нос проколот. Черная майка-алкоголичка. На ногтях — облупившийся черный лак, волосы выкрашены черно-рыжими перьями, глаза — пустые, яркие, голубоватого цвета хлорированной воды — жирно подведены черным карандашом. Симпатичная, конечно — вообще, очень даже секси, но от взгляда, которым она меня окинула, мне сделалось слегка не по себе — так смотрят хамоватые кассиры в забегаловках или стервозные няньки.
— Ну, что скажешь? — нетерпеливо спросил Борис, когда нагнал меня после уроков.
Я пожал плечами:
— Симпатичная. Ну вроде.
— Вроде?
— Слушай, Борис, ну выглядит она на все двадцать пять.
— Я знаю! Круто! — одурело сказал он. — Восемнадцать лет! Совершеннолетняя взрослая! Бухло купить — проблем нет! И она тут всю жизнь прожила, знает, где возраст не спрашивают.
Хэдли, общительная деваха в куртке с эмблемой школьной спортивной команды — мы вместе сидели на истории Америки — сморщила нос, когда я ее спросил про Борисову тетку.
— Эта? — переспросила она. — Шлюшка еще та.
Джан, старшая сестра Хэдли, училась в одном классе вместе с этой Кайлой, или Кейли, или как ее там звали.
— А мамаша, я слышала, так вообще настоящая прям проститутка. Друг твой пусть поаккуратнее там, а то подхватит какую-нибудь заразу.
— Ого, — сказал я, поразившись тому, с какой ненавистью она это произнесла, хотя чему тут было удивляться.
Хэдли была из семьи военных, состояла в школьной команде по плаванию и пела в школьном хоре, и семья у нее была нормальная — трое детей, веймарская легавая по кличке Гретхен, которую Хэдли притащила из Германии, отец, который орал на нее, стоило ей прийти домой позже комендантского часа.
— Без шуток, — сказала Хэдли. — Она готова мутить с парнями других девчонок, с другими девчонками — да с кем хочешь. И еще травку, похоже, курит.
— А-а, — ответил я. По мне, так ни один из перечисленных пунктов не был очень уж серьезной причиной для того, чтоб не любить Кайли или как там ее, еще и потому, кстати, что мы с Борисом и сами в последнее время пристрастились к конопле. А вот что меня по-настоящему тревожило, так это то, как Котку (я все звал ее Борисовой кличкой, потому что никак не мог вспомнить, как же ее зовут-то) буквально за один день полностью завладела Борисом.
Сначала в пятницу вечером у него были дела. Потом дела у него были все выходные — и не только вечером, и днем тоже. Еще немного и началось — Котку то, Котку сё, и не успел я опомниться, как вот мы уже с Поппером ужинаем и смотрим телик в полном одиночестве.
— Ну правда же она офигенная? — снова спросил меня Борис, после того как впервые привел ее ко мне домой — вечер тогда не задался совсем, потому что сначала мы укурились так, что не могли и с места двинуться, а потом они принялись кувыркаться на диване в гостиной, а я сидел к ним спиной и пытался сосредоточиться на повторе «За гранью возможного». — Ты что скажешь?
— Эээ, ну-у… — Что он хочет, чтоб я сказал? — Ты ей нравишься. Сто пудов.
Он заерзал на месте. Мы сидели во дворе, возле бассейна, хотя на улице было слишком прохладно и ветрено, не искупаешься.
— Нет, серьезно! О ней ты что думаешь? Говори правду, Поттер, — сказал он, когда я замялся.
— Не знаю, — неуверенно ответил я, а затем — потому что он так и продолжал на меня глядеть — добавил: — Честно? Ну не знаю, Борис. Какая-то она…бедовая.
— Да? А это плохо?
Спрашивал он с искренним любопытством — никакой злобы, никакого сарказма.
— Ну, — сказал я, растерявшись, — может, и нет.
Борис, разрумянившись от водки, приложил руку к сердцу.
— Я люблю ее, Поттер. Честно. Она — самое настоящее, что было у меня в жизни.
Мне стало так неловко, что я аж отвернулся.
— Сучка тощая! — счастливо выдохнул Борис. — Обнимешь ее, такая она костлявая, такая легенькая. Будто воздух. — Странно, но Борис обожал Котку ровно за те качества, которые меня в ней как раз отталкивали: за ее поджарое тело дворовой кошки, за ее облезлую, алчную взрослость. — А какая она смелая, какая мудрая — сердце у нее какое доброе! Мне только и надо, что на нее смотреть и защищать от этого Майка. Понимаешь?
Я тихонечко налил себе еще водки, хотя особо и не хотелось. Вся эта бодяга с Котку смущала меня вдвойне еще и потому, что — как мне рассказал сам Борис с отчетливой гордостью в голосе — у Котку уже был парень, двадцатишестилетний мужик по имени Майк Макнатт, который ездил на мотоцикле и работал в компании по чистке бассейнов.
— Отличненько, — сказал я, когда Борис вывалил мне эти новости. — Надо его к нам вызвать, поможет с бассейном.
Я задолбался вычищать бассейн (а обязанность эту практически перевалили на меня), кстати, еще и потому, что Ксандра вечно забывала то купить всю эту химию, то покупала не то.
Борис потер глаза запястьями.
— Я серьезно, Поттер. Она его боится. Хочет с ним порвать, но боится. Пытается уговорить его в армию записаться.
— Ты лучше сам смотри, чтоб этот парень до тебя не докопался.
— До меня? — фыркнул он. — Я за нее боюсь. Она такая крошка! Тридцать семь кило!
— Да-да.
Котку вечно заявляла, что у нее «пограничная анорексия», и могла с полпинка переполошить Бориса, сказав, что целый день ничего не ела.
Борис съездил мне по уху.
— Ты тут целыми днями один торчишь, — сказал он, усаживаясь рядом и опуская ноги в воду. — Приходи сегодня вечером к Котку. Приводи кого-нибудь.
— Например?
Борис пожал плечами:
— А та вот штучка-блондиночка, с пацаньей стрижкой, из твоего класса по истории? Пловчиха которая?
— Хэдли? — я помотал головой. — Забудь.
— Да! Давай! Она клевая! И она согласится, сто пудов!
— Уж поверь мне, это плохая идея.
— Я ее сам спрошу. Давай! Она всегда с тобой приветливая, всегда общается. Давай ей позвоним?
— Нет! Дело совсем в другом… Стой! — сказал я — он вскочил было, и я ухватил его за рукав.
— Слабо?
— Борис! — Он уже шел в дом, к телефону. — Не надо. Правда. Она не пойдет.
— Это почему?
Насмешечка в его голосе меня взбесила.
— Честно? Потому что… — у меня чуть было не вырвалось: «потому что Котку — шлюха», но вместо этого я сказал: — Слушай, Хэдли — отличница, все такое. Да не захочет она тусить у Котку.
— Чего? — спросил Борис, крутнувшись назад, взъярившись. — Вот же шлюха. Что она наговорила?
— Ничего. Просто…
— Говорила! — Он ломанулся обратно к бассейну. — Давай-ка выкладывай.
— Да брось ты. Ничего такого. Остынь, Борис, — сказал я, увидев, как он завелся. — Котку в сто раз старше. Они даже в разных классах.
— Сука курносая. Да что Котку ей сделала?
— Остынь!
Я уставился на бутылку водки, которую, будто световой меч, пронизывал чистый белый луч солнца. Борис уже порядочно набрался, а мне только драки сейчас не хватало. Но и сам я был такой пьяный, что никак не мог придумать, как бы так шутя и играючи перевести разговор на другое.
Борис нравился куче других девчонок получше — в особенности Саффи Касперсен, датчанке, которая говорила по-английски со звонким британским акцентом, выступала с небольшой ролькой в «Цирке дю Солей» и на стопятьсот процентов была самой красивой девчонкой в нашей параллели.
Саффи вместе с нами злилась в интенсиве по английскому (где, между прочим, довольно толково рассуждала про «Сердце — одинокий охотник»), и хоть и считалось, что она всех сторонится, Борис ей нравился. Заметно было. Она смеялась, когда он шутил, выделывалась, работая с ним в одной группе, и однажды я видел, как она оживленно беседовала с ним в коридоре — Борис отвечал ей так же оживленно, очень по-русски размахивая руками. Но — непонятно почему — его к ней, похоже, вообще не тянуло.
— Но почему? — спрашивал я его. — Она в нашем классе самая красивая.
Я всегда думал, что датчане — огромные и светловолосые, но Саффи была миниатюрной брюнеткой, с чем-то таким сказочным во внешности — на постановочных фото качество это только усиливалось из-за сверкающего сценического макияжа.
— Симпатичная она, да. Но не секс.
— Борис, она же чистый секс! Ты сдурел, что ли?
— Ай, она слишком много учится, — сказал Борис, шлепаясь на пол рядом со мной — в одной руке пиво, другой перехватывает у меня сигарету. — Слишком правильная. Она или зубрит все время, или репетирует. Котку, — он выдохнул облачко дыма, вернул мне сигарету, — она как мы.
Я молчал. Когда это я умудрился перейти из стана ботаников в разряд тупорылых отщепенцев вроде Котку?
Борис подтолкнул меня локтем:
— Похоже, она тебе самому нравится. Саффи.
— Не, не особо.
— Нравится. Позови ее на свидание.
— Может, как-нибудь, — сказал я, хотя знал, что мне духу не хватит.
В моей бывшей школе иностранцы и школьники, учившиеся по обмену, вежливо держались себе особняком, и потому девочка типа Саффи там была бы подоступнее, но тут, в Вегасе, она была уж слишком популярной, слишком много рядом с ней крутилось народу, да и куда бы мы пошли с ней — тоже ведь серьезная проблема. В Нью-Йорке все было бы не в пример проще: сводил бы ее на каток, позвал бы в кино или в планетарий. Но что-то я сомневался, что Саффи Касперсен станет нюхать клей, пить сныканное в бумажный пакет пиво или делать еще что-то, чем мы обычно занимались с Борисом.
Мы по-прежнему виделись с ним — хоть и не так часто. Все чаще и чаще вечера он проводил с Котку и ее матерью, в «Апартаментах К&К» — временный отельчик на самом-то деле, бывший мотель на шоссе между аэропортом и Стрипом, который прогорел еще в пятидесятых, где мужики, похожие на нелегальных иммигрантов, толпились во дворе вокруг пустого бассейна и переругивались насчет запчастей к мотоциклам. («К&К»? — спросила Хэдли. — Знаешь ведь, что это значит? «Клопы и крысы».)
Борис, слава богу, нечасто приводил Котку ко мне домой, но даже когда ее с нами не было, он только и делал, что о ней говорил. У Котку офигенный музыкальный вкус, она ему записала диск с улетным хип-хопом, я просто обязан это послушать. Котку любит, чтоб пицца была только с зеленым перчиком и оливками. Котку очень, очень хочет синтезатор — а еще сиамского котенка или, может, хорька, только в «К&К» животных держать не разрешают.
— Ну правда, Поттер, тебе надо с ней почаще общаться, — сказал он, толкая меня плечом. — Она тебе понравится.
— Да брось ты, — ответил я, сразу вспомнив, как по-издевательски она всегда себя со мной ведет — смеется невпопад, злобненько так, и вечно командует, чтоб я ей пиво таскал из холодильника.
— Нет! Ты ей нравишься! Нравишься! В смысле она тебя считает — ну вроде как младшим братишкой. Это она так сказала.
— Да она мне в жизни и слова не сказала.
— Это потому что ты с ней не разговариваешь.
— Вы с ней трахаетесь, да?
Борис нетерпеливо фыркнул — знак того, что все идет не по его.
— Извращенец, — сказал он, отбросив волосы с глаз. — А что? Ты как думаешь? Тебе, может, еще картинку начертить?
— Нарисовать — картинку.
— А?
— Фраза: «Тебе что, картинку нарисовать?»
Борис только глаза закатил. Размахивая руками, он снова завел про то, какая Котку умница и какая «мегасообразительная», какая она мудрая и какая жизнь у нее выдалась, и как несправедливо с моей стороны смотреть на нее свысока, даже не узнав ее поближе, но, пока я слушал его вполуха, одновременно следя за старой нуарной картиной по телевизору («Падший ангел» с Дэной Эндрюсом), то никак не мог отделаться от мысли, что с Котку он познакомился на обществознании в классе коррекции, куда записывали не слишком одаренных (даже по меркам нашей школы) учеников, которые сами не могли ничего выучить. Бориса, которому математика давалась без особых усилий, а в языках так он и вообще был лучше всех, заставили ходить на обществознание для чайников, потому что он был иностранцем, и это школьное предписание его глубоко возмущало. («Чтобы что? Я потом на выборах в Конгресс голосовать буду, да?») Но Котку, которой было восемнадцать (!), которая родилась и выросла в округе Кларк (!), ее, гражданку Америки — как будто прямиком из сериала «Полиция!» — ничего не оправдывало.
Я то и дело ловил себя на таких вот желчных мыслях, которые я всеми силами старался отогнать. Да мне-то что? Ну да, Котку та еще стерва, да, она такая тупая, что не тянет обществознание вместе со всеми, да, она носит дешевые сережки-кольца из аптечного супермаркета, которые вечно за все цепляются, и да, пусть она там весит тридцать семь кило или сколько, а я все равно боялся ее до усрачки, как будто она может до смерти меня запинать своими остроносыми ботинками, если вдруг разозлится. («Эта чикса гопануть может», — как-то раз хвастался и сам Борис, воинственно подпрыгивая и кидая пальцы или, как он это себе представлял, рассказывая, как Котку какой-то девке с кровью пук волос выдернула. Котку еще, кстати, постоянно ввязывалась в какие-то кровавые девчачьи бои, в основном с таким же белым быдлом, как она сама, но, бывало, дралась и с настоящими бандитскими телками — черными и латиносами.) Но мне-то что до того, какую там уродку любит Борис? Мы ведь по-прежнему с ним друзья? Лучшие друзья? Почти что братья?
Опять же, не было такого слова, чтобы точно описать нас с Борисом. Пока не появилась Котку, я почти и не думал об этом. Было просто — дремотные вечера под кондиционером, ленивые, пьяные: жалюзи опущены, прячемся от жары, пустые пакетики из-под сахара, пол усыпан засохшей апельсиновой кожурой, играет Dear Prudence с «Белого альбома», который Борис обожал, или ездит на повторе старая, унылая радиохедовская песня:
- На миг пропал я… я пропал…
Клей, что мы нюхали, набрасывался на нас с темным, машинным ревом, будто вихревый взмах пропеллеров: включить двигатели! Мы обрушивались на кровать, в темноту, как парашютисты вываливаются спиной вперед из самолета, хотя — под таким кайфом, в такой отключке — с пакетом на лице надо было быть поосторожнее, не то очнешься и будешь отдирать засохший клей от волос и с кончика носа. Засыпали, выдохшись, спиной к спине, на грязных простынях, от которых воняло табаком и псиной, Попчик храпел вверх брюхом, из вентиляционных шахт — если как следует прислушаться — полз еле слышный шепоток. Месяцы напролет не унимался ветер, в окна летел песок, а вода в бассейне шла морщинами и казалась опасной. Крепкий чай по утрам, ворованные шоколадки, Борис хватает меня всей пятерней за волосы, пинает под ребра. Вставай, Поттер! Проснись и пой!
Я твердил себе, что не скучаю по нему, но скучал. Накуривался в одиночестве, смотрел программы для взрослых или канал «Плейбой», читал «Гроздья гнева» и «Дом о семи фронтонах», которые, казалось, прямо-таки сражались за место скучнейшей в мире книжки — тысячи и тысячи таких часов хватило бы, чтоб датский выучить или научиться играть на гитаре, если б желание было, — тупил на улице с поломанным скейтом, который мы с Борисом нашли в заброшенном доме на соседней улице. Ходил вместе с Хэдли на тусовки школьной спортивной команды — никакого алкоголя, родители бдят, — а по выходным таскался на вечеринки без родительского контроля, к ребятам, которых едва знал: кирпичики ксанакса, стопки ягермайстера, домой — в два часа утра на городском автобусе, я был такой упоротый, что приходилось обеими руками держаться за сиденье, чтобы не вывалиться в проход. После школы, если становилось скучно, можно было без проблем зависнуть в большой вялой тусовке укурков, которые таскались туда-сюда между «Дель Тако» и детскими игровыми автоматами на Стрипе.
Но мне все равно было одиноко. Мне недоставало Бориса, этого лихого раздолбая: угрюмого, бесшабашного, взрывного, до ужаса безрассудного. Бориса, бледного и одутловатого, с этими его ворованными яблоками и русскими романами, ногтями, сгрызенными до мяса, и волочащимися по пыли шнурками. Бориса, юного алкоголика, со вкусом ругавшегося на четырех языках, который без разрешения хватал у меня еду с тарелки и, напившись, засыпал на полу с таким красным лицом, будто ему надавали пощечин. Но даже пусть он и брал что-то без спросу — частенько, кстати, всякие мелочи пропадали постоянно: DVD, канцелярка из моего шкафчика в школе, не раз я ловил его, когда он шарил у меня по карманам в поисках денег, — собственные его вещи так мало для него значили, что это и воровством нельзя было назвать; заведутся у него деньги — сразу делит пачку со мной пополам, все, что у него ни попрошу, тотчас же с радостью мне отдаст (и даже если не прошу, как было, когда я мимоходом восхитился золотой зажигалкой мистера Павликовского, а потом она оказалась у меня в наружном кармане рюкзака).
Смешно, а я еще волновался — подумать только, что это Борис у нас уж слишком какой-то привязчивый, если это можно назвать словом «привязчивый». В первый раз, когда он перевернулся во сне и обхватил меня за талию, я с минутку полежал так — в полусне, не зная, как же поступить, разглядывал свои старые носки, валявшиеся на полу, пустые бутылки из-под пива, «Алый знак доблести» в мягкой обложке. Наконец, совсем застыдившись, я изобразил, будто зеваю и попытался откатиться от него, а он только вздохнул и притянул меня поближе — сонно притиснул к себе.
Шиш, Поттер, выдохнул он мне в затылок. Это же я.
Странно как. Странно ли? И да, и нет. Вскорости я уснул, убаюканный его терпким, пивным, тельным запахом, его дыханием у меня в ухе. Я понимал, что не смогу объяснить это все, не выставив случившееся чем-то более серьезным, чем оно было на самом деле. По ночам, когда я просыпался от того, что меня душил страх, он был тут как тут, подхватывал меня, стоило мне в ужасе вскочить с кровати, тянул обратно под одеяло, к себе, бормотал по-польски какие-то нелепицы хрипловатым, чудным со сна голосом. Мы выключались друг у друга в объятиях, слушая музыку на моем айподе (Телониуса Монка, «Велвет андеграунд» — мамину любимую музыку) и, бывало, просыпались, вцепившись друг в дружку, будто потерпевшие кораблекрушение или совсем маленькие детишки.
И все-таки (тут начинается зыбкая часть, это меня и беспокоило) были и другие, куда более непонятные и неприглядные ночи, когда мы с ним возились, полураздетые, в слабом свете, сочившемся из ванной; без очков все вокруг плыло, дрожало разводами: руками по телу, грубо, быстро, на полу пенится опрокинутое пиво — прикольно, да и ничего, в общем, страшного, когда оно все на самом деле происходит, стоит того, когда вдруг резко втянешь воздух, закатишь глаза и обо всем позабудешь; но когда мы с ним наутро просыпались, лежа ничком в разных концах кровати и постанывая, все съеживалось в мешанину каких-то затемненных кадров, рваных, с дурным светом, будто в каком-то экспериментальном кино — непривычно искаженное лицо Бориса уже выветривается из памяти, а все случившееся меняет нашу реальную жизнь не больше, чем сон. Об этом мы никогда не говорили, все было не совсем взаправдашним — собираясь в школу, мы швырялись ботинками, поливали друг друга водой, разжевывали аспирин от похмелья, смеялись и шутили всю дорогу до автобусной остановки. Я знал, что люди подумают совсем не то, если узнают, и не хотел, чтобы кто-то узнал, и знал еще, что Борис этого тоже не хочет, и в то же время его это все, похоже, ни капли не волновало, так что я был почти на сто процентов уверен — это все дурачества, не стоит брать в голову, тревожиться не о чем. И все-таки я не раз задумывался, а может, стоит набраться духу и что-нибудь сказать: провести какую-то черту, прояснить все, убедиться раз и навсегда, что он все понял правильно. Но удачного момента так и не подвернулось. А теперь говорить об этом или этого стыдиться и толку не было, хотя этот факт мало меня утешал.
Я так злился, что скучаю по нему. Дома у меня все пили, не просыхая — Ксандра уж точно, — и двери так и хлопали («Ну, если, значит, не я, так только ты!» — слышал я, как она вопит), без Бориса (при нем они вели себя посдержаннее) все было гораздо хуже.
Частично проблема была в том, что у Ксандры в баре поменялись часы работы — смены перетасовали, она здорово психовала, люди, с которыми она раньше работала, или поувольнялись, или работали теперь в другое время; по средам и понедельникам я вставал в школу и частенько с ней сталкивался — она только что пришла с работы и, слишком взбудораженная, чтобы ложиться, смотрит по телевизору свою любимую утреннюю передачу и глотает «Пепто-бисмол» прямо из бутылочки.
— Это всего лишь я — старая и упахавшаяся, — сказала она, пытаясь улыбнуться, когда увидела, что я спускаюсь.