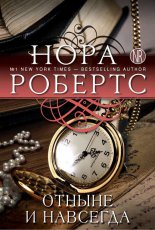Щегол Тартт Донна

— Твой отец сам костюмы стирает? — спросил я. — Прямо в раковине?
Подпиравший дверной косяк Борис закусил заусенец на большом пальце, уклончиво дернул плечами.
— Шутишь, что ли? — спросил я, а затем, потому что он все глядел на меня, добавил: — Что? В России нет химчисток?
— У него куча всяких цацек и крутых вещей, — прорычал Борис, не выпуская пальца изо рта. — Часы «Ролекс», ботинки «Феррагамо». Может стирать костюмы, как ему вздумается.
— Ясно, — ответил я и сменил тему. Прошло еще несколько недель, и я думать забыл о Борисовом отце. Но однажды Борис, опоздав к началу урока, проскользнул на английский с бордовым синяком под глазом.
— А, получил в мяч лицом, — бодро ответил он, когда миссис Спир («Спирсецкая», как он ее звал) с подозрением спросила, что с ним случилось.
Я знал, что он врет. Пока мы вяло обсуждали Ральфа Уолдо Эмерсона, я косился на соседний ряд и раздумывал, когда это Борис успел обзавестись фингалом после того, как я вчера от него ушел, чтобы выгулять Поппера — Ксандра так часто оставляла его во дворе на привязи, что я вроде как чувствовал себя за него в ответе.
— Что натворил? — спросил я, нагнав его после урока.
— А?
— Откуда синяк?
Он подмигнул мне.
— Ой, ладно тебе, — сказал он, толкнув меня плечом.
— Ну откуда? Напился?
— Отец приходил, — сказал он и, когда я ничего не ответил, добавил: — Ну а что еще, Поттер? Ты как думал?
— Господи, но за что?
Он пожал плечами.
— Хорошо, что ты ушел, — сказал он, потирая здоровый глаз. — Не ждал, что он заявится. Спал на диване внизу. Сначала подумал, что это ты.
— Что случилось?
— Ах, — сказал Борис, шумно выдохнув — чувствовалось, что на пути в школу он покурил. — Увидел пивные бутылки на полу.
— Он тебя ударил, потому что ты пил?
— Потому что в говно был, вот почему. Пьяный, как бревно, похоже, он даже не понимал, что меня бьет. Утром увидел мое лицо — плакал, извинялся. Да и вообще, его теперь долго не будет.
— Почему?
— Сказал, что там дел много. Три недели его не будет. Недалеко от шахты, знаешь, есть государственный бордель.
— Никакие они не государственные, — сказал я, а сам подумал: а вдруг государственные.
— Ну, ты меня понял. Но есть и хорошее — он мне деньги оставил.
— Сколько?
— Четыре тысячи.
— Да ладно.
— Нет-нет, — он хлопнул себя по лбу, — прости, я в рублях думаю! Где-то сотни две долларов, но все равно. Надо было больше просить, но не рискнул.
Мы дошли до развилки в коридоре, где мне надо было сворачивать на алгебру, а Борису — на политическое устройство Америки — сущее для него наказание. Курс был обязательный, легкий даже по расслабленным стандартам нашей школы, но объяснять Борису про Билль о правах или разницу между конституционно закрепленными и подразумеваемыми полномочиями Конгресса США было все равно, что объяснять миссис Барбур — как я однажды попытался, — что такое сервер.
— Ладно, увидимся после уроков, — сказал Борис. — Напомни-ка, в чем разница между Федеральным банком и Федеральным резервом?
— Ты сказал кому-нибудь?
— Сказал что?
— Сам знаешь что.
— Что, заявить на меня хочешь? — рассмеялся Борис.
— Не на тебя. На него.
— И зачем? Что в этом хорошего? Ну-ка, объясни. Чтобы меня депортировали?
— Понял, — сказал я после неловкой паузы.
— Итак — сегодня ужинаем в ресторане! — объявил Борис. — В мексиканском, может? — Борис поначалу с недоверием относился к мексиканской пище, но потом полюбил ее — говорил, что в России такого не едят и что, если привыкнуть, еда неплоха, хотя к слишком острой он все равно не притронется. — Можем на автобусе доехать.
— Китайский ближе. И еда там лучше.
— Ага, а помнишь, что?
— Ой, да, точно, — сказал я. В прошлый раз мы оттуда сбежали, не заплатив. — Тогда проехали.
Борису Ксандра нравилась куда больше моего: он забегал вперед, чтобы распахнуть перед ней дверь, хвалил ее стрижку, предлагал понести сумки. Я его дразнил из-за этого с тех самых пор, как засек, что он пялится ей в декольте, когда она потянулась за лежавшим на кухонной стойке мобильником.
— Ух, какая телка, — сказал Борис, когда мы поднялись ко мне в комнату. — Думаешь, отец твой разозлится, если узнает?
— Скорее всего, даже не заметит.
— Нет, я серьезно, как по-твоему, что твой отец мне сделает?
— Если что?
— Если я Ксандру.
— Не знаю, в полицию, наверное, позвонит.
Он фыркнул насмешливо:
— Это зачем?
— Да не чтоб тебя забрали. А ее. За растление несовершеннолетнего.
— Я готов.
— Ну и трахай ее на здоровье, — сказал я, — пусть в тюрьму сядет, мне плевать.
Борис перекатился на живот и лукаво глянул на меня:
— Она кокаин нюхает, ты знал?
— Чего?
— Кокаин, — он зашмыгал носом.
— Да ну, врешь, — сказал я, а когда он заухмылялся, спросил: — А ты откуда знаешь?
— Да вижу. По тому, как она говорит. И еще она зубами скрипит. Последи за ней как-нибудь.
Я не знал, за чем надо было следить. Но как-то вечером мы зашли домой — отца не было, а она как раз поднимала голову от журнального столика, шмыгая носом, придерживая рукой забранные назад волосы. Когда она вскинула голову и заметила нас, на мгновение наступила полная тишина, а потом она отвернулась, как будто нас там и вовсе не было.
Мы так и прошли мимо, поднялись ко мне в комнату. Я раньше никогда не видел, как нюхают наркотики, но тут уж даже мне было понятно, чем она занята.
— Ух, заводит, — сказал Борис, когда я закрыл дверь. — Интересно, где она их прячет?
— Не знаю, — ответил я, плюхнувшись на кровать.
Во дворе зашумела машина — Ксандра уезжала.
— Как думаешь, она с нами поделится?
— С тобой — может.
Борис опустился на пол у кровати, оперся о стену, подтянул колени к животу.
— Думаешь, она торгует?
— Да ну, нет! — ответил я после заминки, недоверчиво. — А ты думаешь — да?
— Ха! Тебе же лучше, если да.
— Это как?
— В доме нал есть.
— Толку-то мне от этого.
Он окинул меня опытным, оценивающим взглядом.
— А кто у вас по счетам платит, Поттер? — спросил он.
— Хм, — этим вопросом, который, несомненно, имел огромную практическую ценность, я как-то раньше не задавался. — Не знаю. Отец, наверное. Хотя Ксандра тоже вкладывается.
— А у него откуда? Деньги откуда?
— Без понятия, — сказал я. — Ему звонят разные люди, а потом он уходит куда-то.
— А чековую книжку в доме видел? Наличку?
— Нет. Никогда. Иногда — фишки.
— Фишки и есть нал, — моментально отозвался Борис, сплевывая на пол отгрызенный ноготь.
— Верно. Только, если тебе нет восемнадцати, в казино их не обналичишь.
Борис усмехнулся:
— Да брось. Надо будет, выкрутимся. Напялим на тебя твой пидорский школьный пиджачок с гербом, подойдешь к окошку: «Ах, прошу прощения, мисс…»
Я перекатился на край кровати и изо всех сил стукнул его по руке.
— Иди на хуй! — меня задело то, как он передразнил мои интонации — жеманно, по-снобски.
— А вот этого нельзя говорить, Поттер, — глумливо сказал Борис, потирая руку. — И сраного цента не получишь. Я просто что хочу сказать — на самый крайний случай я знаю, где у моего отца лежит чековая книжка, — он протянул ко мне раскрытые ладони, — понял?
— Понял.
— Ну, то есть надо будет выписать поддельный чек — выпишу поддельный чек, — философски добавил Борис. — Хорошо знать, что так можно. Я ж тебе не говорю — полезай к ним в комнату, поройся в их вещах — но ты все равно ушами не хлопай, ага?
Борис с отцом не праздновали День благодарения, а у моего отца с Ксандрой был заказан столик во французском ресторанчике при «Эм-Джи-Эм Гранд» на развлекательную программу «Романтические роскошества».
— Хочешь с нами пойти? — спросил отец, когда увидел, что я листаю лежавший на кухонной стойке буклет: сердечки, фейерверки, блюдо с жареной индейкой под полоской трехцветных флажков. — Или тебе есть чем заняться?
— Нет, спасибо. — Мило с его стороны, конечно, но мне было не по себе от одной мысли, что я стану свидетелем хоть чего угодно романтического между отцом и Ксандрой. — У меня другие планы.
— И какие же?
— Я уже кое с кем другим праздную.
— Это с кем? — С отцом приключился редкий приступ, родительской заботы. — С другом?
— Дай-ка я угадаю, — вмешалась Ксандра — она стояла босиком, в футболке «Майами Долфинс», служившей ей ночнушкой, и пялилась в холодильник. — С тем, кто сжирает все апельсины и яблоки, которые я домой приношу.
— Ой, да ладно тебе, — сонно сказал отец, обнимая ее сзади, — тебе нравится малыш russki — этот, как его там, Борис.
— Ну да, нравится. И хорошо, наверное, что нравится, потому что он постоянно тут торчит. Блин, — воскликнула она, вывернувшись из отцовских рук и шлепнув себя по голому бедру, — кто в дом комаров напустил? Тео, закрывай за собой дверь к бассейну — неужели сложно запомнить? Сто раз тебе говорила.
— Кстати, знаете что, раз уж вы приглашаете, я могу и с вами День благодарения отпраздновать, — любезно заметил я, прислонясь к кухонной стойке. — Почему бы и нет?
Я хотел позлить Ксандру и с удовольствием увидел, что своего добился.
— Но столик заказан на двоих, — сказала Ксандра, отбросив волосы со лба, взглядывая на отца.
— Ну, слушай, что-нибудь придумают.
— Тогда надо позвонить, предупредить.
— Ну и хорошо, звони, — сказал отец, слегка упорото похлопал ее по спине и поплелся в гостиную — проверять футбольные таблицы.
Мы с Ксандрой пару секунд смотрели друг на друга, потом она отвела взгляд — будто в какое-то мрачное и неприглядное будущее заглянула.
— Мне надо выпить кофе, — вяло сказала она.
— Это не я оставил дверь открытой.
— И я не знаю кто. Зато я знаю, что эти чокнутые торговцы «Амвеем» вон там не осушили фонтан, перед тем как съехать, и комаров развелось — тьма, куда ни плюнь, ну вот, еще один, твою мать!
— Слушай, не заводись. Я ведь могу с вами и не ехать.
Она поставила на стол пачку фильтров для кофеварки.
— Ну так что тогда? — спросила она. — Менять мне бронь на столик или нет?
— Эй, что у вас там происходит? — послышался голос отца из соседней комнаты, где он свил себе гнездо из покрытых круглыми разводами картонок под пиво, пустых сигаретных пачек и размеченных таблиц баккара.
— Ничего, — крикнула в ответ Ксандра.
Несколько минут спустя, когда кофеварка начала шипеть и пощелкивать, она потерла глаза и сказала чуть охрипшим от сна голосом:
— Я не говорила, что не хочу тебя с нами брать.
— Знаю. Я и не говорил, что ты не хочешь. — И потом добавил: — И еще, чтоб ты знала, это не я оставляю дверь открытой. Это папа, когда он туда выходит по телефону поговорить.
Ксандра, которая как раз полезла в шкафчик за своей кофейной кружкой с логотипом «Планеты Голливуд», оглянулась на меня через плечо.
— Ты ведь на самом деле не будешь у него дома праздновать? — спросила она. — У малыша русского или у кого там?
— Не. Мы просто у нас тут телик посмотрим.
— Принести вам чего-нибудь?
— Борису понравились те маленькие колбаски. А я крылышки люблю. Которые острые.
— Еще чего-нибудь? Может, тех штук, типа мини-такитос? Вам они вроде тоже нравятся, да?
— Было бы круто.
— Договорились. Подкормлю вас, ребята. Одна просьба — сигареты мои не трогать. Мне плевать, если вы курите, — добавила она, подняв руку, жестом велев мне помолчать, — я не то чтобы вас в чем-то обвиняю, но кто-то повадился таскать сигареты из блока на кухне, а я за него по двадцать пять баксов каждую неделю отстегиваю.
С тех самых пор как Борис появился в школе с подбитым глазом, я представлял себе его отца таким толстошеим выходцем из СССР, со свинячьими глазками и стрижкой под машинку. Однако же, когда мы с ним наконец встретились, я с удивлением увидел, что он худой и бледный, будто умирающий с голоду поэт.
Изможденный, грудь впалая — он курил одну за другой, носил застиранные до серого рубашки и пил кружками приторный чай. Но если глянуть ему в глаза, становилось ясно, что хрупкость его — обманчива. Он был жилистый, натянутый как струна — дурным нравом от него так и искрило, — узкокостный и остролицый, как и Борис, только взгляд у него был злобный, налитый кровью, а зубы — бурые мелкие пилки. Мне он напоминал бешеную лисицу.
Хоть я однажды мельком его видел и даже слышал, как он ночами топает по дому (ну или думал, что слышу именно его), лицом к лицу мы с ним встретились незадолго до Дня благодарения. Заходим после школы домой к Борису — смеемся, болтаем, а он сидит, ссутулившись, за кухонным столом, перед ним — стакан и бутылка. Одежда на нем была потрепанная, а вот туфли — дорогие, и еще куча золотых украшений; он только посмотрел на нас своими воспаленными глазками, и мы сразу же заткнулись. Он был щуплый, маленький человечек, но поглядишь ему в лицо — и побоишься подходить близко.
— Здрасте, — осторожно сказал я.
— Привет, — ответил он — лицо непроницаемое, акцент сильнее, чем у Бориса — и, повернувшись к сыну, сказал что-то по-украински. Последовал короткий разговор, за которым я наблюдал с большим интересом. Интересно было видеть, как менялся Борис, когда говорил на другом языке — становился живее, бойчее, как будто другой, более складный человек вдруг занимал его место.
И вдруг, совершенно неожиданно, мистер Павликовский протянул мне обе руки.
— Спасибо, — хрипло сказал он.
Я, конечно, боялся к нему приближаться — это как к дикому зверю подходить, но все равно шагнул, неловко выставив вперед руки. Он ухватил их своими задубевшими, холодными ладонями.
— Ты хороший человек, — сказал он. Взгляд у него был налитый кровью, чересчур пристальный. Я захотел отвернуться и сам себя устыдился.
— Дай тебе бог здоровья и всего наилучшего, — сказал он. — Ты мне как сын. За то, что принял моего сына в вашу семью.
В нашу семью? Я в замешательстве оглянулся на Бориса.
Мистер Павликовский перевел взгляд на него:
— Ты ему рассказал, что я сказал?
— Он сказал, что ты теперь — член нашей семьи, — скучающим тоном сказал Борис, — и если он может тебе хоть чем-нибудь помочь…
К превеликому моему удивлению мистер Павликовский притянул меня к себе и основательно так обнял — я зажмурился, изо всех сил стараясь не замечать, как от него пахнет: кремом для волос, немытым телом, алкоголем и каким-то резким, отвратительно пахучим одеколоном.
— Это вот что вообще было? — тихонько спросил я, когда мы поднялись в Борисову комнату и закрыли дверь.
Борис завел глаза к потолку:
— Уж поверь. Тебе этого знать не надо.
— И что, он всегда такой — налитой? А как его еще не уволили? — Борис хихикнул:
— Он в компании большая шишка, — ответил он, — типа того.
Мы с Борисом сидели в полутемной, задрапированной батиком комнате до тех пор, пока по двору не прогрохотал грузовик его отца.
— Не скоро теперь вернется, — сказал Борис, когда я отпустил занавеску и она качнулась обратно. — Он расстраивается из-за того, что подолгу оставляет меня одного. Он знает, что скоро праздник, и спрашивает, могу ли я пожить у тебя дома.
— Да ты и так все время у нас.
— Он знает, — сказал Борис, зачесывая пятерней волосы назад, с глаз. — Потому и благодарил тебя. Но насчет твоего адреса я наврал, надеюсь, ты не против.
— Почему?
— Да потому, — он подобрал ноги, чтобы я мог усесться с ним рядом — и просить не пришлось, — что-то мне кажется, ты не обрадуешься, если он пьяный завалится к вам домой посреди ночи. Перебудит твоего отца с Ксандрой. Да, и вот еще что, если он вдруг спросит — он думает, что фамилия твоя — Поттер.
— Почему?
— Так лучше, — невозмутимо сказал Борис. — Поверь мне.
Мы с Борисом лежали на полу перед нашим телевизором, ели чипсы, пили водку и смотрели парад «Мэйсис» в честь Дня благодарения. В Нью-Йорке шел снег. На экране только что промелькнули огромные надувные фигуры — Снупи, Рональд Макдональд, Губка Боб, мистер Арахис, — на Геральд-сквер танцевала труппа гавайских танцоров в набедренных повязках и соломенных юбках.
— Не хотел бы я быть на их месте, — заметил Борис, — спорим, они уже все жопы себе поморозили.
— Ага, — ответил я, хоть и не обращал никакого внимания ни на шары, ни на танцоров. Увидев Геральд-сквер по телевизору, я почувствовал себя так, будто застрял в миллионе световых лет от Земли и вдруг поймал сигналы первых радиостанций: голоса дикторов и аплодисменты слушателей из давно исчезнувшей цивилизации.
— Придурки. Ну разве можно так одеваться? Девчонки лечиться потом будут. — Борис, конечно, яростно жаловался на жару в Лас-Вегасе, но при этом еще и неколебимо верил в то, что заболеть можно от чего угодно «холодного»: от бассейнов без подогрева, от кондиционера у меня дома и даже от льда в напитках.
Он перекатился на спину и передал мне бутылку.
— Ходили на такой парад? С мамой?
— Не.
— А чего нет? — спросил Борис, скармливая Попперу кусок чипса.
— Nekulturny, — слово это я подцепил от Бориса. — И туристов толпы.
Он закурил сам, протянул сигарету мне.
— Грустишь?
— Немножко, — ответил я, наклонившись прикурить от его спички.
Я все вспоминал прошлый День благодарения, он снова и снова прокручивался у меня в голове, словно фильм, который никак не выключить: вот мама шлепает по квартире босиком, в старых джинсах с пузырями на коленках, открывает бутылку вина, наливает мне немного имбирного эля в бокал для шампанского, выставляет на стол оливки, делает музыку погромче, надевает дурацкий праздничный фартук, разворачивает купленную в Чайнатауне грудку индейки — и тотчас же отшатывается, сморщив нос: «Господи, Тео, да она протухла, открой-ка мне дверь!» — от аммиачной вони в глазах слезится, мама несется вниз по пожарной лестнице, держа индейку перед собой на вытянутых руках, будто неразорвавшуюся гранату, выскакивает на улицу, мчится к мусорным бакам, пока я, высунувшись из окна, с восторгом изображаю, будто меня тошнит. Мы скромно поужинали консервированной зеленой фасолью, консервированной клюквой и коричневым рисом с жареным миндалем: «Наш вегетарианский социалистический День благодарения», — шутила мама. Мы ничего особенного не планировали, потому что у мамы на работе горел какой-то проект; в следующем году, пообещала она (от смеха у нас уже болели животы, отчего-то испорченная индейка вызвала у нас приступ невероятного веселья), возьмем машину напрокат и съездим в Вермонт, к ее другу Джеду или же закажем столик в каком-нибудь шикарном ресторане вроде «Грамерси Таверн». Только этого будущего не стало, и я отмечал алкогольно-чипсовый День благодарения перед теликом с Борисом.
— Что есть будем, Поттер? — спросил Борис, потирая живот.
— Чего? Ты есть хочешь?
Он покрутил туда-сюда ладонью: comme ci, comme a[44].
— А ты?
— Не особо, — я изодрал себе все небо чипсами, и от сигарет меня уже мутило.
Внезапно Борис привскочил, завывая от смеха.
— Слушай, — сказал он, пнув меня, тыча в экран, — ты слышал?
— Что?
— Новостник. Поздравил с праздником своих детей. «Сволочь и Кейси».
— Да брось, — Борис вечно путал на слух такие вот английские слова — получались иногда забавные, но чаще всего просто глупые слуховые малапропизмы.
— «Сволочь и Кейси»! Вот ведь, а? Ну ладно Кейси, но собственного ребенка в праздничной программе обозвать «Сволочью»?
— Да не говорил он этого.
— Ладно, ладно, ты у нас все знаешь, и что же он тогда сказал?
— Хрена ли я должен знать-то?
— Тогда чего ты со мной споришь? Почему ты все всегда лучше знаешь? Да что такое с вами, американцами? Как может такая тупорылая нация быть такой богатой и такой высокомерной? Американцы… кинозвезды… телезвезды… назовут детей Яблоками, Одеялами, Голубыми и Сволочами и еще хрен знает как.
— И это ты к чему?..
— Это я к тому, что у вас любая херь демократией называется. Насилие… жадность… тупость… но если это делают американцы, то все ок. Ну что, я не прав? Не прав?
— Вот ты никак не заткнешься, да?
— Я знаю, что я слышал, ха! Сволочь! Вот что тебе скажу. Если б я думал, что у меня ребенок — сволочь, хрена с два я б его так назвал.
В холодильнике были крылышки, такитос и маленькие колбаски, которые принесла Ксандра, и еще дим-самы из китайского торгового центра, где любил есть отец, но когда мы наконец собрались поужинать, бутылка водки (Борисов вклад в День благодарения) уже наполовину опустела, и мы медленно, но верно собирались блевать.
Борис по пьяни, бывало, серьезнел, поддавался русской любви к проблемным темам и вечным вопросам и сидел теперь на мраморной столешнице, размахивал нацепленной на вилку колбаской и несколько горячечно рассуждал о нищете, капитализме, глобальном потеплении и о том, в какую жопу катится этот мир.
Я начал терять связь с реальностью и сказал:
— Борис, заткнись. Не хочу это слышать.
Он сходил ко мне в комнату за школьным экземпляром «Уолдена» и зачитывал оттуда какой-то пространный пассаж, который якобы подтверждал что-то там, что он пытался мне доказать.
Брошенная книга — к счастью, в мягкой обложке — чиркнула меня по скуле.
— Ischzni! Вон пошел!
— Дебил, это ж мой дом!
Колбаска — вместе с вилкой — просвистела у меня возле головы, едва в нее не врезавшись. Но мы хохотали. К вечеру нас совсем развезло: мы катались по полу, спотыкались друг о друга, смеялись, ругались, ползали по дому на четвереньках. По телевизору шел футбольный матч, и хоть он бесил нас обоих, лень было искать пульт и переключать канал. Борис был такой бухой, что все пытался говорить со мной по-русски.
— Говори по-английски или вообще заткнись. — Я попытался ухватиться за перила и, неуклюже увернувшись от Борисова кулака, рухнул на журнальный столик.
— Ty menj dostl!! Poshl ty!
— Кулдык-кулдык-кулдык, — отозвался я плаксивым девчачьим голосом, лежа лицом в ковролине. Пол подпрыгивал и раскачивался, будто корабельная палуба. — Балалайка тра-та-та.
— Сраный tlik, — сказал Борис, рухнув на пол рядом со мной и бессмысленно лягнув телевизор. — Не хочу это говно смотреть.
— Ну да, ох, мать твою, — я перекатился на спину, хватаясь за живот, — я тоже не хочу.
Глаза у меня никак не желали глядеть прямо, вокруг каждого предмета во все стороны расползалось по сияющему нимбу.