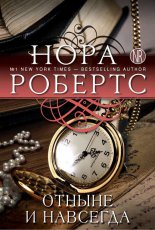Щегол Тартт Донна

— Но что будет со мной? — спросил я.
— Наша главная задача, — сказал Энрике, — подыскать тебе на это время достойную приемную семью. Людей, которые будут заботиться о тебе наряду с сотрудниками соцслужб.
Их совместные попытки меня утешить — спокойные голоса, участливые, разумные фразы — вызвали у меня приступ паники.
— Не надо! — вскрикнул я, отшатнувшись от кореянки, которая попыталась сочувственно сжать мою руку.
— Тео, послушай. Я тебе кое-что объясню. И речи не идет о том, чтобы отправить тебя в интернат или приют для детей-сирот…
— А что тогда?
— Временная опека. Это значит, что ты будешь жить в хорошем месте, у людей, которых государство назначит твоими опекунами…
— А если я не хочу? — сказал я так громко, что люди на нас стали оглядываться.
— Послушай, — сказал Энрике, откинувшись на спинку стула и посигналив официанту, чтоб тот долил ему кофе, — для подростков, попавших в беду, у нас есть специальные кризисные центры. Это замечательные места. Для нас с тобой это один из возможных сценариев. Потому что в большинстве случаев вроде твоего…
— Я не хочу в приют!
— И правильно, пацан, — громко сказала девчонка с розовыми волосами за соседним столиком. В «Нью-Йорк Пост» недавно только и писали, что о Джонтее и Кешоне Дайвенсах, одиннадцатилетних близнецах, которых насиловал и морил голодом приемный отец, как раз где-то недалеко от Морнингсайд-Хайтс.
Энрике притворился, что ничего не слышал.
— Слушай, мы хотим тебе помочь, — сказал он, сложив руки на столе, — и готовы рассмотреть все варианты при условии, что ты будешь под присмотром и обеспечен всем необходимым для жизни.
— Вы не сказали, что я не смогу вернуться домой!
— Ну, городские кризисные центры сейчас перегружены — s, gracias[18], — сказал он официанту, который подлил ему кофе, — поэтому, особенно в твоем случае, мы, вероятно, сможем получить разрешение на то, чтобы временно разместить тебя где-то в другом месте.
— Понимаешь, о чем он? — кореянка постучала ногтем по пластиковой столешнице, чтобы привлечь мое внимание. — Никто тебя не запихнет в приют, если с тобой может какое-то время пожить кто-то из ваших знакомых. Ну или наоборот.
— Какое-то время? — повторил я. Из всего, что она сказала, я только это и понял.
— Ну, есть кто-то, у кого бы ты мог спокойно пожить денек-другой, кому мы можем сейчас позвонить? Кому-нибудь из учителей? Другу семьи?
Отчего-то я дал им номер Энди Барбура — первое, что пришло в голову, может, конечно, потому, что это был первый номер телефона, который я заучил наизусть — после домашнего. Хоть мы с Энди и были лучшими друзьями в начальной школе (ходили вместе в кино, в гости друг к другу с ночевкой, вместе занимались ориентированием в летней школе в Центральном парке), я до сих пор не могу понять, почему первым назвал его, дружить-то мы больше не дружили. После начальной школы мы как-то отдалились друг от друга и теперь не виделись месяцами.
— Барбур, через «у», — записал Энрике. — А что это за люди? Ваши друзья?
Да, отвечал я, я их знаю чуть ли не всю жизнь. Барбуры живут на Парк-авеню. Мы с Энди — лучшие друзья с третьего класса.
— У его отца крутая работа, на Уолл-стрит, — начал было я и быстро заткнулся. Вспомнил вдруг, что отец Энди какое-то очень неопределенное время провел в психбольнице в Коннектикуте, где лечился от «переутомления».
— А его мать?
— Они с моей мамой очень дружат.
(Правда, да не совсем. Они, конечно, прекрасно общались, но для того, чтобы быть подругой такого персонажа светской хроники, как миссис Барбур, маме недоставало ни денег, ни связей.)
— А работает-то она кем?
— Она занимается благотворительностью, — ответил я, растерянно помолчав. — Ну, типа, знаете, выставки антиквариата в «Арсенале»?
— То есть домохозяйка?
Я кивнул, обрадовавшись, что у нее так ловко нашлось нужное слово — технически, это, конечно, было верно, но тем, кто знал миссис Барбур, и в голову не пришло бы так ее назвать.
Энрике размашисто расписался.
— Посмотрим. Обещать пока ничего не могу, — сказал он и, щелкнув ручкой, сунул ее обратно в карман. — Но, если ты хочешь, мы можем отвезти тебя к этим людям прямо сейчас, чтобы ты пока, пару часиков, побыл у них.
Он слез с диванчика и вышел на улицу. Из окна я видел, как он расхаживает взад-вперед по тротуару, говорит по телефону, заткнув другое ухо пальцем. Потом он набрал другой номер — этот звонок был куда короче. Мы заскочили в квартиру — буквально на пару минут, я всего-то успел схватить школьную сумку и какую-то первую попавшуюся под руку и неподходящую одежду, потом — снова к ним в машину («Ты там пристегнулся?»), и, прижавшись щекой к холодному стеклу, я глядел, как по всему пустому рассветному каньону Парк-Авеню вспыхивают зеленым огни светофора.
Энди жил на севере, в Ист-Сайде, в районе Шестидесятых, в шикарном доме, где вестибюль был весь будто из какого-нибудь фильма с Диком Пауэллом, а швейцары — почти поголовно ирландцы — носили белые перчатки. Работали они там все с незапамятных времен, поэтому-то я вспомнил парня, который открыл нам дверь: Кеннет, из ночной смены. Из швейцаров он был самый молодой — бледный как смерть, плохо выбрит, иногда притормаживал из-за того, что работал ночами. Парень он был приятный — бывало, он латал нам с Энди футбольные мячи и давал дельные советы по поводу того, как вести себя со школьными задирами, — но все знали, что он выпивает; я учуял кислый запах пива и сна, когда он посторонился, отворив для нас высоченые двери и положив начало взглядам из серии «Эх, пацан, соболезную», которыми меня завалят в следующие месяцы.
— Вас ждут, — сказал он соцработникам. — Поднимайтесь.
2
Нам открыл мистер Барбур — сначала выглянул в щелочку, потом распахнул дверь.
— Здрасте, здрасте, — сказал он, посторонившись. Выглядел мистер Барбур самую малость чудновато, было в нем что-то такое бледно-серебристое, будто бы в Коннектикуте, как он говорил — на «ку-ку-ферме», его долечили до раскаленной прозрачности; глаза у него были странного зыбко-серого цвета, а волосы — снежно-белые, отчего он казался старше, чем есть — не сразу замечаешь, что лицо у него молодое, румяное, отчасти даже мальчишеское. Красные щеки и вытянутый, несовременный нос в сочетании с ранней сединой делали его похожим на добродушного отца-основателя второго ряда, не самого известного участника Континентального конгресса, который вдруг телепортировался в XXI век. Судя по всему, вернувшись вчера из офиса, он так и не переоделся: на нем была мятая сорочка и брюки от явно недешевого костюма, которые выглядели так, будто бы он схватил их с пола возле кровати.
— Ну, заходите, — бодро сказал он, потирая глаза кулаком. — Привет, малыш, — сказал он мне: я хоть и плохо соображал, но все равно вздрогнул — таким неожиданным было это его «малыш».
Он повел нас в квартиру, шлепая босыми ногами по мраморному полу передней. За ней начиналась богато обставленная гостиная (кругом набивной ситец и китайские вазы), где, казалось, еще была глубокая полночь: тускло горели лампы под шелковыми абажурами, на стенах — огромные темные полотна с морскими сражениями, солнечный свет не пропускали плотные шторы. Там, возле кабинетного рояля и цветочной композиции размером с чемодан, стояла миссис Барбур в пеньюаре до полу и разливала на серебряном подносе кофе по чашечкам.
Она обернулась к нам с приветствием, и я почувствовал, как внимательно соцработники изучают и обстановку квартиры, и ее саму. Миссис Барбур принадлежала к высшему обществу, еще из старинных голландских семей, и была такой бледной, невозмутимой и однообразной, что, казалось, будто из нее выкачали часть крови. Она была образцом хладнокровия, ее никогда ничего не раздражало и не расстраивало, и хоть красавицей она не была, ее покойность — сила ее неподвижности — притягивала взгляды не хуже красоты: стоило ей войти в комнату, и вокруг нее все будто бы перестраивалось до самых молекул. Стоило ей войти — и к ней, словно к ожившему модному эскизу, устремлялись все взгляды, а она рассеянно скользила мимо, будто бы и не замечая, какая за ней вихрится буря; глаза у нее были широко расставленные, уши — маленькие, высокие, плотно прижатые к голове, а тело — удлиненное, узкое, будто у элегантной куницы. (Энди достались все ее черты, но в несуразных пропорциях — и ничего от ее куньей грациозности.)
В прошлом от ее сдержанности (или холодности, это уж как посмотреть) мне, бывало, делалось неловко, но в то утро я был только благодарен за ее бесстрастность.
— Привет. Мы тебя поселим с Энди, — сказала она безо всяких вступлений. — Боюсь, только в школу ему еще рановато вставать. Если хочешь прилечь, комната Платта целиком к твоим услугам.
Платт был старшим братом Энди и учился в школе-пансионате.
— Помнишь, где его комната, да?
Я ответил, что помню.
— Есть хочешь?
— Нет.
— Ну ладно. Скажи, чем мы еще можем тебе помочь.
Я чувствовал, как они все смотрят на меня. Моя головная боль переросла все в комнате. В круглом зеркальце, висевшем над головой миссис Барбур, гостиная отражалась гротескной миниатюрой: китайские вазы, кофейный поднос, переминающиеся с ноги на ногу соцработники.
Наконец мистер Барбур спас ситуацию.
— Ну, пошли, давай-ка тебя уложим, — сказал он, приобняв меня за плечи и потянув на выход. — Нет, сюда, в эту сторону — на корму, на корму! Ага, сюда.
До этого в комнате Платта я был всего один раз — несколько лет тому назад, и тогда Платт, который был чемпионом по лакроссу и немного психопатом, пригрозил, что все кишки из нас выбьет. Когда Платт жил дома, то днями напролет торчал у себя в комнате, закрывшись на замок (Энди мне рассказал, что он там курил траву). Теперь, когда Платт уехал в Гротон, со стен исчезли все его плакаты, и в комнате было очень чисто и пусто.
В комнате на полу лежали гантели и стопки старых номеров «Нейшнл Джеографик», стоял пустой аквариум. Мистер Барбур, выдвигая и задвигая ящики, бормотал какую-то чепуху:
— Ну-ка, что у нас тут, посмотрим-ка… Простыни! И… еще простыни! Ты уж прости, ладно, я сюда вообще не захожу — ага! Плавки. Ну, сегодня они нам не понадобятся, верно?
Покопавшись в третьем ящике, он наконец отыскал новую пижаму — еще с ярлычками, уродливую до жути, из кислотно-голубой фланели с оленями, неудивительно, что ее так никто и не надел.
— Ну вот, — сказал он, пробежавшись пальцами по волосам и нетерпеливо поглядывая на дверь, — теперь я пойду. Господи, это ж надо такому было приключиться. Тебе, наверное, очень тошно. Поэтому лучше всего тебе сейчас как следует выспаться. Устал? — спросил он, пристально глядя на меня.
Устал ли я? Сна у меня не было ни в одном глазу, и в то же время какая-то часть меня настолько занемела и остекленела, что я был чуть ли не в коме.
— Может, тебе составить компанию? Хочешь, я разожгу камин в соседней комнате? Ты только скажи, чего хочешь.
Он спросил — и меня обдало волной острого отчаяния, потому что мне было так плохо, что он ничем не мог мне помочь, и по его лицу я понял, что он это и сам знает.
— Мы тут, за стеной, если вдруг понадобимся, ну, то есть я-то скоро уйду на работу, но кто-нибудь здесь да будет. — Его бледный взгляд заметался по комнате, потом снова остановился на мне. — Может, оно и неправильно, конечно, но в сложившихся обстоятельствах я лично не вижу ничего дурного в том, чтобы налить тебе, как говорил мой отец, маленький глоточек. Если ты сам, конечно, хочешь. Но, разумеется, не хочешь, — поспешно прибавил он, заметив, что я растерялся. — Неуместное предложение. Ладно, забудем.
Он шагнул ко мне и на пару неловких секунд я испугался, что он прикоснется ко мне или обнимет. Но вместо этого он хлопнул в ладоши, потер руки:
— Ну, в общем… Мы очень рады, что ты поживешь у нас, и надеюсь, что тебе у нас будет хорошо. Если что-то нужно — говори, не стесняйся, ладно?
Едва он вышел, как за дверью послышались перешептывания. Затем в дверь постучали.
— Тут к тебе пришли, — сказал мистер Барбур и скрылся.
В комнату прошлепал Энди: он хлопал глазами, прилаживал на нос очки. Было ясно, что его разбудили и вытащили из постели. Пружины шумно заскрипели, когда он уселся рядом со мной на краешек Платтовой кровати, глядя не на меня, а на противоположную стену.
Он прокашлялся, поправил очки. Последовало долгое молчание. В батареях что-то настойчиво шипело и позвякивало. Его родители смылись так быстро, словно услышали пожарную тревогу.
— М-да, — сказал он наконец невыразительным жутковатым голосом. — Вот это ад.
— Ага, — ответил я.
И мы с ним сидели и молчали, разглядывая темно-зеленые стены Платтовой комнаты и прямоугольные следы от плакатов с обрывками скотча. Ну а что тут еще скажешь?
3
Даже теперь, стоит мне вспомнить то время, и меня захлестывает удушливой безнадежностью. Все было ужасно. Мне наперебой совали попить холодненького, еще один свитер, еду, которая в меня не лезла: бананы, пирожные, сэндвичи, мороженое. Когда ко мне обращались, я отвечал «да» или «нет» и все глядел в пол, чтобы никто не видел, что я плакал.
Хоть по нью-йоркским меркам квартира у Барбуров была огромная, находилась она на нижнем этаже, и свет туда практически не проникал, даже с Парк-авеню. День там, конечно, никогда не наступал — да и ночь тоже, но отсвет ламп от полированного дуба придавал обстановке атмосферу беззаботности и уюта, будто в закрытом клубе. Друзья Платта прозвали его квартиру «склепаторием», а отец, который пару раз забирал меня после ночевок у Энди, называл ее «У Фрэнка Кэмпбелла», по названию похоронного агентства. Но для меня ее увесистая, пышная, довоенная мрачность стала спасением, в ней легко можно было укрыться, чтоб на тебя никто не пялился и не приставал с разговорами.
Меня то и дело кто-то навещал: само собой, соцработники и бесплатный психолог, которого мне назначило государство, и еще мамины коллеги (кое-кого из них, например, Матильду, я так здорово передразнивал, чтобы насмешить маму), и целая толпа университетских друзей и ее знакомых из модельного бизнеса. Приходил слегка знаменитый актер по имени Джед, который иногда отмечал с нами День благодарения («По мне, так твоя мать была царицей Вселенной»), Кика, немного припанкованная тетка в оранжевом пальто, которая рассказала мне, как они с мамой однажды в Ист-Виллидж, оставшись почти без гроша, закатили чумовой обед на двенадцать человек, не истратив и двадцатки (на стол, помимо всего прочего, пошли пакетики со сливками и сахаром, утянутые из кофейни, и зелень, которую они потихоньку надергали из ящика на соседском подоконнике). Аннета, вдова пожарного, старушка за семьдесят, которая была маминой соседкой, когда та жила в Нижнем Ист-Сайде, принесла коробку печенья из итальянской булочной неподалеку от того места, где они с мамой жили — точно такое же рассыпчатое печенье с кедровыми орехами она приносила, когда навещала нас на Саттон-плейс. Еще заходила Чинция, которая, едва увидев меня, разрыдалась и попросила мамино фото, чтобы положить его в бумажник.
Если визиты затягивались, миссис Барбур их прерывала, говоря, что я быстро утомляюсь, но, как я подозревал, еще и потому, что не знала, как вести себя с людьми вроде Чинции или Кики, которые не спешили освобождать ее гостиную. Минут через сорок пять она приходила и тихонько становилась в дверях.
Если они не понимали намека, она благодарила их за то, что навестили меня — очень вежливо, но всем сразу становилось ясно: пора уходить. (Голос у нее, как и у Энди, был невыразительный и бесконечно далекий — даже когда она стояла к тебе вплотную, казалось, что сигнал идет с Альфа Центавра.)
Вокруг меня, мимо меня — дом жил своей жизнью. Каждый день то и дело тренькал дверной звонок: домработницы, няньки, официанты из кейтеринга, репетиторы, преподаватели фортепиано, светские львицы и мужчины в мокасинах с кисточками — сотрудники благотворительных фондов, которыми занималась миссис Барбур. Младшие брат и сестра Энди, Тодди и Китси, носились по мрачным коридорам вместе со своими школьными друзьями. Частенько после обеда на чашечку чая или кофе забегали пахнущие духами дамы с пакетами из магазинов; по вечерам пары в вечерних нарядах с бокалами вина или минералки собирались в гостиной, куда каждую неделю доставляли по новой цветочной композиции от модного флориста с Мэдисон-авеню и где последние номера «Аркитекчурал Дайджест» и «Нью-Йоркера» были выложены на журнальном столике идеальным веером.
Если мистеру и миссис Барбур и доставило массу неудобств то, что на них почти без предупреждения свалился еще один ребенок, у них хватило такта этого не показывать. Мать Энди, со своими нарочито неброскими украшениями и улыбкой, похожей на точку в разговоре, была из тех женщин, которые, если им надо, и до мэра дозвонятся, и, казалось, могла обойти любые препоны нью-йоркской бюрократии. При всем моем горе и смятении, я чувствовал, что она дергала за какие-то ниточки за кулисами, облегчала мне жизнь, защищала меня от неприглядных сторон работы социальных служб — и еще, теперь я в этом почти уверен, от журналистов. Все звонки с настойчиво трезвонившего домашнего телефона сразу перенаправлялись на ее мобильный. Еще были перешептывания, наставления швейцарам. Как-то раз, когда Энрике в очередной раз пытал меня насчет отца — от этих допросов у меня то и дело подкатывали слезы, он будто из меня расположение ракетных баз в Пакистане вытягивал, — она выпроводила меня из комнаты и ровным, сдержанным тоном положила этим допросам конец. («Ясно же, что мальчик понятия не имеет, где отец, да и мать не знала тоже… Понимаю, что вы хотите его найти, но ведь очевидно же, что отец этого не хочет и принял меры, чтобы его нельзя было найти… алименты он не платит, уехал, оставив после себя кучу долгов, он, можно сказать, сбежал, никому и слова не сказав, так что, по правде сказать, я не совсем понимаю, чего вы добьетесь, если отыщете этого образцового родителя и законопослушного гражданина… да, да, конечно, это все прекрасно, но если его кредиторы и ваши службы не могут его найти, то мне не слишком понятно, зачем нужно и дальше мучить ребенка? Давайте условимся, что этого больше не повторится, хорошо?»)
Домочадцам военное положение, на которое перешел дом после моего приезда, доставило определенные неудобства: например, прислуге во время работы запретили слушать новостную радиостанцию «1010 ВИНС» («Нельзя, нельзя», — сказала кухарка Этта, метнув упреждающий взгляд в мою сторону, когда одна из домработниц хотела было включить радио), а по утрам «Таймс» сразу уносили мистеру Барбуру и не давали больше никому почитать. Очевидно было, что раньше так не делали: «Кто-то снова забрал газету!», — принималась выть младшая сестра Энди, Китси, чтобы потом виновато смолкнуть под взглядом матери, и вскоре я понял — газеты исчезали в кабинете мистера Барбура, так как все сочли, что мне лучше не видеть того, о чем там пишут.
Хорошо хоть Энди, который и раньше делил со мной все невзгоды, понимал, что меньше всего на свете я хотел общаться. Тогда, в самые первые дни, ему разрешили остаться со мной и не ходить в школу. Мы с ним сидели за шахматной доской в его душной клетчатой комнате с двухъярусной кроватью, где во время учебы в начальной школе я так часто спал с субботы на воскресенье, и Энди играл за нас обоих, потому что я был как в тумане и с трудом вспоминал, как какая фигура ходит.
— Так, — говорил он, поправляя очки на переносице. — Вот что. Ты точно хочешь туда пойти?
— Куда пойти?
— Я, конечно, понимаю, — отвечал Энди своим пришепетывающим, невыносимым голосом, который так и вынуждал школьных задир годами спихивать его со школьного крыльца, — твоя ладья под ударом, совершенно верно, но я бы посоветовал тебе повнимательнее поглядеть на свою королеву — нет-нет, на свою королеву. D5.
Ему пришлось меня окликнуть, чтобы я очнулся. Я снова и снова переживал тот миг, когда мы с мамой взлетаем по ступеням в музей. Ее полосатый зонтик. Нам в лица сыплет дождем. Я понимал, что случилось непоправимое, и в то же время мне все казалось, что должен быть какой-то способ вернуться назад, под тот дождь и все изменить.
— Тут недавно, — сказал Энди, — кто-то, по-моему даже этот Малкольм как его там или какой-то типа уважаемый писатель вроде него, да неважно, так вот, недавно он в «Сайенс Таймс» написал огромную статью про то, что потенциальных шахматных партий больше, чем песчинок во всем мире. Просто позор, когда научный журналист, который пишет для крупной газеты, начинает распространяться на такую очевидную тему.
— Точно, — сказал я, с усилием оторвавшись от своих размышлений.
— Можно подумать, кто-то прямо не знает, что число песчинок на планете хоть и огромно, но все же не бесконечно. До чего глупо, что кто-то вообще решился открыть рот по такому поводу, типа — Сенсация! Выступили, как будто это какое-то тайное знание.
В начальной школе мы с Энди подружились при довольно-таки трагических обстоятельствах: из-за высоких оценок нас с ним перевели в класс постарше. Теперь-то все признают, что делать этого не стоило — хоть и имеют в виду совсем другое.
Тогда мы год путались под ногами у мальчишек, которые были старше и крупнее нас, ставили нам подножки, толкали нас и защемляли нам пальцы дверями шкафчиков, рвали наши тетрадки с домашней работой и плевали нам в молоко, которые звали нас зубрилой и педрилой (а мое имя еще и, к сожалению, легче легкого превращалось из Теодора в Теодрота), целый год (год нашего вавилонского пленения, как сказал Энди своим унылым голоском) мы с ним барахтались бок о бок, будто пара муравьев-слабаков под увеличительным стеклом, получая по ногам и ниже пояса, превращаясь в изгоев, на обед забиваясь в самый темный угол, чтобы не прилетело в лицо пакетиками кетчупа и куриными наггетсами.
Почти два года он был моим лучшим другом — и наоборот. Теперь, как вспомню те времена, делается стыдно и тоскливо: наши войнушки с автоботами и космическими кораблями из «Лего», как мы с ним притворялись персонажами из самого первого «Стар Трека» (я был Кирком, Энди — Споком), прячась за ними, пытаясь превратить наши мучения в игру. Капитан, похоже, место, где эти пришельцы нас держат, — симулякр одной из ваших школ для человеческих детей на Земле.
До того как я — с клеймом «одаренного ребенка» — очутился в плотной, агрессивной толпе больших мальчишек, меня в школе никогда особо не дразнили и не унижали. А вот к бедняге Энди все без конца цеплялись еще до того, как он перескочил в класс постарше: тощий, дерганый, бледнокожий до прозрачности, он не переносил лактозу и любил вплетать в самый обычный разговор слова вроде «тлетворный» и «хтонический». Он был умненький, но неуклюжий, а из-за невыразительного голоса и привычки дышать ртом, потому что нос у него был вечно заложен, он казался далеко не гением, а наоборот — дурачком. Среди своих резвых, ловких и зубастых братьев и сестер, деливших время между друзьями, спортивными тренировками и школьными факультативами, он выделялся, как задрот, который по ошибке забрел на поле для лакросса.
И если я еще как-то сумел оправиться от ужасов пятого класса, то Энди этого не удалось. Вечером в пятницу и субботу он сидел дома, его никогда не звали на вечеринки или потусоваться в парке. Насколько я знал, кроме меня друзей у него и не было. И хотя благодаря матери он одевался не хуже школьных звезд (было время, когда он даже контактные линзы носил), этим ему провести никого не удалось, злобные шутники, которые еще помнили его с той злополучной начальной школы, по-прежнему отвешивали ему пинков и обзывали «Трипио» из-за того, что давным-давно он имел неосторожность появиться в школе в футболке со «Звездными войнами».
Разговорчивым Энди никогда не был, даже в детстве, разве что изредка его прорывало (наша дружба по большей части представляла собой молчаливый обмен комиксами). Годы школьной травли сделали его еще более зажатым и необщительным — он стал употреблять меньше слов из лексикона Лавкрафта и все больше зарываться в глубины физмата. Меня математика никогда особенно не интересовала — я был, что называется, гуманитарием, возложенных на меня академических ожиданий я не оправдал по всем пунктам и вкалывать ради оценок не собирался, а вот Энди был в классе первым учеником и по всем предметам взял интенсив. (Энди, как и Платту, светил Гротон, и от этой перспективы его трясло с третьего класса, однако родители побоялись — вполне оправданно — отсылать в школу-пансионат сына, которого так травили одноклассники, что однажды чуть не задушили на переменке, накинув ему на голову целлофановый пакет. И это было не единственной причиной — я и узнал-то про «ку-ку-ферму» мистера Барбура, потому что Энди со свойственной ему бесстрастностью рассказал мне, что родители опасались, как бы он не унаследовал от отца его, как он выразился, чувствительность.)
Энди извинялся, что ему приходится заниматься, пока он сидит со мной и не ходит в школу. «К сожалению, это необходимо», — сказал он, шмыгнув носом и вытерев его рукавом. Учеба требовала от него серьезной отдачи («Это интенсивный спуск в ад»), он не мог и дня пропустить. И пока он корпел над какими-то бесконечными домашними заданиями (по химии, матанализу, истории Америки, английскому, астрономии, японскому), я сидел на полу, прислонившись к его гардеробу и считал про себя: в это время три дня назад мама еще была жива, в это время четыре дня назад, неделю назад. Мысленно я перебрал все, что мы с ней ели незадолго до ее смерти: наш последний поход в тот греческий ресторанчик, последний раз в «Шан-Ли Палас», последний ужин, который она мне приготовила (спагетти карбонара), и предпоследний («цыпленок по-индийски» — блюдо, которое ее научила готовить мать, когда они еще жили в Канзасе).
Иногда, чтобы казалось, будто я чем-то занят, я листал старые выпуски «Стального алхимика» или комиксы по произведениям Герберта Уэллса, которые лежали у Энди в комнате, но не понимал даже, что нарисовано на картинках. В основном я таращился на шлепавших по карнизу голубей, а Энди заполнял бесконечные ячейки в своей прописи по хирагане, дергая под столом коленкой.
Комната Энди — изначально просторная спальня, которую Барбуры разгородили надвое — выходила окнами на Парк-авеню. В час пик на пешеходных переходах ревели клаксоны, а в окнах напротив золотом пылал свет, угасая тогда же, когда редело движение на улицах.
По ночам (с фосфоресцентными фонарями и лиловыми городскими ночами, которые так и не темнели до конца) я ворочался с боку на бок, низкий потолок так нависал над верхней койкой, что, бывало, я просыпался с чувством, будто лежу не на кровати, а под ней.
Неужели вообще было возможно скучать по кому-то так, как я скучал по маме? Мне до того ее недоставало, что хотелось умереть, мне ее остро, физически не хватало — как воздуха под водой. Я лежал без сна и пытался вспомнить про нее все самое лучшее, запечатлеть ее в мозгу, чтобы никогда не забыть, но вместо дней рождения и прочего веселья в голове всё всплывали воспоминания вроде того, как за несколько дней до гибели она остановила меня в дверях и сняла ниточку со школьного пиджака. Отчего-то так я помнил ее яснее всего: сдвинутые брови, как именно она протянула ко мне руку, всё-всё. Пару раз бывало, когда я метался ото сна к бодрствованию, я вдруг подскакивал в кровати от ее голоса у меня в голове, от фраз, которые она когда-то говорила, но я уже не помнил, как-то: Брось-ка мне яблоко, или Интересно, а пуговицы должны быть сзади или спереди? или Как потрепала жизнь этот диван!
Свет с улицы разлетался по полу черными лентами. Я уныло размышлял о том, что всего в паре кварталов отсюда находится моя пустая спальня, моя собственная узкая постель под старым красным покрывалом. Мерцают звезды ночника-планетария, на стене открытка с кадром из «Франкенштейна» Джеймса Уэйла. Птицы снова вернулись в парк, зацвели нарциссы, обычно в это время года, если стояла хорошая погода, мы иногда по утрам просыпались пораньше и не садились на автобус до Вест-Сайда, а шли пешком через парк. Если бы я только мог вернуться назад и все изменить, каким-то образом не дать этому произойти. Ну почему я не настоял на том, чтобы вместо музея мы пошли завтракать? Почему мистер Биман не попросил нас прийти во вторник или в четверг?
На второй или третий вечер после маминой смерти — когда-то после того, как миссис Барбур отвела меня к врачу по поводу моей головной боли — у Барбуров в квартире была запланирована важная вечеринка, отменять которую было уже поздно. Были какие-то перешептывания, беготня и хлопоты, которые я едва замечал.
— Мне кажется, — сказала миссис Барбур, войдя в комнату Энди, — вам с Тео куда приятнее будет тут посидеть.
Несмотря на ее непринужденный тон, было ясно — это не предложение, а приказ.
— Будет такая скукота, не думаю, что вам понравится. Я попрошу Этту, чтоб принесла вам с кухни пару тарелок.
И мы с Энди сидели рядышком на нижнем ярусе кровати, ели с бумажных тарелок канапе с креветками и артишоками — точнее, он ел, а я сидел с нетронутой тарелкой еды на коленях. Он поставил DVD, какой-то экшен со взрывающимися роботами и градом огня и металла. Из гостиной: звон бокалов, запах свечного воска и духов, то и дело голос звякнет хрустально смехом. Пианист блестяще играл джазовую аранжировку It's All Over Now, Baby Blue[19] — казалось, будто она плывет к нам из параллельного мира.
Все потерялось, я исчез с карты: меня вымотали блуждания по чужому дому и чужой семье, и я был вялый, заторможенный, плаксивый даже, будто заключенный, которому не давали спать несколько дней. Снова и снова я думал: «Меня уже ждут дома», а затем — в миллионный раз: «Не ждут».
4
Дня через четыре, может, через пять, Энди нагрузил книгами свой растянутый рюкзак и вернулся в школу. Весь тот день и следующий я просидел у него в комнате, перед включенным каналом «ТСМ — Классика кинематографа», потому что мама всегда его смотрела после работы. Показывали подборку экранизаций Грэма Грина: «Министерство страха», «Человеческий фактор», «Поверженный идол», «Наемный убийца». На второй вечер — я как раз ждал, когда начнется «Третий человек» — в комнату заглянула миссис Барбур (с ног до головы в Валентино, по пути на какое-то мероприятие в музее Фрика) и объявила, что завтра я иду в школу.
— Так кто угодно расклеится, — сказала она. — Сидишь тут один. Тебе это не на пользу.
Я не знал, что сказать. С тех пор как умерла мама, пожалуй, самое нормальное, что я делал, так это смотрел по телику кино в одиночестве.
— Тебе сейчас хорошо бы снова втянуться в какой-то режим. Так что завтра. Знаю, Тео, тебе так не кажется, — сказала она, когда я ничего не ответил, — но полегче станет только когда ты чем-нибудь себя займешь.
Я упорно уставился в телевизор. В последний раз я был в школе накануне маминой гибели, и вернуться в школу — вроде как официально признать, что мама умерла. Вернусь — и это станет общепризнанным фактом. Хуже того, сама мысль о возвращении к любому привычному распорядку казалась предательской, неправильной.
Стоило вспомнить — и я всякий раз вздрагивал, как от очередной пощечины: она умерла. Каждое новое событие, да каждый мой поступок на всю оставшуюся жизнь будет все больше и больше разделять нас с ней: дни, в которых ее больше не будет — вечно растущее между нами расстояние. С каждым моим новым днем она будет от меня все дальше и дальше.
— Тео…
Я вздрогнул, посмотрел на нее.
— Шажок за шажком. По-другому никак.
На следующий день обещали киномарафон, посвященный шпионским фильмам про Вторую мировую («Каир», «Скрытый враг», «Кодовое имя: Изумруд»), так что мне очень хотелось остаться дома и его посмотреть. Вместо этого я вылез из постели, когда мистер Барбур просунул голову в дверь, чтобы нас разбудить («Рота, подъем!»), и вместе с Энди поплелся к автобусной остановке.
Шел дождь, и было довольно холодно, так что миссис Барбур заставила меня надеть сверху позорное старое пальто Платта. Младшая сестра Энди, Китси, порхала впереди в розовом плаще, шлепая по лужам и притворяясь, будто она не с нами.
Я знал, что все будет ужасно, и все было ужасно, с самой секунды, когда я вошел в ярко освещенный коридор и уловил знакомый запах старой школы: лимонный дезинфектант и, похоже, несвежие носки. В коридоре висели написанные от руки объявления: дополнительные тренировки по теннису и набор в кулинарный кружок (записываться здесь), пробы в спектакль «Странная пара», поход на остров Эллис, еще можно приобрести билеты на концерт «Весна-на-на-на» — с трудом верилось, что мир рухнул, а кого-то еще волнуют эти дурацкие занятия.
Как странно: когда я был тут в последний раз, она еще была жива. Я все думал об этом — и всякий раз по-новому: в последний раз, когда я открывал шкафчик, в последний раз, когда я брал в руки этот гребаный дебильный учебник по «Основам биологии», в последний раз, когда я видел, как Линди Мейзель мажется этим своим блеском для губ с пластиковой палочкой. Не верилось, что я никак не могу потянуться вслед за этими движениями в мир, где она еще жива.
— Соболезную.
Это я слышал и от знакомых, и от тех, кто мне в жизни и слова не сказал. Люди, которые болтали и смеялись в коридорах, умолкали, когда я проходил мимо, и смотрели на меня с сочувствием или недоумением. Были и те, кто меня полностью игнорировал, как здоровые собаки, бывает, перестают замечать больного или раненого пса в стае, и, резвясь, проносились мимо по коридорам, как будто меня и вовсе не существовало.
В частности, меня старательно избегал Том Кейбл, будто я был девчонкой, которую он бросил. В обед его нигде не было видно. На испанский он завалился уже после начала урока, пропустив неловкую сцену, когда все столпились возле моей парты, чтобы выразить соболезнования, и сел не рядом со мной, как обычно, а впереди, ссутулившись и вытянув ноги в проход. Дождь барабанил по подоконникам, пока мы сражались с переводом каких-то дичайших фраз, фраз, которыми гордился бы Сальвадор Дали: про лобстеров и пляжные зонтики и про Марисоль с длинными ресницами, которая едет в школу на зеленом, как лягушка, такси.
После урока я нарочно подошел к нему поздороваться, пока он собирал учебники.
— А, здорово, ты как, — сказал он прохладно, откинувшись назад и выпендрежно выгнув бровь. — Да, уж рассказали, чо.
— Ага. — У нас так было заведено: никаких соплей, шутки только для своих.
— Невезуха. Вот уж прилетело.
— Спасибо.
— Блин, ты б прикинулся больным. Говорил же тебе! Моя мать тогда тоже на говно изошла. Аж потолок забрызгало! Ну вот да, — сказал он, дернув плечом, когда за его словами последовала неловкая пауза, и заоглядывавшись — вверх, вниз, по сторонам — с таким видом «Кто, я?», будто кинул снежок с камнем внутри.
— Ваще. Короче, — сказал он таким — «ладно, проехали» тоном, — а костюм зачем нацепил?
— Что?
— Ну-у, — он шагнул назад, иронически оглядел мое клетчатое пальто, — определенно, это заявка на победу в конкурсе двойников Платта Барбура.
И помимо собственной воли — вдруг, после стольких дней ужаса и оцепенения, будто не сдержав туреттовского спазма — я рассмеялся.
— Шутка засчитана, Кейбл, — отозвался я противным тягучим голосом Платта. Мы с ним оба здорово умели передразнивать людей и, бывало, подолгу разговаривали чужими голосами, изображая тупых телеведущих, плаксивых девчонок, сюсюкающих тупорылых преподов. — Завтра я оденусь тобой.
Но Том ничего на это не ответил, не подхватил шутку. Не проявил интереса.
— Эээ, кто знает, — сказал он, слегка дернув плечом, ухмыльнувшись. — Потом, может.
— Ладно, потом.
Я разозлился: да что за херня с ним творится? С другой стороны, взаимные насмешки и оскорбления входили в программу нашего с ним долгоиграющего саркастического стэндапа, забавного только для нас самих; я не сомневался, что он разыщет меня после английского или нагонит по пути домой — подбежит сзади и огреет по голове учебником алгебры.
Но этого не случилось. На следующее утро перед началом уроков он даже не взглянул в мою сторону, когда я поздоровался, и протиснулся мимо меня с таким каменным лицом, что я остолбенел. Стоявшие возле своих шкафчиков Линди Мейзель и Мэнди Квейф повернулись и уставились друг на друга, захихикав от изумления — Ого! Сэм Вайнгартен, с которым мы вместе сидели на лабораторках, покачал головой:
— Ну и мудак, — сказал он так громко, что все в коридоре обернулись. — Какой же ты мудак, Кейбл.
Но мне было наплевать, то есть я хотя бы не обиделся и не раскис. Наоборот, я был в ярости. Наша с Томом дружба всегда носила какой-то дикий, безумный характер, было в ней что-то безбашенное, шальное, опасное даже, и вот теперь прежний накал никуда не делся, но ток рванул к минусу, напряжение загудело в обратную сторону, и мне хотелось не ржать с ним в коридоре, а засунуть его башку в унитаз, повыдергать ему руки, до крови приложить его рожей об асфальт, заставить его жрать с земли мусор и собачье дерьмо.
Чем больше я об этом думал, тем больше злился, иногда доводил себя до такого состояния, что начинал расхаживать взад-вперед в ванной, бормоча себе под нос. Если бы Кейбл не наябедничал на меня мистеру Биману («Я знаю, Тео, сигареты были не твои…»), если бы из-за Кейбла меня не отстранили от занятий… если бы маме тогда не пришлось отпрашиваться с работы… если бы мы не очутились в музее в тот роковой момент… даже мистер Биман за это извинялся — ну, типа. Потому что, да, конечно, с оценками у меня были проблемы (и еще со многим другим, о чем мистер Биман даже не догадывался), но с чего все началось-то, почему меня исключили, вся эта история с сигаретами — кто это все устроил? Кейбл. Не то чтоб я ждал от него извинений. На самом деле я б ему никогда про это и слова не сказал. Только — я теперь что, изгой? Персона нон грата? Он со мной даже не разговаривает? Я был поменьше Кейбла, но ненамного, и всякий раз, когда он начинал паясничать в классе — конечно, как же без этого — или проносился мимо меня по коридору со своими новыми дружками Билли Вагнером и Тадом Рэндольфом (так, как мы с ним носились когда-то, вечно на повышенной скорости — чтобы словить чувство опасности, исступления) — я только и думал о том, как хорошо было бы измордовать его до крови, так чтоб девчонки смеялись, когда он будет в слезах от меня отползать: «Ой, Тоооом! Ой-ей-ей, ты что, расплакался?» (Изо всех сил стараясь нарваться на драку, я однажды намеренно заехал ему с размаха по лицу дверью туалета и еще толкнул его в кулер, так что он аж выронил на пол свои мерзотные сырные чипсы, но он, вместо того чтоб наброситься на меня, чего я и добивался, только ухмылялся и уходил, не говоря ни слова.)
Конечно, не все меня избегали. В моем шкафчике лежала куча записок и подарков (в том числе от Изабеллы Кушинг и Мартины Лихтблау, самых популярных девчонок в нашем потоке), а Вин Темпл, мой заклятый враг с пятого класса, донельзя меня удивил, когда подошел и обнял так, что кости затрещали. Но в основном все обращались со мной с настороженной, почти пугливой вежливостью. На людях я не рыдал, не ходил с мрачным видом, но стоило мне присесть к кому-то во время обеда, и все умолкали на полуслове.
А вот взрослые, напротив, уделяли мне столько времени, что делалось аж не по себе. Мне советовали вести дневник, общаться с друзьями, склеить «памятный коллаж» (дебильный совет, вот правда — от меня все шарахались, даже когда я вел себя нормально, поэтому мне меньше всего на свете хотелось еще привлекать к себе внимание, распространяясь о своих чувствах или мастеря терапевтические поделки в кабинете искусств). Я какое-то непомерное количество времени провел в пустых классах (уставившись в пол, механически кивая головой) один на один с учителями, которые просили меня задержаться после урока или отводили в сторонку — поговорить. Учитель английского, мистер Нойшпайль, примостившись на краешке стола и поведав мне трагическую историю об ужасной смерти его матери от рук некомпетентного хирурга, похлопал меня по спине и подарил мне блокнот для записей; школьный психолог миссис Свонсон показала мне парочку дыхательных упражнений и сказала, что, возможно, горе меня отпустит, если я выйду на улицу и покидаюсь в деревья кубиками льда; и даже мистер Воровски (который преподавал математику и был не таким светлым человечком, как большинство учителей) подозвал меня в коридоре и тихонько, приблизив ко мне лицо чуть ли не вплотную, рассказал, каким виноватым себя чувствовал, когда его брат погиб в автокатастрофе. (Тема вины постоянно всплывала в этих разговорах. Неужели, как и я, мои учителя думали, что я виноват в смерти матери? Похоже на то.) Мистер Воровски так винил себя за то, что разрешил пьяному брату сесть за руль после вечеринки, что какое-то время даже подумывал о самоубийстве. Быть может, я тоже думал о самоубийстве? Нет, это не выход.
Я вежливо принимал все эти их советы — с примерзшей к лицу улыбкой и острым чувством нереальности происходящего. Многие взрослые принимали эту мою оцепенелость за добрый знак, особенно помню, как мистер Биман (донельзя чопорный британец в дурацком твидовом кепи, которого я, несмотря на всю его участливость, помимо своей воли возненавидел как человека, из-за которого умерла мама) отметил мое мужество и сообщил, что я, кажется, «чертовски хорошо держусь».
А может быть, я действительно хорошо держался, не знаю. Я уж точно не ревел белугой, не пробивал кулаками стекол, не делал, в общем, ничего такого, что, как мне казалось, можно сделать, когда чувствуешь то же, что чувствовал я. Но иногда неожиданно горе накатывало волнами, так что я начинал задыхаться, а когда откатывало назад, я обнаруживал, что гляжу на просоленные обломки крушения, залитые таким ярким, таким рвущим душу и пустым светом, что с трудом верилось, будто мир когда-то не был мертв.
5
Вот честно, меньше всего на свете я тогда думал о деде и бабке Декерах, да и с чего бы, ведь соцслужбы так и не смогли их сразу отыскать с той скудной информацией, которую я им дал. А потом вдруг к нам с Энди в дверь постучалась миссис Барбур и сказала:
— Тео, выйди-ка на минутку, нужно поговорить.
Что-то в ее голосе подсказывало мне, что новости у нее плохие, хотя сложно представить в моем-то положении, что еще могло быть хуже. Когда мы с ней уселись в гостиной — под трехметровой композицией из вербовых ветвей и яблоневого цвета, которую только что доставили от флориста, — она положила ногу на ногу и сказала:
— Звонили из соцслужбы. Им удалось связаться с твоими дедушкой и бабушкой. К несчастью, кажется, твоя бабушка нездорова.
Пару секунд я ничего не понимал:
— Дороти?
— Да, если ты ее так называешь.
— A-а. Она мне не родная бабка.
— Понимаю, — ответила миссис Барбур так, будто на самом деле она ничего не понимала да и не желала понимать. — В любом случае. Похоже, она нездорова — что-то со спиной, как я поняла, — и твой дедушка за ней сейчас ухаживает. И, в общем, дело в том, то есть я уверена, что им ужасно жаль, но они сказали, что тебе сейчас нет смысла к ним туда ехать. Ну и жить у них, конечно, — прибавила она, когда я ничего не ответил. — Они предложили на какое-то время оплатить тебе номер в «Холидей Инн», рядом с их домом, но это как-то не слишком практично, верно?
В ушах у меня неприятно жужжало. Под ее ровным серо-ледяным взглядом мне отчего-то стало ужасно стыдно. Одно дело — бояться, что тебя отправят к дедуле Декеру и Дороти и поэтому почти вытеснить их из памяти, другое — узнать, что ты им не очень-то и нужен.
На ее лице промелькнуло сочувствие.
— Ты только не расстраивайся, — сказала она. — И в любом случае не волнуйся. Мы уже договорились, что еще несколько недель ты поживешь у нас — хотя бы учебный год закончишь. Все согласны, что так будет лучше всего. Кстати, — сказала она, придвинувшись поближе, — какое прелестное кольцо. Семейная реликвия?
— Ммм, да, — ответил я. Не знаю почему, но я стал везде с собой носить кольцо того старика. В основном я вертел его в кармане куртки, где оно всегда лежало, но иногда, бывало, и носил на среднем пальце, хотя оно мне было великовато и прокручивалось.
— Как интересно. Со стороны матери или отца?
— С маминой, — сказал я после небольшой паузы — мне не понравилось, куда повернул разговор.
— Можно посмотреть?
Я снял кольцо и положил ей его на ладонь. Она поднесла его к лампе.
— Какое красивое, — сказала она. — Сердолик. И какая инталия. Греко-римская? Или это фамильный герб?
— Ммм, по-моему, герб.
Она разглядывала когтистого сказочного зверя.
— Похож на грифона. А может, крылатый лев.
Она перевернула его внутренней стороной к свету и присмотрелась.
— А гравировка?
Увидев мое замешательство, она нахмурилась.
— Только не говори, что никогда не замечал. Погоди-ка.
Она встала, подошла к письменному столу с кучей хитроумных ящичков и полочек и достала лупу.
— Получше моих очков для чтения, — сказала она, вглядываясь в кольцо через лупу. — Но все равно, надпись старая, с трудом читается.
Она приблизила лупу, потом отвела руку подальше.
— Блэквелл. Это тебе о чем-то говорит?
— Эээ… — на самом деле говорило, конечно, и даже не то чтоб словами, так, мысль, которая вспорхнула и исчезла, не успев оформиться.
— Тут еще какие-то греческие буквы. Очень интересно. — Она вернула мне кольцо. — Оно старое, — добавила она. — Это видно по патине на камне и тому, как оно сношено — вот здесь, видишь? Во времена Генри Джеймса американцы покупали классические инталии такого типа в Европе и вставляли их в кольца. На память о Гран-туре.
— Но если я им не нужен, то где же я буду жить?
На секунду миссис Барбур растерялась. Но почти мгновенно оправилась и сказала:
— Ну, ты пока не думай об этом. Тебе и правда лучше всего будет пожить тут у нас подольше и закончить учебный год, согласись. И вот что, — прибавила она, — ты поаккуратнее с этим кольцом, смотри не потеряй. Я же вижу, что оно тебе велико. Может, лучше, не носить его, а положить в какое-нибудь безопасное место.
6
Но я продолжал носить кольцо. Точнее — я пропустил мимо ушей ее совет про безопасное место и продолжал таскать кольцо в кармане. В руке оно было тяжелым, когда я сжимал его в кулаке, золото нагревалось от тепла моей ладони, но камень оставался прохладным. Его старинная увесистость и сочетание строгости с яркостью меня отчего-то успокаивали, стоило мне сфокусировать на нем внимание, и кольцо странной силой, будто якорем, удерживало меня на месте, отгораживало меня от всего мира — но я все равно никак не желал вспоминать о том, откуда оно у меня взялось.
О будущем тоже думать не хотелось — хоть я и не рвался к новой жизни в мэрилендской деревне и ледяному гостеприимству бабки и деда Декеров, но теперь я всерьез забеспокоился насчет того, что же со мной будет. Всех до глубины души ужаснула идея с «Холидей Инн», как если бы бабка с дедом предложили мне пожить у них в сарае на заднем дворе, но, по мне, так это был и не худший вариант. Мне всегда хотелось пожить в отеле, и хоть «Холидей Инн» был совсем не тем отелем, о котором мне мечталось, уж я бы как-нибудь справился: заказывал бы в номер гамбургеры, смотрел бы платные каналы по телику, торчал бы летом в бассейне — что, разве плохо?
Все (соцработники, психолог Дейв, миссис Барбур) твердили мне, что я никак не выживу один в «Холидей Инн» в мэрилендском пригороде и, как бы там ни было, а до этого точно никогда не дойдет — и, похоже, не понимали, что от этих их попыток меня подбодрить я только сильнее и сильнее нервничал.
— Главное — помни, — говорил прикрепленный ко мне психолог Дейв, — что бы ни случилось, пропасть тебе не дадут.
Дейву был тридцатник или около, он одевался во все черное, носил стильные очки и вечно выглядел так, будто пришел прямиком с поэтических чтений в каком-нибудь церковном подвале.
— Потому что в мире очень много людей, которых волнует твоя судьба и которые желают тебе только самого лучшего.
Я стал относиться с подозрением к людям, которые заводят разговоры о том, что для меня лучше, потому что как раз это говорили соцработники перед тем, как всплыла тема интерната.
— Но, по-моему, бабушка с дедушкой не так уж и плохо придумали, — сказал я.
— Придумали — что?
— Ну, про «Холидей Инн». Может, мне там будет нормально.
— То есть дома с твоими бабушкой и дедушкой тебе будет не нормально? — спросил Дейв, даже не поперхнувшись.
— Да нет! — вот я терпеть не мог, когда он начинал за меня додумывать.
— Ну ладно, давай тогда перефразируем, — он скрестил руки, задумался. — Почему тебе больше хочется жить в отеле, чем с ними?
— Я этого не говорил.
Он склонил голову набок.
— Нет, но судя по тому, как ты вечно заговариваешь о «Холидей Инн», будто о каком-то завидном варианте, мне кажется, ты говоришь о том, чего тебе хочется.
— Ну, это в сто раз лучше, чем интернат.
— Верно, — он склонился ко мне, — но, пожалуйста, послушай, что я тебе скажу. Тебе всего тринадцать. Ты только что потерял родителя. Жить одному именно сейчас — для тебя не выход. Конечно, жаль, что у твоих бабушки с дедушкой сейчас приключились эти проблемы со здоровьем, но я уверен, как только твоя бабушка поправится, мы придумаем что-то гораздо лучше.
Я промолчал. Понятно, он же ни разу не встречался с дедулей Декером и Дороти. Я и сам-то не был у них частым гостем, но все, что помню, так это полнейшее отсутствие в нас голоса крови и то, как тупо они глядели на меня, будто на какого-то постороннего пацана, который забрел к ним из торгового центра. Жизнь с ними невозможно было и представить — в буквальном смысле, и я изо всех сил пытался вспомнить свой последний к ним приезд, без особого успеха, так как мне тогда было лет семь или восемь. На стенах в рамочках висели вышитые изречения, на пластиковой столешнице в кухне стояла какая-то штуковина, в которой Дороти сушила продукты. В какой-то момент, после того как дедуля Декер проорал, чтоб я не лез своими липкими лапами к его поездам, отец вышел на улицу покурить (дело было зимой) и не вернулся.
— Господи Иисусе, — сказала мама, когда мы уселись обратно в машину (это она хотела, чтобы я познакомился с семьей отца), и больше мы к ним не ездили.
Спустя пару дней после плана с «Холидей Инн», Барбурам пришла открытка на мое имя. (В скобках — а что, правда глупо было думать, что Боб и Дороти, как они подписались, могли бы поднять трубку и позвонить мне? Или сесть в машину и приехать меня проведать? Но они ничего такого не сделали — не то чтобы я ждал, что они кинутся ко мне с сочувственными воплями, но все-таки классно было бы, если бы они неожиданно выказали хоть какой-нибудь маленький, пусть и нехарактерный для них, знак заботы.)
Открытка вообще-то была от Дороти («Боб», ее же почерком, был явно втиснут в последний момент). Примечательно, что конверт выглядел так, будто его кто-то отпарил и вскрыл — миссис Барбур? Кто-то из соцслужб? Хотя сама открытка была точно от Дороти, написана ее угловатым зубчатым почерком, который мы видели раз в год на рождественской открытке, почерком, который — как однажды выразился отец — хорошо смотрелся бы на меню-штендере «Ла Гулю» со списком рыбных блюд дня. На открытке был изображен поникший тюльпан, а под ним шла надпись: «У жизни нет конца».
Дороти, как я смутно помнил, слов попусту не тратила, и открытка была тому подтверждением. После довольно теплого вступления — сожалеем о трагической потере, мысленно с тобой в этот трудный час — она предложила выслать мне деньги на автобусный билет до Вудбрайара, штат Мэриленд, тут же намекнув, что по некоторым медицинским показаниям они с дедушкой Декером не смогут в полной мере «удовлетворить всем запросам» по моему содержанию.
— Запросам? — переспросил Энди. — Такое ощущение, будто ты у нее просишь десять миллионов немечеными купюрами.
Я молчал. Странно, но меня отчего-то растревожила картинка на открытке. Такие видишь обычно на вертушках в аптеках, в них нет ничего плохого, но все-таки снимок с увядшим цветком — и неважно, что это постановочное фото — как-то не слишком уместно посылать человеку, у которого только что умерла мать.