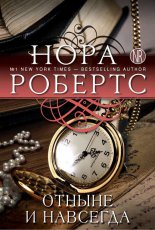Щегол Тартт Донна

Вся еда на вкус была как картон. Мне уже несколько недель вообще не хотелось есть.
— Может, хочешь тост с корицей? Или кашу?
— Просто смехотворно, что ты запрещаешь нам пить кофе, — сказал Энди, который без ведома родителей обычно покупал себе по огромному стакану кофе в «Старбаксе» — по дороге в школу и домой. — Очень отстало с твоей стороны.
— Возможно, — холодно отозвалась миссис Барбур.
— Даже полчашки — и то хорошо. Довольно неразумно с твоей стороны отправлять меня на углубленное изучение химии в восемь сорок пять утра без капли кофеина.
— Хнык-хнык, — вставил мистер Барбур, не отрывая взгляда от газеты.
— Это очень нецелесообразный подход. Всем остальным его пить разрешают.
— А вот это неправда, — сказала миссис Барбур. — Бетси Ингерсолл мне говорила…
— Ну, может миссис Ингерсолл и не разрешает Сабине пить кофе, но нужно гораздо больше, чем чашка кофе, чтоб Сабина Ингерсолл смогла хоть что-то изучать углубленно.
— Это неуместное замечание, Энди, — и недоброе.
— Я всего-то сказал правду, — холодно сказал Энди, — Сабина тупа как пробка. Ей, наверное, стоит следить за здоровьем — на другое-то надежды мало.
— Мозги — это еще не все, милый. Хочешь яйцо — может, Этна тебе яйцо-пашот сделает? — спросила миссис Барбур, повернувшись ко мне. — Или яичницу? Или омлет? Или как ты хочешь?
— Я люблю омлет! — сказал Тодди. — Смогу даже из четырех яиц съесть!
— Не сможешь, дружок, — сказал мистер Барбур.
— Смогу! Из шести! Из целой коробки яиц!
— Я же не декседрин у тебя прошу, — сказал Энди. — Вообще-то если б я хотел, его я бы и в школе мог достать.
— Тео, — сказала миссис Барбур. Я заметил, что в дверях возникла кухарка Этта. — Так что насчет яичницы?
— А нас никто никогда не спрашивает, что мы хотим на завтрак! — сказала Китси, но хоть она и произнесла это очень громко, все притворились, будто ничего не слышали.
11
Как-то воскресным утром я выкарабкался на свет из чугунного, запутанного сна, от которого у меня остался только звон в ушах и боль по чему-то, ускользнувшему от меня, рухнувшему в пропасть — подальше от моего взгляда. Но каким-то образом посреди всех этих провалов, оборванных нитей, утерянных и невозвратных фрагментов вдруг проступила одна фраза, побежала по темноте, как бегущая строка — по низу телеэкрана: Хобарт и Блэквелл. Позвони в зеленый звонок.
Я лежал, уставившись в потолок, боясь даже пошевельнуться. Слова были четкими, хрусткими, будто кто-то вручил мне их пропечатанными на листке бумаги. И тут же самым удивительным образом вместе с ними всплыло и развернулось огромное поле позабытых воспоминаний, словно бумажные шарики из Чайнатауна — бросишь их в бокал с водой, а они там разбухают, раскрываются цветами.
Накаленный важностью миг вдруг перекрыло сомнением: настоящее ли это воспоминание, он правда мне это сказал или мне все приснилось? Незадолго до маминой гибели я проснулся в полном убеждении, что (несуществующая) учительница по имени миссис Мальт посыпала мне в еду толченого стекла, потому что я плохо себя вел — в мире сна к этому привела совершенно логичная цепочка событий, — и я еще минуты две-три лежал, охваченный вязкой тревогой, пока не проснулся окончательно.
— Энди? — позвал я, потом свесился вниз и посмотрел на нижний ярус — там никого не было.
Пару минут я еще потаращился в потолок, потом спустился вниз, вытащил кольцо из кармана школьного пиджака и поднес его к свету, чтобы прочесть надпись.
Потом быстро спрятал кольцо, оделся. Энди — как и прочие Барбуры — уже давно встал и завтракал, воскресный завтрак для них — целая история, я слышал их в столовой: мистер Барбур что-то вещает неразборчиво, он иногда любил поразглагольствовать. Помешкав в холле, я быстро пошел в другую сторону, в большую гостиную, и вытащил из шкафчика под телефоном «Белые страницы» в ажурной обложке.
Хобарт и Блэквелл. Вот они — явно какая-то контора, хотя в списке не был указан род занятий. Голова у меня слегка закружилась. Увидев эти имена напечатанными черным по белому, я ощутил странный трепет, будто сошелся невидимый пасьянс.
Они находились в Виллидж, на Десятой Западной улице. Поколебавшись и страшно волнуясь, я набрал их номер.
Пока телефон звонил, я водил пальцем по латунным каретным часам, которые стояли на столе, разглядывал висевшие над телефонным столиком эстампы в рамочках с изображениями водоплавающих птиц: обыкновенная глупая крачка, таунсендов буревестник, ястреб-рыболов, черный водяной пастушок. Я не очень понимал, как я буду объяснять, кто я такой, или как узнаю, что мне нужно.
— Тео?
Я виновато вздрогнул. Миссис Барбур, в паутинно-сером кашемире вошла в комнату с чашкой кофе в руках.
— Ты что делаешь?
На другом конце провода телефон все звенел.
— Ничего, — сказал я.
— Ну тогда поторопись. Завтрак сейчас остынет. Этта приготовила французские тосты.
— Спасибо, — сказал я. — Я сейчас.
И тут прорезался механический голос телефонной компании и посоветовал мне перезвонить позже.
В задумчивости — я надеялся, что там хоть автоответчик сработает — я вернулся к Барбурам и с удивлением увидел, что на моем обычном месте сидит не кто иной, как Платт Барбур (у которого с нашей последней встречи рожа стала еще краснее, а плечи — шире).
— А! — воскликнул мистер Барбур, оборвав сам себя на полуслове — вскочил, промакивая губы салфеткой. — Вот и мы, вот и мы. Доброе утро. Платта ты помнишь, верно? Платт, это Теодор Декер — друг Энди, помнишь?
Болтая, он отбежал за еще одним стулом для меня и неловко притиснул его к углу стола.
Когда я уселся на задворках стола — сантиметров на десять ниже всех остальных, на шатком бамбуковом стуле, который не сочетался с остальными, — Платт глянул на меня безо всякого интереса и отвернулся. Он приехал домой из школы на какую-то вечеринку и был, похоже, с похмелья.
Мистер Барбур уселся обратно и вернулся к своей любимой теме: хождение под парусом.
— Как я и говорил, все сводится к простой неуверенности в себе. Ты просто неуверенно держишься на килевой яхте, Энди, — сказал он, — а тому, черт подери, нет никаких причин, разве что тебе не хватает опыта управлять яхтой в одиночку.
— Нет, — ответил Энди своим далеким голосом, — по сути своей проблема заключается в том, что я ненавижу яхты.
— Чушь собачья, — сказал мистер Барбур, подмигивая мне так, будто я словил его шутку (ничего подобного). — Нет, меня не проведешь кислой миной! Только взгляни вон на то фото на стене! Два года назад на Санибеле море, солнце и звезды вовсе не казались одному мальчику скучными, нет, сэр!
Энди разглядывал заснеженный пейзаж на бутылке с кленовым сиропом, пока его отец — в своей мутноватой, беспорядочной манере — соловьем разливался про то, что, мол, хождение под парусом укрепляет у мальчишек силу воли, развивает реакцию и силу духа, как у мореходов в давние времена. Энди мне рассказывал, что еще пару лет назад он переносил все лучше, потому что можно было сидеть в каюте, читать и играть в карты с младшими братом и сестрой.
Но сейчас он уже подрос настолько, чтобы помогать команде, а это значило, что он должен был целыми днями — долгими, напряженными, слепящими — батрачить на палубе в компании гнобившего его Платта: и вот он, совсем потерявшись, подныривает под рангоутом, старается не запутаться ногами в витках каната и не свалиться за борт, а отец громким голосом отдает команды и наслаждается солеными брызгами.
— Черт, да ты помнишь, какой там был свет, на Санибеле? — отец Энди откинулся на спинку стула, закатил глаза к потолку. — Восхитительный, ну скажи? Закаты какие — красные, оранжевые! Как пламя, как угли, прямо космос какой-то. Чистейший огонь просто рвется, льется с неба. А помнишь, какая была жирная, смачная луна сразу за Гаттерасом — и еще с голубой дымкой вокруг, прямо Максфилд Пэрриш или нет, Саманта?
— Ты о чем?
— Ну, Максфилд Пэрриш его зовут? Художника, который мне нравится? Такие он рисует широченные небеса, — он раскидывает руки, — и облака там громоздятся! Прости, Тео, не хотел дать тебе по носу.
— Облака у Констебля.
— Нет, нет, это не тот, я про другого художника, куда сильнее. В общем, право слово, какое ж было небо над водой в тот вечер. Колдовское. Будто над Аркадией.
— Это ты про какой вечер?
— Только не говори, что не помнишь! Это ж была кульминация всей поездки!
Платт, развалившись на стуле, злобно сказал:
— Для Энди кульминацией всей поездки было, когда мы тогда в закусочной пообедали.
Энди тоненько сказал:
— Мама тоже не слишком любит ходить под парусом.
— Не вдохновляет, нет, — сказала миссис Барбур, потянувшись за клубникой. — Тео, право же, мне очень хочется, чтобы ты хоть чуточку поел. Нельзя так морить себя голодом. Ты уже осунулся.
Хоть мистер Барбур и объяснил мне тогда по-быстрому у себя в кабинете таблицу флагов, меня разговоры о хождении под парусом тоже не слишком занимали.
— А ведь какой самый большой в жизни подарок мне сделал отец? — очень серьезно спрашивал мистер Барбур. — Море. Любовь к морю — само чувство моря. Папа подарил мне океан. И какая будет трагедия, Энди… Энди, смотри на меня, я с тобой разговариваю — как ужасно много ты потеряешь, если решишь отринуть то, что дало мне мою свободу, мое…
— Я пытался все это полюбить. У меня к этому врожденная неприязнь.
— Неприязнь? — потрясение, ступор. — Неприязнь к чему? К ветру и звездам? К небу и солнцу? К воле?
— Когда все это привязано к парусному спорту, то да.
— Ну-у, — он обвел всех умоляющим взглядом — меня тоже, — вот сейчас он уже упрямится. Море, — повернулся он к Энди, — хочешь отрицай, хочешь нет — принадлежит тебе с рождения, оно у тебя в крови, это идет еще от финикийцев, от древних греков…
Но едва мистер Барбур завел про Магеллана, навигацию по небесным светилам и «Билли Бадда» («Видал я, как Таффи Валлиец утоп, / Румяный такой, а мне сделают гроб…»[21]), мои мысли тут же унеслись к «Хобарту и Блэквеллу»: я раздумывал, кто же такой Хобарт и кто такой Блэквелл, и чем же они все-таки занимаются. Судить по фамилиям — так двое замшелых стариков-законников, а то и фокусники — такие вот партнеры по бизнесу, шаркают себе по сцене при свете свечей.
А вот то, что телефон у них работал, обнадеживало. У нас дома, например, линию отсоединили. Как только я сумел, не нарушив приличий, улизнуть из столовой и от нетронутой тарелки с завтраком, тут же вернулся в большую гостиную, где Иренка порхала с пылесосом и протирала всякие безделушки, а Китси сидела за компьютером в другом углу и старательно меня не замечала.
— Кому звонишь? — спросил Энди, который — совершенно в духе своей семейки — подошел ко мне сзади так тихо, что я не слышал.
Можно было, конечно, и не рассказывать, но я знал, что Энди точно будет держать рот на замке. Энди никогда ни с кем не разговаривал, и уж тем более с родителями.
— Тут одни люди… — прошептал я, отойдя немного в сторону, так чтобы из коридора меня не было видно. — Короче, бред полный. Но помнишь то мое кольцо?
Я рассказал про старика и думал, как бы получше объяснить про девчонку тоже, про связь, которую ощутил с ней, и про то, как сильно мне хотелось ее снова увидеть. Но Энди, чего и стоило ожидать, уже просчитал все наперед: перескочил через личные причины и сразу перешел к сути.
Он глянул на раскрытые «Белые страницы» на телефонном столике.
— Они тут живут?
— На Западной Десятой.
Энди чихнул, высморкался — весенняя аллергия его не щадила.
— Не можешь дозвониться, — сказал он, складывая платок и засовывая его в карман, — так чего б тебе туда не поехать?
— Думаешь? — спросил я. Как-то тупо было заявиться вот так, без звонка. — Правда?
— Ну, я бы так сделал.
— Ну, даже не знаю, — сказал я. — Может, они меня не помнят вообще.
— Увидят — так точно скорее вспомнят, — логично предположил Энди. — А так, позвонить-то и притвориться кем угодно любой псих может. Не бойся, — добавил он, оглянувшись, — если сам не попросишь, я никому не скажу.
— Псих? — переспросил я. — Кем притвориться?
— Ну, короче, сюда вот, например, куча чудиков звонит, тебя спрашивают, — ровно пояснил Энди.
Я замолчал, не очень понятно было — как это все переварить.
— И потом, а что тебе еще делать, если они там трубку не берут? И если сейчас не съездишь, то ждать до следующих выходных. Ну и потом, ты вряд ли захочешь спросить… — он выглянул в коридор, где Тодди вовсю прыгал в каких-то специальных кроссовках на пружинках, а миссис Барбур допрашивала Платта, что там за вечеринка была у Молли Уолтербек.
Он был прав.
— Точно, — сказал я.
Энди поправил очки.
— Хочешь, я с тобой съезжу?
— Не, не надо, нормально все, — ответил я.
Я знал, что у Энди на сегодня запланировано «Погружение в мир Японии»: за дополнительную оценку нужно было сначала сходить на семинар в чайный дом «Торая», а потом — в Линкольн-центр, на нового Миядзаки. Не то чтоб Энди нужны были дополнительные оценки, но, кроме этих экскурсий, другой социальной жизни у него не было.
— Ну ладно тогда, — сказал он и вытащил из кармана свой мобильник. — Возьми вот. На всякий случай. Та-ак, — он потыкал пальцем в экран, — вот, я снял блокировку паролем. Можешь пользоваться.
— Да мне не надо, — сказал я, глядя на тоненький телефончик с заставкой из аниме «Аки-виртуалка» (с голой Аки, в порнушных сапогах-чулках).
— Вдруг пригодится. Кто его знает. Давай, — настаивал он. — Бери уже.
12
Вот так и вышло, что где-то в полдвенадцатого я уже ехал на автобусе от Пятой авеню до Виллидж, а в кармане у меня лежал адрес «Хобарта и Блэквелла», записанный на страничке с монограммой, выдранной из блокнота, который миссис Барбур держала возле телефона.
Я сошел на Вашингтон-сквер и еще минут сорок пять искал нужный дом. В Виллидже, с его хаотичной застройкой, заблудиться было легче легкого, и мне пришлось три раза останавливаться и спрашивать дорогу: сначала в газетном киоске с кучей кальянов и порножурналов для геев, потом — в переполненной булочной, где грохотала оперная музыка, и еще потом — у девушки в белой майке и комбинезоне, которая стояла на улице с ведром и резиновым валиком и мыла окна книжного.
Наконец я отыскал совершенно пустынную Западную Десятую и пошел по ней, считая номера домов. Дошел до жилого квартала — довольно обшарпанного. Передо мной по мокрому тротуару вышагивала стайка голубей — трое в ряд, будто крохотные надутые пешеходики. Не все номера были четко видны, но только я начал волноваться, что прошел мимо и, наверное, надо бы вернуться, как увидел вывеску «Хобарт и Блэквелл» — аккуратные старомодные буквы выписаны дугой над оконной витриной.
Сквозь пыльное стекло виднелись стаффордширские керамические собачки и майоликовые кошечки, пыльный хрусталь, антикварные стулья и обитые пожухлой старой парчой кушетки, вычурная фаянсовая птичья клетка, миниатюрные мраморные обелиски на круглом столике с мраморной столешницей и парочка алебастровых какаду. Вот такой магазин — забитый доверху, слегка неряшливый, со стопками книг на полу — очень бы понравился маме. Но ставни на двери были опущены: закрыто.
Магазины тут по большей части открывались часов в двенадцать — или даже в час. Чтобы убить время, я прошелся до Гринич-стрит, до ресторана «Слон и замок», где мы с мамой иногда обедали, когда бывали тут. Правда, едва я туда зашел, как понял, что делать этого не стоило. Разномастные фарфоровые слоники, ко мне с улыбкой идет официантка в черной футболке, со стянутыми в хвост волосами — нет, это было слишком: я увидел столик в углу, где сидели мы с мамой, когда были тут в последний раз, промямлил какие-то извинения и выскочил на улицу.
Я стоял на тротуаре, и сердце у меня колотилось. По закопченному небу низко летели голуби. На Гринич-авеню почти никого не было: парочка заспанных мужчин, которые, похоже, всю ночь выясняли отношения, взъерошенная женщина в парусящей водолазке прошла в направлении Шестой авеню с таксой на поводке. Чудно было, что я в Виллидже, да еще сам по себе, по выходным утром детей тут особо не видно — место казалось взрослым, рафинированным, перегарным. Все выглядели так, как будто они или с похмелья, или только что выползли из постели.
Почти все кругом было закрыто, я растерялся, не знал, что и делать, и потому побрел обратно в сторону «Хобарта и Блэквелла». Мне, жителю Северного Манхэттена, здесь все казалось таким дряхлым, крошечным: по стенам домов всползают плющ и вьюнок, в кадках на улицах растут зелень и помидоры. Даже вывески баров намалеваны вручную, как на сельских пивнушках: лошади и коты, петухи, гуси, свиньи. Но от их малости, интимности я чувствовал себя здесь изгоем и с опущенной головой шагал мимо манящих крохотных дверок, остро ощущая, как за ними, втайне от меня, набирает обороты развеселая воскресная жизнь.
Ставни у «Хобарта и Блэквелла» были по-прежнему опущены. Ощущение было такое, что магазин закрыт уже не первый день — слишком там было промозгло, слишком темно, и по сравнению с другими заведениями на улице обстановка в магазине казалась неживой.
Я глядел в окно и думал, что же делать дальше, как вдруг внезапно заметил движение — объемная тень скользнула в дальнем углу магазина. Я вздрогнул, закаменел. Тень двигалась легонько, так, верно, ходят призраки, не глядя по сторонам, быстро метнувшись в темноту возле двери.
Тень исчезла. Я прижал ко лбу ладонь козырьком и принялся вглядываться в мутные, набитые битком глубины магазина, потом постучал по стеклу.
Хобарт и Блэквелл. Позвони в зеленый звонок.
Звонок? Не было тут никакого звонка, только железная калитка перед входом. Я прошелся до следующей двери — до скромного жилого дома за номером 12, затем в другую сторону — дом из бурого песчаника, номер 8.
Здесь ко входу спускались вниз ступеньки, и тут я кое-что наконец заметил: между 8-м и 10-м домом втиснута узенькая дверца, которой и не углядишь сразу за рядами старомодных мусорных баков. Четыре или пять ступенек вниз — и оказываешься перед безликой дверью, где-то на метр ниже тротуара. Никакой вывески, никаких табличек, но в глаза мне сразу бросилось пятно теплого зеленого цвета: под кнопкой в стене прилеплен хвостик зеленой изоленты.
Я спустился вниз, позвонил в звонок, позвонил снова, морщась от его истерических взвизгов (так и подмывало сбежать) и хватая ртом воздух для храбрости. И вдруг — так внезапно, что я отшатнулся — дверь открылась, и передо мной возник огромный человек самой неожиданной наружности.
Росту в нем было как минимум метр девяносто, а то и все два: осанистый, с осунувшимся лицом и рельефной челюстью — было в нем что-то от старых снимков ирландских поэтов и боксеров-тяжеловесов, которые висели в любимом пабе моего отца.
Он был почти весь седой, да и подстричься бы ему не помешало, кожа — нездорово-белая, а под глазами — такие яркие багровые синяки, что казалось, будто у него нос сломан. Поверх одежды он был внушительно задрапирован в роскошный халат с узором из «индийских огурцов» и атласными отворотами, который доходил ему почти до самых пяток: поношенная, но впечатляющая вещь, точь-в-точь будто из гардероба какой-нибудь кинозвезды тридцатых годов.
Я так удивился, что и слова не мог вымолвить. В его манерах не чувствовалось никакого нетерпения, совсем напротив. Он бесстрастно глядел на меня из-под своих багровых век и ждал, пока я заговорю.
— Простите, — я сглотнул, в горле пересохло. — Не хотел вас беспокоить…
Наступила тишина, он моргнул, кротко так, словно, конечно же, прекрасно все понимал и ничего такого даже и не подумал.
Я порылся в кармане, протянул ему кольцо на раскрытой ладони. Его крупное, бледное лицо опало. Он глянул на кольцо, потом на меня.
— Откуда оно у тебя? — спросил он.
— Он мне его дал, — ответил я. — Сказал принести сюда.
Он в упор глядел на меня. На секунду мне показалось даже, будто он вот-вот скажет, что и понятия не имеет, про что это я вообще. Но он, не говоря ни слова, отступил назад и распахнул дверь.
— Я Хоби, — сказал он, когда я замешкался на пороге. — Заходи.
Глава четвертая
Леденец с морфином
1
Буйство позолоты косыми лучами отражается от опушенных пылью окон: золоченые купидоны и золоченые комоды с лампами, запах старого дерева еле пробивается из-под едкой вони скипидара, масляной краски и лака. Я прошел за ним в мастерскую по протоптанной среди опилок дорожке, мимо панели для крепления инструментов и самих инструментов, мимо расчлененных стульев и перевернутых столиков, выставивших в воздух когтистые ножки. Человек он был огромный, а двигался грациозно, «фланер», сказала бы про него мама, — так легко и плавно нес он свое тело. Уперев взгляд в задники его домашних туфель, я спустился вслед за ним по узкой лестнице и оказался в устланной коврами полутемной комнате, где на пьедесталах стояли черные вазы-урны, а наглухо задернутые портьеры с кистями не пропускали солнечного света.
От этой тишины внутри у меня все захолодело. Мертвые цветы догнивали в массивных китайских вазах, комнату сдавливало затхлой тяжестью: воздух такой спертый, что и не продохнуть, вот так же удушливо было и у меня дома, когда мы как-то раз заходили с миссис Барбур на Саттон-плейс, чтобы я мог забрать кое-какие вещи. Мне было знакомо это оцепенение: так уходит в себя дом, когда кто-то умирает.
Тотчас же я пожалел, что пришел. Но этот Хоби, казалось, сразу почувствовал мои сомнения, потому что вдруг обернулся ко мне. Он был уже немолод, но в лице его еще было что-то мальчишеское, по-детски голубые глаза были ясными, любопытными.
— Что такое? — спросил он, а потом прибавил: — Все хорошо?
От его участливости я совсем смутился. Я мялся посреди затхлой, забитой старинной мебелью комнаты и не знал, что сказать.
Похоже, и он тоже не знал, что сказать, он открыл было рот, закрыл рот, потом помотал головой, будто желая, чтобы в ней прояснилось. На вид ему было лет пятьдесят, может, шестьдесят, лицо у него было неряшливо выбритое, застенчивое, приятное такое лицо с крупными чертами, не то чтобы красивое, но и невзрачным не назовешь — такой человек в любой компании будет нависать надо всеми, хоть и была в нем какая-то вязкая, еле уловимая нездоровость: его темные круги вокруг глаз и бледность напомнили мне о Канадских мучениках, чьи изображения я видел на церковных фресках во время поездки с классом в Монреаль — крупные, смышленые, мертвенно-бледные европейцы, которых гуроны связали и посадили на кол.
— Ты уж извини, я тут вообще-то… — он заозирался по сторонам с рассеянной, расфокусированной напряженностью, как мама, бывало, когда не могла чего-нибудь отыскать. Голос у него был грубый, но выговор — правильный, как у моего учителя истории мистера О’Ши, который вырос в бандитском районе Бостона, а потом доучился до Гарварда.
— Может, я в другой раз зайду? Если сейчас неудобно.
Тут он глянул на меня с легкой тревогой.
— Нет, нет, — сказал он, запонок на нем не было, замусоленные рукава болтались вокруг запястий, — погоди минутку, я соберусь, ох, прости — сюда, — рассеянно добавил он, отбросив с лица седую прядь, — давай-ка сюда.
Он подвел меня к узкой, жесткой на вид софе со скругленными подлокотниками и резной спинкой. Но она была завалена подушками и пледами, и только тут мы оба, похоже, заметили, что из-за смятой постели сюда не усядешься.
— Ой, прости… — пробормотал он, отступив назад, так что я чуть в него не врезался. — Я тут, как видишь, разбил лагерь, условия тут, конечно, не самые идеальные, но что поделаешь, иначе толком ничего не слышно, из-за всего…
Конец фразы я не расслышал — он отвернулся, обогнул лежавшую на ковре переплетом кверху книгу и чашку с коричневым кружком от чая внутри и усадил меня в богатое набивное кресло, пухлое, оборчатое, со свисавшей бахромой и сложного вида сиденьем в пуговку — потом я узнал, что такие кресла называются турецкими, а он — один из немногих людей в Нью-Йорке, которые умеют их набивать.
Бронза с крылышками, серебряные побрякушки. Пыльное серое страусиное перо в серебряной вазе. Я неловко примостился на краешке кресла и огляделся по сторонам. Я бы предпочел постоять, так уйти проще.
Он наклонился, зажал руки между коленей. Но вместо того, чтобы сказать что-то, просто глядел на меня и ждал.
— Меня Тео зовут, — наконец выпалил я после долгого молчания. Лицо у меня горело так, что казалось, вот-вот вспыхнет. — Теодор Декер. Все меня зовут Тео. Я живу на севере, — неуверенно прибавил я.
— Ну, а меня зовут Джеймсом Хобартом, но все меня называют Хоби. — Взгляд у него был грустный, кроткий. — Я живу на юге.
Я растерялся, отвернулся, не понимая, смеется ли он надо мной.
— Извини. — Он на секунду прикрыл глаза, открыл их снова. — Не обращай внимания. Велти, — он глянул на кольцо, которое он держал, — был моим деловым партнером.
Был? Астрономические часы — жужжащие, шестеренчатые, с цепями и гирьками, штуковина в духе капитана Немо — громко всхрапнули в тишине, перед тем как отбить четверть часа.
— А… — сказал я. — Я просто. Я думал…
— Сожалею, но нет. А ты не знал? — спросил он, пристально взглянув на меня.
Я отвел взгляд. Я и не понимал, как мне хотелось, чтоб старик выжил. Несмотря на то что я видел — и что знал, — я как-то ухитрился выпестовать в себе ребяческую надежду на то, что он чудесным образом спасся, будто жертва убийства по телику, которая после рекламной паузы оказывается живехонька и идет себе на поправку в больнице.
— А это у тебя как оказалось?
— Что? — вздрогнул я.
Часы, я заметил, шли неправильно: десять вечера или десять утра, далеко до реального времени.
— Он тебе его дал, ты сказал?
Я неловко заерзал.
— Да, я… — чувство ужаса от его смерти было свежим, словно бы я подвел его во второй раз и теперь все происходило снова и снова, только я смотрел с другого ракурса.
— Он был в сознании? Он с тобой говорил?
— Да, — начал я и снова смолк. Чувствовал я себя очень жалким. Я сидел в стариковом мире, окруженный его вещами, и от этого он вновь резко ожил во мне: от сонной будто ушедшей под воду комнаты, от ее шуршащего бархата, от ее роскоши и тишины.
— Хорошо, что он был не один, — сказал Хоби. — Он бы этого не хотел.
Он зажал кольцо в руке, поднес кулак ко рту и поглядел на меня.
— Господи. Да ты ведь совсем малыш, — сказал он.
Я натянуто улыбнулся, не зная, какой реакции он ждет.
— Прости, — сказал он чуть более деловито, чтобы, как я понял, меня приободрить. — Просто… я знаю, как ужасно все было. Я видел. Его тело, — он, казалось, с трудом подбирал слова, — перед тем как туда приезжаешь, их подчищают, как могут, и говорят, что зрелище не из приятных, да это и без того ясно, но… вот. Нельзя никак к такому подготовиться. Пару лет назад к нам в магазин попала подборка фотографий Мэтью Брэди — снимки времен Гражданской войны, настолько неприглядные, что продать их было нелегко.
Я промолчал. Обычно я во взрослых беседах не участвовал, разве что, если прижмут, скажу там «да» или «нет», но тут меня заколотило. Мамино тело опознавал ее друг Марк, который работал врачом, и со мной про это никто особо не разговаривал.
— Помню, читал я как-то рассказ про солдата — при Шайло это, что ли, было? — он обращался ко мне, но видел не только меня. — Или при Геттисберге? Про солдата, который от ужаса так обезумел, что принялся хоронить на поле боя птиц и белок. Всякую такую мелочь, маленьких животных, тоже ведь сотнями убивало под перекрестным огнем. Множество крохотных могилок.
— При Шайло за два дня погибло двадцать четыре тысячи человек, — вырвалось у меня.
Он с тревогой вскинул на меня глаза.
— А при Геттисберге пятьдесят тысяч. Все из-за нового оружия. Из-за пуль Минье и магазинных винтовок. Поэтому такие огромные потери. Мы в Америке вели войну в окопах еще до Первой мировой. Многие об этом вообще не знают.
Было заметно, что он вообще не знает, как на это отвечать.
— Интересуешься Гражданской войной? — спросил он после тщательной паузы.
— Ну… да, — резко ответил я. — Типа того.
Я много знал о легкой артиллерии Федеральной армии, потому что на эту тему писал реферат и так набил его терминами и фактами, что учитель велел мне его переписать, и про снимки убитых солдат, которые Мэтью Брэди сделал при Антиетаме, я знал тоже: видел их в интернете, фотографии мальчиков с глазами-пуговками и запекшейся у носа и рта кровью.
— Мы в школе на теме про Линкольна полтора месяца сидели.
— У Брэди была фотостудия тут неподалеку. Не видел?
— Нет, — во мне засела какая-то мысль — вот-вот вырвется, что-то важное и невыразимое, встрепенувшееся при воспоминании о пустых лицах тех солдат. Нет, исчезла, только образ остался: мертвые мальчишки раскинули руки и ноги, уставились в небо.
Опять наступило молчание — мучительное. Никто из нас, похоже, не знал, что говорить дальше. Наконец Хоби переложил ногу на ногу.
— То есть хочу сказать… извини. Прости, что спрашиваю, — сказал он, запинаясь.
Я заелозил в кресле. Я сюда ехал с таким огромным любопытством, что как-то и не подумал о том, что еще и придется отвечать на вопросы.
— Знаю, трудно об этом говорить, наверное… Просто. Я и не думал…
Мои ботинки. Интересно, как же это я раньше никогда толком не смотрел на свои ботинки. Оббитые носы. Разлохматившиеся шнурки. «Пойдем в субботу в „Блумингдейл“ и купим тебе новые». Так и не купили.
— Не хочу тебя мучить. Но… он был в сознании?
— Да. Типа того. Ну, то есть… — Я заметил, какое встревоженное, напряженное у него стало лицо, и какая-то глубинная часть меня рванулась было к нему со всеми этими подробностями, которых он не знал и которых ему и знать не надо было, с распластанными внутренностями, с безобразными образами, которые то и дело вспыхивали у меня в голове, даже когда я не спал.
Тусклые портреты, фарфоровые спаниели на каминной полке, тик-так, тик-так, качается золотой маятник.
— Я услышал, как он зовет, — я потер глаз. — Когда очнулся.
Будто сон пытаешься рассказать. Невозможно.
— И я к нему подошел, и посидел с ним, и… все было не так уж плохо. Ну, не так, то есть, как можно подумать, — прибавил я, потому что вранье вышло уж очень заметным.
— Он с тобой говорил?
Я с трудом сглотнул и кивнул. Темная мебель красного дерева, пальмы в кадках.
— Он был в сознании?
Я снова кивнул. Во рту дурной привкус. Такое нельзя было сформулировать, у этого всего не было смысла, не было истории — у пыли, у сирен, у того, как он держал меня за руку, у целой жизни, где были только мы вдвоем — с мешаниной фраз, названиями городов и именами, которых я раньше не слышал. С искрами от разорванных проводов.
Он все не сводил с меня глаз. В горле у меня пересохло и меня подташнивало. Один миг не перетекал в другой как положено, и я все ждал, что он еще что-то спросит, про что угодно, а он не спрашивал.
Наконец он помотал головой, будто мысли прояснить.
— Это…
Казалось, он смущен не меньше моего, с этим его халатом и всклокоченными седыми волосами он был похож на короля без короны на детском карнавале.
— Извини, — сказал он, снова замотав головой, — мне это все в новинку.
— Простите?
— Видишь ли, просто все… — он склонился ко мне, заморгал — быстро, взволнованно, — это все так отличается от того, что мне сказали, понимаешь. Сказали, что он умер мгновенно. Очень, очень это подчеркивали.
— Но… — я с изумлением на него уставился. Он что, думал, я все выдумываю?
— Нет, нет, — заторопился он, выставив вперед руки, чтоб меня успокоить. — Просто… думаю, они это всем говорят. «Умер мгновенно», — угрюмо уточнил он, потому что я все еще таращился на него. — «Боли и не почувствовал». «Даже не понял, что случилось».
И тут — разом — до меня дошло, скользнуло по мне холодом понимание того, что это могло значить. Мама тоже «умерла мгновенно». Она «боли и не почувствовала». Соцработники так долго это повторяли на все лады, что я и не задумался ни разу о том, а с чего это они так в этом уверены.
— Хотя, вынужден признать, трудно было представить, что он умер вот так, — в резко наступившей тишине произнес Хоби. — Вспышка света. Упал, ничего не поняв. Я вроде даже чувствовал иногда, что все было не так, как мне сказали, понимаешь?
— Что, извините? — я взглянул на него — голова у меня шла кругом от жуткой новой мысли, на которую я натолкнулся.
— Проститься у врат, — сказал Хоби. Казалось, будто отчасти он сам себе это говорит. — Вот чего бы ему хотелось. Прощальный взгляд, предсмертное хокку — он не хотел бы уйти без того, чтоб задержаться на минутку и поговорить с кем-нибудь напоследок. «Выпью ли чаю в белых вишни цветах на пути последнем».
Я совсем ничего не понял. Одинокий луч солнца прорвался сквозь занавеси и пронзил полутемную комнату, угодив в поднос с хрустальными декантерами, где он запылал и рассыпался призмами, которые заискрили, замельтешили туда-сюда, заколыхались высоко на стенах, будто инфузории-туфельки под микроскопом. Сильно пахло древесным дымом, но камин был черным, остывшим, решетка забита золой, как будто его уже долго не зажигали.
— Девочка, — робко сказал я.
Он снова посмотрел на меня.
— Там еще была девочка.
Поначалу он вроде как ничего не понял. Потом распрямился в кресле и заморгал так быстро, словно ему в лицо плеснули водой.
— Что? — спросил я, вздрогнув. — Где она? С ней все нормально?
— Нет, — он потер переносицу, — нет.