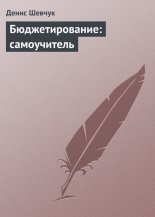Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни Млодинов Леонард

Однозарядный. Я тоже хмыкнул в ответ, вынужденно, а сам при этом подумал: «Прямо как я». Если не считать того, что чудовищной ошибки дать мне постоянное профессорство никто не совершил. Через несколько лет я буду совершенно пропащий, думал я, и тогда придется заняться унылым делом, как мой сосед – оборонной промышленностью. Я, правда, не представлял, как буду разрабатывать ракеты: во всяком случае, не имея право решать, на кого их нацеливать.
Голова у меня по-прежнему болела, и я отправился к профессорской секретарше Хелен за добавкой аспирина. Ее кабинет, тоже по соседству, но с другого бока, размещался между кабинетами Марри и Фейнмана столько же лет, сколько здесь обитали титаны. Приближаясь к ее кабинету, я расслышал, как она говорит кому-то:
– Ну вы и устроили этому операционисту.
Голос Марри ответил:
– Ой, вы слышали, да?
Голос Хелен:
– Как тут не услышать.
Марри вышел из ее кабинета. Кивнул. Я кивнул. Зашел к Хелен.
– У вас голова болит? – уточнила она, когда я попросил об аспирине. – Неудивительно.
Я глянул на нее вопросительно: в каком смысле?
– Не обижайтесь, но вы последнее время выглядите не очень-то счастливым.
– О, я просто… мучаюсь, чем дальше заниматься.
– Ну, я в физике ничего не смыслю, но, по-моему, это у всех тут бывает. Во всяком случае, у тех, кто еще не сдался.
Я возразил:
– У Фейнмана, небось, не бывает.
– У профессора Фейнмана? Да ну что вы, он подолгу бывал на мели. Все это знают – здесь-то уж точно. Но он всегда возвращается в форму. Уверена, и вы тоже сможете.
Она выдала мне лекарство. И добавила:
– А если нет, найдете себе еще, чем заняться в жизни. Вы пока молоды.
VIII
За годы работы в физике Фейнман решил несколько труднейших задач послевоенной эпохи. В промежутках между ними, как я сам убедился, действительно случались протяженные периоды бездействия. И, конечно же, он всегда возвращался в форму. Но тогда как Марри занимался почти исключительно физикой элементарных частиц, Фейнман внес важный вклад во многие области знания – физику низких температур, оптику, электродинамику. У него словно был дар отыскивать правильные задачи – и вовремя. Я терялся в догадках: каков его подход? К чему нужно большее дарования: к выбору правильной задачи или к ее решению? А если выбрал задачу, что требуется для ее решения?
Когда вы явились ко мне впервые и предложили обсудить мой подход к задачам, я запаниковал. Потому что я на самом деле не знаю. Это как спрашивать сороконожки, с какой ноги она ходит. Пришлось задуматься, оглянуться на пройденное и перебрать кое-какие задачки.
В некоторых случаях нахождение задачи для работы – результат очень хорошего творческого воображения. А решение может и близко этого навыка не потребовать. Но есть в математике и физике задачи, с которыми все наоборот. Они, эти задачи, будто очевидны, а вот решение – трудно. Трудно не заметить проблему, ко существующие техники и методики, а также объем известной информации – немногочисленны. И вот тогда решение – в изобретательности.
Очень хороший пример – теория относительности и тяготения Эйнштейна, общая теория относительности. С теорией относительности было ясно: требуется как-то объединить специальную теорию относительности, постоянную скорость света – c – явлением тяготения. Потому что так не пойдет – чтоб существовала и Ньютонова гравитация с бесконечными скоростями, и теория относительности, ограничивающая скорость. Вот и придется, значит, как-то видоизменить теорию тяготения.
Чтобы впихнуть гравитацию в теорию относительности, ее нужно было так или иначе приспособить – чтобы свет двигался с определенной скоростью. Не разгуляешься с такими вводными, в общем. Но как же этого добиться? Вот в чем штука!
Необходимость этого действия была Эйнштейну очевидна. Всем остальным – нет, потому что и специальная теория относительности пока не казалась очевидной. Но Эйнштейн уже пошел дальше. Он увидел эту следующую задачу. Она-то была очевидна – в отличие от ее решения, и оно потребовало предельного воображения. Ему предстояло выработать принципы! Он применил факт отсутствия веса у падающих предметов. И вот на это потребовалось все мыслимое воображение.
Ну или возьмем задачу, над которой я сейчас работаю. Для всех она совершенно очевидна. Вот есть у нас математическая теория под названием «квантовая хромодинамика», от которой ждут объяснения свойств протонов, нейтронов и всего остального.
В прошлом, чтобы проверить правильность теории, нужно было просто взять ее, глянуть, что получается в теории, и сверить с экспериментом. Тут все эксперименты уже проделаны. Нам известна прорва всяких свойств протонов. Ну нас есть теория. Трудность же заключается в том, что теория – новая, и мы не знаем, как вычислять ее следствия, потому что нам не хватает математических мощностей.
Надо изобрести способ. И как же это сделать? Придется создать или придумать его. Я не знаю, как. Вот пример очевидной задачи и трудного решения.
Чтобы найти эту теорию, понадобилось сложить много кусочков воображения: люди примечали закономерности и постепенно открывали разное, вплоть до кварков, а потом попытались нащупать простейшую теорию. У этой конкретной задачи долгая история, словом. Мы долго к ней шли, а теперь нас ткнули в нее носом.
Ткнули носом. Интересное он выбрал выражение Фейнман признал, что и он, бывает, отчаивается и меня это утешило.
Вот работаю я над этой очень трудной задачей уже несколько лет. Первым делом я попробовал найти какой-нибудь математический способ решения – уравнениями какими-нибудь. Как я это сделал? Как начал понимать? Наверное, это определяется трудностью поставленной задачи. В данном случае я просто все перепробовал. На это ушло два года, я возился с такими методами и с сякими. Может, это я и делаю – применяю все, что могу, не получается, и я тогда двигаюсь дальше, пробую иначе. Но тут я понял, когда все попробовал, что не выйдет. Никакие мои уловки не срабатывали.
И тогда я подумал: ну, вот если пойму, как эта штука себя ведет, хоть примерно, мне это подскажет более-менее, какие математические приемы применить. И потратил много времени, думая, как оно работает, хоть примерно.
Тут еще и кое-какие психологические штуки есть. Перво-наперво в ранние годы я брался только за труднейшие задачи. Мне нравятся самые трудные задачи. Которые никто не решил, а значит, шансы на решение у меня не слишком велики. Но теперь-то я чувствую, что добился положения, постоянной ставки и могу, не беспокоясь, тратить время на долгие проекты. Уже нет необходимости напоминать себе, что через год мне защищаться. Я, может, физически так долго не протяну, правда, но это меня не тревожит.
Его болезнь всегда была с нами, в одном кабинете – ангел смерти терпеливо ждал, когда истечет время Фейнмана.
Другой психологический аспект: мне нужна уверенность, что я могу срезать путь к этой задаче. То есть у меня есть некий талант, который другие ребята не применяют, или особый взгляд на предмет, а они по глупости своей не знают, какой он чудесный. Мне нужно думать, что у меня почему-то возможностей чуть больше, чем у других. В глубине души я знаю, что, скорее всего, причина эта ложная и, вероятно, этот конкретный подход уже был продуман другими. Наплевать. Я себя заморочиваю, что у меня больше шансов. Что мне есть что добавить. А иначе проще тогда ждать, пока кто-нибудь еще это сделает, кто угодно.
Но подход мой в том, что я никогда не есть в точности как кто-то еще. Всегда считаю, что существует дорога короче, всегда стараюсь найти другой путь. Думаю, именно потому, что пробую другой путь, все и получается. У них никаких шансов. Я это преувеличиваю. И потом на такое раздувание работаю. Все время считаю, что это как у африканцев, когда они идут на бой, колотят в барабаны и заводят себя. Разговариваю с собой и убеждаю себя, что задача моими методами решаема, а остальные ребята делают неправильно. Они своего не добились, потому что делают неправильно. А я пойду другим путем. Я себя уговариваю и раскачиваю в себе энтузиазм.
Штука вот в чем: если есть трудная задача, приходится работать над ней долго и упорно. Чтобы упорствовать, необходима убежденность, что оно того стоит, – много трудиться, ^то куда-то это тебя приведет. А для этого приходится себя морочить.
Вот с этой последней задачей я себя и впрямь надурил. Ничего не добился. Не мог сказать, что подход у меня хорош. Воображение подводит. Качественно я понял, как оно работает, но количественно не могу. Когда эта задача полностью решится, это все будет мое воображение. И всякий шум о величии способа решения. Но в самом деле все просто: сплошь воображение – и упорство.
Люди, никогда не работавшие в физике, обычно говорят о ней в эпитетах «сухая», «строгая» и «точная». Настоящая физика так же далека от этого, как прикладная юриспруденция от теоретических дебатов в юридической школе или медицинская практика от теории физиологии и заболеваний. Юриспруденция, может, и состоит из определенных правил, но ее применение подвержено толкованиям, знание здесь неполно, учитываются практические обстоятельства и психология тех, кто выносит решение. Медицина может описать в деталях симптомы болезни, но мало кто из пациентов приходит в кабинет врача с цитатами из учебника, описывающими их хворь. Физика – еще и искусство. Мало какие подлинные физические задачи можно считать, говоря строго, решенными. Для физика решение задачи включает в себя оценку, какие именно стороны того или иного явления составляют его суть, а на какие можно не обращать внимания, в какой части следует держаться математических расчетов, а в какой – видоизменять их. К примеру, атом водорода состоит из электрона, обращающегося вокруг протона. Это единственная разновидность атома – из сотни с лишним других, – чье квантовое уравнение можно решить строго. А стоит произвести простейшую манипуляцию – поместить атом водорода в магнитное поле, как уравнения, скорректированные с учетом магнитного поля, решить уже нельзя.
Возьмем задачу определения количества света, излучаемого атомом водорода в магнитном поле. Придется упрощать. Начать можно вот с чего: решить, что магнитное поле в этой постановке задачи – ключевой фактор, и отбросить всю математику, связанную с протоном; или же принять, что именно эффект, производимый протоном, – ключевой, и отбросить описания магнитного поля. Или – как поступил я в своей докторской диссертации – переписать уравнения так, будто в мире существует бесчисленное множество измерений. Решение исследовательской задачи физики требует одного допущения за другим, приближения за приближением – и громадных рывков воображения, которые именуются оригинальным мышлением. Оно требует способности двигаться вперед, следовать за интуицией и принимать в себе неполноту понимания того, что ты вообще делаешь. А главное, оно подразумевает веру в себя.
Подход Фейнмана к решению задачи квантовой хромодинамики сводился к написанию теории в упрощенном виде, чтобы глянуть, какие свойства теории – допущение. Работа Фейнмана над этой задачей похожа на один из его знаменитейших ранних трудов – теории жидкого гелия. Задача состояла в том, чтобы теоретически объяснить некоторые довольно причудливые свойства этой жидкости. К примеру, она не закипала, а если налить ее в мензурку, она перебиралась через край и утекала, пока мензурка не опорожнялась совсем. Наглядевшись, как физики намучились с прямым решением этой задачи, Фейнман в своем типично вавилонском стиле решил, что лучший подход – «махать руками, применять аналогии с системами попроще, рисовать картинки и выдвигать правдоподобные догадки». В этом – визитная карточка Фейнмана: не мощная математика, а мощное воображение в сочетании с физическим пониманием. Он решил задачу гелия в серии знаменитых статей в середине 1950-х. И, конечно, уповал на повторение успеха.
Фейнман не дожил до устранения затруднений квантовой хромодинамики. И через двадцать с лишним лет после нашего тогдашнего разговора они по-прежнему есть. Ныне единственные новые результаты, вычисленные из теории, произошли не от более глубокого понимания или математического решения теории, но благодаря постоянному применению все более мощных компьютеров.
IX
Продолжая поиски задачи для работы, я раздумывал над тем, что Фейнман говорил о короткой дороге. В чем моя сила? Я всегда имел больше склонности к математике, чем мои однокашники. А еще я был мятежный тип – меня привлекало все, что против общепринятой истины. Большая часть ученых на нашем этаже занималась, как и Фейнман, поиском лучших методов решения задач квантовой хромодинамики. Это направление было связано в основном с обычной математикой и считалось одной из важнейших задач современности.
Но был один профессор, Джон Шварц, чьи исследования привлекали довольно экзотическую математику и шли совершенно вне основного русла.
В природе известны четыре взаимодействия – электромагнитное, гравитационное, сильное и субъядерное, или слабое. У физиков есть теории, описывающие эти взаимодействия: квантовая электрослабого взаимодействия, обобщение квантовой электродинамики, описывающее и электромагнетизм, и слабые взаимодействия; общая теория относительности, которая не квантовая, описывающая гравитацию; и квантовая хромодинамика, описывающая сильные взаимодействия. Верование, что все природные явления могут быть объяснены фундаментальными физическими законами, называется редукционизмом. Вера в редукционизм популярна в физике и пересекает «генеральную линию партии» и у греков фасона Марри, и у вавилонян типа Фейнмана. Это означает, что большинство физиков верит: все во Вселенной – от рождения ребенка до рождения галактики – происходит в результате одного или нескольких фундаментальных взаимодействий. Исходя из того, что большинство физиков придерживается этого взгляда, развитие теорий четырех взаимодействий – едва ли не самая важная задача, за какую может взяться физик-теоретик. Шварц работал над единой теорией, которая, окажись она верной, включит в себя (и видоизменит) все эти теории. Его новая теория одним махом перепишет их все, заменит на одну всеобъемлющую.
Учитывая, насколько разные эти четыре взаимодействия, единая теория, описывающая их все, может показаться большой натяжкой. К примеру, электромагнитная сила может притягивать или отталкивать, а гравитационная – только притягивать. Сильное взаимодействие на малых расстояниях ослабевает, тогда как гравитационное и электромагнитное усиливаются. А еще у этих взаимодействий невообразимая разница в величинах: сильное в сотни раз мощнее электромагнитного, в тысячи – слабого, в миллиарды миллиардов миллиардов – гравитационного. Эти четыре силы играют разные роли в нашей жизни и в бытовании Вселенной. Гравитация, конечно, удерживает нас на Земле и отвечает за приливы и отливы. Но самое значимое влияние заметно в масштабах космоса. Из-за гравитации возникают и вращаются вокруг своих звезд планеты, пылают ядерные горнила внутри этих звезд, дающие свет и тепло, от которых рождается жизнь. А задолго до существования планет именно гравитационное сжатие заставило звезды уплотниться. Электромагнитная сила важна для нас в основном на атомном уровне. Электромагнитные взаимодействия между атомами и молекулами, к примеру, делают предметы вокруг видимыми, позволяют кислороду связываться с красными кровяными тельцами и не дают руке провалиться сквозь стену, когда мы на эту стену опираемся. Именно эта сила придает материалам их основные свойства. И укрощению этой силы, в основном в XX веке, мы обязаны большинством удобств современного мира: от электрического света до телефонов, радио, телевидения и компьютеров. Два других взаимодействия, сильное и слабое, управляют пространством, существующим в масштабах много меньших, чем даже атомный мир электромагнетизма: внутри ядер. Слабые взаимодействия – это радиоактивный распад ядра, называемый бета-распадом. Сильные взаимодействия – это атомная энергия. Именно эта сила, выпущенная из ядер, по массе равных трети унции урана, уничтожила город Хиросиму.
Как можно описать эти четыре силы одной теорией? У истории есть на эту тему урок: в некотором смысле сил – пять, но мы говорим о четырех, потому что первое объединение сил случилось очень давно. Речь о теориях электричества и магнетизма, своего рода приквеле современного приключения. Сказка такова: давным-давно (в VI веке до н. э.), в тридевятом царстве (Древней Греции), мудрый философ по имени Фалес изучал простейшие электромагнитные явления: магнетизм и статическое электричество. С его дней и до XIX века люди узнавали об электричестве и магнетизме все больше, но у них не возникало подозрения, что это нечто иное, нежели два отдельных класса явлений. Тяготение, электричество и магнетизм являли собой три известных силы природы. Но вот в 1820 году несколько ученых в разных частях Европы обнаружили, что провода с электрическим током имеют таинственные магнитные свойства. А это уже серьезный намек на связь между электричеством и магнетизмом, но никто не понимал толком, какова она, эта связь. В следующие несколько десятилетий все, что этим смертным удалось в описании наблюдаемых эффектов, оказалось мешаниной эмпирических законов. Однако в 1865 году шотландский физик ростом всего-то пять футов и четыре дюйма по имени Джеймс Клерк Максвелл, применив эту самую мешанину, пришел к чудодейственному набору уравнений. Всего несколько строк – и мир узрел, как из электрических разрядов и токов рождаются электрические и магнитные силы и, главное, как эти силы порождают друг друга. Максвелл, таким образом, вывел объединенную теорию двух из трех древних сил – электричества и магнетизма, или, как мы теперь это называем, электромагнетизма.
История к тому же показывает, что Максвеллово объединение – отнюдь не просто теоретическая красивость: изучение следствий его теории открыло революционные новые явления. К примеру, его уравнения вели к тому, что разряды, движущиеся с ускорением, могут производить волны электромагнитных полей. Эти волны всегда двигались с одной и той же скоростью, равной, по его расчетам, скорости света. Такой вывод подвигнул Эйнштейна к созданию специальной теории относительности. Стоило Максвеллу открыть, что свет есть электромагнитное явление, как стало очевидно: могут существовать и другие электромагнитные волны. А это, в свою очередь, проложило путь немецкому экспериментатору Генриху Рудольфу Герцу – он впервые сгенерировал радиоволны, что привело в итоге к разработке технологий радио, телевидения, радаров, спутникового сообщения, рентгена и микроволновок. В «Лекциях по физике» Фейнман писал: «…вряд ли можно сомневаться, что величайшим событием XIX века будут считать открытие Максвеллом законом электродинамики».
Физики называют теорию, объясняющую все силы природы разом, единой теорией поля. Оно стоит того – на минутку задуматься, что это означает. Чтобы теория стала объединенной, ей необходимо выйти за пределы характеристик отдельных сил и описать взаимодействия сил между собой, как удалось Максвеллу в отношении электрических и магнитных сил и их взаимного порождения.
Большинство физиков, ищущих единую теорию поля, требуют еще большего: они желают показать, как все силы природы рождаются из одной фундментальнейшей, хотят найти основополагающий принцип. И хотя экспериментальных подтверждений существования такой силы в природе (или ее отсутствия) маловато, они все равно стремятся к этой теории – из эстетических соображений или из веры, что ко всем природным законам должен существовать один ключ. Подобная единая теория стала бы окончательной победой физики в греческом стиле. Эйнштейн посвятил поиску такой теории большую часть жизни – годы после теории относительности, – постепенно отходя от основного русла физики, сосредоточенной в основном на более практических вопросах.
Помимо математической красоты и потенциального открытия новых физических явлений, объединенная теория поля к тому же обещает ответы на фундаментальные вопросы о том, почему мы вообще существуем. Именно равновесие всех четырех сил природы, их относительная мощь и различные свойства позволяют Вселенной быть такой, какой мы ее знаем. К примеру, представьте, что сила тяготения была бы не столь хилой по сравнению с сильными взаимодействиями. Тогда звезды сжимались бы и дальше, а их ядерное топливо выгорало бы гораздо быстрее, тем самым предотвращая эволюцию жизни. С другой стороны, если бы гравитация была много слабее, электромагнитное отталкивание не позволило бы звездам сконденсироваться. Если бы сильные взаимодействия не были настолько мощнее электромагнитных, большинство ядер распалось бы. А если бы количества электронов и протонов материи отличались от равновесного хотя бы на один процент, электромагнитная сила между вами и кем-нибудь в ярде от вас была бы мощнее земного тяготения. Силы природы не сопоставимы, но тонко сонастроены. Почему? Отдельные теории описывают индивидуальные силы, и лишь теория, охватывающая все взаимодействия, может ответить на этот основополагающий вопрос мироздания.
Эйнштейн взялся за поиск единой теории поля в ситуации до крайности невыгодной: сильные и слабые взаимодействия к тому времени еще не были известны. Но к 1981 году электромагнетизм и слабые взаимодействия уже были объединены в одну теорию, и у физиков появились соображения, как включить туда же и сильные взаимодействия. Искусительно оно, это движение к единой теории. Через тридцать лет после смерти Эйнштейна его поиск обрел новую популярность. В словарь физиков вошел термин «теория всего». Крупнейшее препятствие на пути к успеху, по всеобщему согласию, – гравитация. Физики не только не знали, как включить силу тяготения в единую теорию, но и для этой силы, даже отдельно взятой, по-прежнему не существовало квантовой теории. Ну или придется поверить Джону Шварцу. Шварц заявлял, что его теория может объединить все силы, даже гравитационную, в единую квантовую теорию.
Теория, которой был одержим Шварц, называлась струнной. Струны в этой теории с обычными, которые на музыкальные инструменты натягивают, мало чем связаны. Струны физикам первым предложил японец Ёитиро Намбу и американец Леонард Сасскинд в 1970 году. Суть состояла вот в чем: точечная частица может на самом деле быть крохотной колеблющейся струной. В чем смысл этой странной идеи? Поначалу казалось, что ее применение разрешит старую проблему экспериментаторов, открывавших все новые и новые частицы. Даже число кварков, при помощи которых Марри мог объяснить существование большого количества частиц гораздо меньшим их числом, за годы со времени их предположения пришлось серьезно увеличить. Поэтому-то изначальное обаяние струнной теории тесно связано с мыслью, в рождении которой в 1950-х поучаствовал Марри, еще даже до своих кварков: все эти частицы могут быть просто разновидностями одной и той же.
Струнная теория предполагает единый принцип, объединяющий в себе все силы, и одна основополагающая частица – струна. Ее свойства зависят от ее состояния колебаний – так же, как мода колебаний определяет звук скрипичной струны, но в этом случае колебательные состояния проявляются как разные частицы, а не звуки. Эта единая сущность – струна, – таким образом, отвечает за разнообразие частиц в природе и за силы, на которые они реагируют.
Математическая форма, в которую облеклась теория струн, всерьез намекала, что у этой теории есть все шансы на полное объединение сил, даже гравитационной. Некоторым – Шварцу, например, – это казалось чудом. Но то были всего лишь общие свойства теории, а не такие предсказания, какие можно проверить в лаборатории. А потому важнейший вопрос оставался открытым: верна ли струнная теория?
Может показаться, что проверить это легко. Надо лишь пристально вглядеться в частицу. Есть там крошечная трепещущая струна или нет? Но элементарные частицы так малы, что мы не можем их рассмотреть с достаточной точностью и увидеть их устройство. Причина тут такая же, как в случае с родинкой в виде скрипки у вас на носу: с большого расстояния она выглядит крошечной мушкой – как называла ее ваша мама. И все же наша неспособность впрямую проверить, сделаны ли частицы из струн, не означает, что теория, построенная на этом предположении, не имеет следствий. Предположим, вы смотрите на мою жизнь с большого расстояния – скажем, исходя из немногих встреч со мной по работе, но не как с другом. Вы могли бы подумать обо мне, что я говорю разумные вещи, у меня неплохие рекомендации, да еще и тепленькое местечко в Калтехе, а значит, я успешный, уверенный в себе малый. Но кто я в глубине души? Вот этого, с поправкой на наши отношения, вы, вероятно, определить не сумеете. Но сможете построить теорию. Читаю ли я дома на досуге Джейн Остен, или тихо вожусь в саду, или играю на скрипке? А может, я надираюсь мартини и пытаюсь удержать своего соседа-мусорщика от того, чтобы он не вышиб себе мозги? Безусловно, есть определенные обстоятельства, в которых поведение этих Леонардов из двух теорий разветвится, и, наблюдая меня в этих обстоятельствах, вы сможете уразуметь, какая ближе к истине. Так же и со струнами. Хотя мы с природой не настолько близки, чтобы напрямую проверить, из струн ли состоят частицы, вопрос заключается вот в чем: можно ли создать условия, при которых наблюдаемые следствия, предсказанные струнной теорией и не-струнной, войдут в противоречие? Придумать такой эксперимент – вот на что больше всего уповают струнники. К сожалению, никто пока до такого эксперимента не додумался. Теория оказалась слишком сложна математически.
Поскольку теоретики струн не знали, как сделать проверяемые предсказания, они придумали еще одну цель теории – хотя бы тактическую. Ее назвали постсказанием. В этом подходе задача стояла не предсказать новое явление, а объяснить при помощи струнной теории уже известное, но пока не понятое. Например, нам известны значения многих фундаментальных физических величин – масса кварка или заряд электрона, – но никто не знает, почему они именно таковы. У струнной теории был потенциал изменить ситуацию – добыть эти данные из ничего. Но и это пока никто не осилил.
За 1970-е годы мало какие потенции струнной теории претворились в жизнь. А потом открыли и кое-какие нестыковки. Все, включая Джона Шварца, поняли, что для устранения этих нестыковок потребуется еще одно математическое чудо. Шварц и крошечная группа его сотрудников так верили в истинность струнной теории, что взялись это чудо найти. По их мнению, математическая структура, которую они уже обнаружили, смутно обещала возможность включения в теорию гравитационной силы – уже математическое чудо, и они были готовы отдаться на волю своей теории, чтобы она сама привела их к следующему чуду. Остальные же просто махнули рукой.
Одна из трудностей струнной теории, которую Шварц не пытался разрешить, – проблема размерности пространства: струнная теория математически со всего тремя пространственными измерениями не согласуется. Струны в струнной теории имеют длину, ширину, высоту, но им потребны еще шесть дополнительных измерений, каких в реальном мире, похоже, не существует. Все не так плохо, как в моем методе с бесконечным числом измерений, но эти дополнительные измерения продуктом метода математического приближения не были. Согласно теории струн, дополнительным измерениям положено быть настоящими. Теоретики-струнники «разрешили» эту трудность, математически подстроив теорию так, чтобы эти шесть дополнительных измерений были, как и сами струны, такими крошечными, что их совершенно естественно не замечать и, вообще-то, по сути невозможно определить.
Представим, что мы живем в двухмерном мире – скажем, на поверхности Земли, а тут вдруг физик говорит: эй, смотри, есть еще одно измерение, вверх-вниз, а мы-то и не знали. Возникает вопрос: как же это мы не замечали нечто столь очевидное – еще одно измерение? Если это «вверх – вниз» существует и впрямь, можно прыгать или кидать мяч вверх. Прыгать можно, отвечает физик, но это измерение такое маленькое, что в прыжке ты поднимешься над землей всего на малюсенькую долю миллиметра. Такой вот жалкий будет прыжок, что ты и не заметишь отрыва от земли.
Для некоторых – немногих – потребность теории струн в дополнительных измерениях сама по себе представляет великое открытие, подобное квантовому принципу Планка или прозрению Эйнштейна о взаимосвязи пространства-времени. Этим немногим струнная теория ставила вдохновляющую задачу: найти косвенное, но количественно определяемое следствие этих дополнительных измерений (продолжая при этом работать над устранением других неувязок теории). Но даже в Калтехе большинство физиков реагировало на Шварца так, будто он предложил всем перебраться в Неваду, к тайной команде исследователей инопланетян в Зоне-51[8].
Константин был из большинства. Я пришел к нему и застал его за рабочим столом, в кабинете без окон. Жужжали флуоресцентные лампы. Меня бы такое жужжание вогнало в тоску. Отсутствие дневного света – тоже. Меня тогда вообще многое вгоняло в тоску – когда я ничем не занимался. А вот Константина, похоже, ничто не удручало. Хотя выглядел он устало.
– Лег в четыре. Жизнь – жестянка, – сказал он. Но выражение лица и жесты ясно дали мне понять, что на самом деле жизнь совсем не жестянка. Он всю ночь куролесил со своей американской подружкой, ослепительной блондинкой – актрисой по имени Мег.
К Мег я его ревновал. Константин был парень хоть куда, средиземноморский красавец – стройный, но идеально сложенный, с томными глазами и замечательной улыбкой. Всегда загорелый и, хоть и на третьем десятке, в точности настолько седой, чтобы выглядеть умудренным. С сигаретой он напоминал рекламные картинки, снятые так, чтобы курение выглядело сексуально. Временами я втихаря мечтал встретить его лет через двадцать, сивого и морщинистого, может, даже слегка сутулого. Я же в этих фантазиях совершенно не изменился – не считая неуловимой зрелости, сильно обогащавшей мою сексуальную неотразимость.
Я сообщил Константину, что собираюсь потолковать с Джоном Шварцем.
– Это еще зачем? – спросил он.
Я ответил:
– Думаю, он может быть хорошим наставником.
Константин рассмеялся.
– Наставником? Да он сам себя наставить не может.
– Он вроде студентов берет.
– Ой, да ладно. Он тут уже девять лет, а постоянной ставки ему не дают. Он даже не профессор. Он научный сотрудник, как мы с тобой, – тут он изобразил очередной свой греческий – или итальянский – жест, пренебрежительное движение руками, каким, бывает, показываешь официанту, что наелся и можно убирать тарелку.
– Ну, раз он тут девять лет проработал, значит, факультет его поддерживает. Значит, тянет, – возразил я.
Константин тоже затянулся – сигаретой. Выдул дым к потолку, после чего взглянул на меня с улыбкой.
– Он ишак. Он учит, тащит кучу студентов. Делает черновую работу, чтобы ребята типа Фейнмана могли оттягиваться.
– Ну, с такой нагрузкой, может, ему не помешает коллега, – сказал я.
– Уверен, он будет счастлив все тебе про свою работу выложить. В конце концов, остальным же плевать.
– Спасибо за поддержку, Константин, – с этими словами я направился к выходу из его кабинета.
– А что? Я разве что плохое сказал? – спросил он мне вслед.
Кабинет Шварца был за углом. Дверь была открыта. На вид Шварцу было около сорока, очень подтянутый. Он сидел за столом и читал сигнальную копию – так у физиков называется рукопись научной статьи. Поскольку журналы долго возятся с публикациями статей, большинство научных работ расходится в народ в виде таких вот копий (в наши дни их можно загрузить из интернета). Он взглянул на меня.
– Да?
Я представился. Он улыбнулся.
– Да, я слышал, вы новенький.
– Мне интересно со всеми познакомиться и узнать, кто чем занят.
– Я работаю над теорией струн, – сказал он так, будто это такое бытовое понятие.
– Подумалось, может, вы бы могли что-то рассказать мне о вашем исследовании.
– У меня, увы, нет времени, – ответил он.
– В другой раз, значит… – сказал я. – Когда будет удобно?
Он встал и подошел к книжной полке. Достал полдесятка сигнальных оттисков и копий статей.
– Вот, – сказал он. – Почитайте и все.
Он вручил мне материалы и вернулся к работе, будто меня и не было рядом. Он отслюнил мне все слова, какими желал поделиться, и теперь словно жадничал даже взгляда.
Я вернулся зализывать раны к себе в кабинет. Заглянул Константин, спросил – несколько слишком жизнерадостно, – стал ли я новым «послушником» Шварца. Я продемонстрировал ему средний палец, что ни в Греции, ни в Италии не применяется. Но он понял.
Но ни я, ни он не знали, что через несколько лет стопка статей, легшая в тот день ко мне на стол, станет предметом поклонения по всему миру – как предвестник одного из самых многообещающих прорывов в теоретической физике XX века.
X
Чтобы разобраться в статьях Шварца, пришлось потрудиться, но я хотя бы наконец смог сосредоточиться. Обнаружил, что, несмотря на сомнительную репутацию Шварца и его теории и недостаток союзников на факультете, у него работали то ли четверо, то ли пятеро аспирантов – больше, чем у любого другого факультетского профессора. Паре из них я позадавал вопросы. Аспиранты оказались смышлеными. Вменяемыми. Они что, не понимают, что 99,9 процентов «экспертов» в физике считали их чокнутыми?
И как так вышло, что остальные на факультете допустили «заблуждение» столь многих аспирантов? Кто-то, подумал я, их явно поддерживает. Может, Фейнман?
Стояла суббота, и академгородок был тих, как мегаполис на рассвете. Но дело было сильно после обеда, а я рвался позавтракать. Незадача в том, что, хотя многие учащиеся жили прямо в городке, и «Сальник», и «Атенеум» закрывались на выходные. Я решил, что как-то же все питаются, и выбрался наружу – поискать падаль или, может, автомат с едой. Неподалеку обнаружился Фейнман. Я терялся в догадках, что он тут делает, но воспользовался случаем на него «наткнуться».
– Ну как, совершили какое-нибудь открытие? – спросил он.
– В данный момент я пытаюсь совершить открытие какой-нибудь еды. Не подскажете, где поесть?
– Где – подскажу, – отозвался он. – Трудность заключается в «когда». По выходным обычные места в академгородке закрыты.
Мы шагали к «Атенеуму». Там вроде бы что-то происходило. Сколько-то шли молча.
– Можно я спрошу кое-что, – наконец вымолвил я. – Как вы думаете, разумно ли работать над теорией, которую почти все считают бессмыслицей?
– Только при одном условии, – ответил он.
– И каково же оно?
– Вы сами не считаете ее бессмыслицей.
– Не уверен, что достаточно осведомлен, чтобы судить.
Он хихикнул.
– Может, если б знали, все равно бы не стали.
– В смысле, я могу оказаться слишком тупым и не разглядеть толк?
– Необязательно. Вы, может, просто недостаточно знаете или знали недостаточно долго, чтобы оно вас избаловало. Избыток осведомленности, бывает, все портит.
Что верно, то верно: многие величайшие открытия в физике сделали «дети» примерно моих лет. В этом возрасте Ньютон разработал счисление, Эйнштейн – теорию относительности, а Фейнман – методику диаграмм. Много чего добились и физики постарше, но большинство революционных прорывов, похоже, совершили юные. Мы, аспиранты и недавно защитившиеся, понимали, что для математической и теоретической физики наши мозги – на пике возможностей. Но Фейнман, судя по всему, смотрел на это иначе: мы катимся под горку не из-за умственного увядания, а из-за некой промывки мозгов. Может, поэтому он избегал узнавать новое из книг или статей – он славился настойчивым стремлением выводить новые результаты собственноручно и понимать их именно таким способом. Для него сохранять молодость означало применять подход новичка. И подход этот был явно успешен.
– Смотрите, – сказал он. – Вот вам и еда.
Во дворе «Атенеума» был накрыт громадный стол. Похоже, гуляли чью-то свадьбу. Мы остановились поглазеть на толпу в шикарных платьях, костюмах и галстуках.
– Ну да, но нас-то не приглашали.
– Вы, как я погляжу, спец по этикету.
– В смысле?
– В смысле, если вас не пригласили, это разве означает, что вам не рады?
Я пожал плечами.
– Обычно я делаю такой вывод.
– Значит, вы не голодны.
Я задумался.
– Ну, мы как-то наряжены несообразно. – На Фейнмане были парадная белая рубашка и свободные штаны. На мне – шорты и футболка.
– Ясное дело. Что за ученый отправляется на работу одетый, как на свадьбу? Ну, за вычетом Марри. – Он рассмеялся.
– Вы со мной пойдете?
Фейнман хмыкнул. Мы двинулись к столу. Пока я нагружал тарелку, он приглядывал. Поначалу нас вроде бы никто не замечал, но вдруг некто в смокинге встал за нами.
– Вы со стороны жениха или невесты? – поинтересовался мужчина.
– Ни с той, ни с другой, – ответил Фейнман. Человек оглядел нас. Мысленно я заметался – подыскивал, что бы такое соврать, дабы смягчить неловкость. Но тут Фейнман добавил: – Мы представляем факультет физики.
Человек улыбнулся, положил себе салата и ушел, с виду не озадачившись ни этим ответом, ни нашим облаченьем.
XI
Сохранять игривость, получать удовольствие, смотреть на все молодо. Мне было ясно, что для Фейнмана открытость всем возможностям природы и жизни – ключ и к творчеству, и к счастью.
Я спросил его:
– Становиться зрелым – глупо?
Он задумался. Пожал плечами.
Неуверен. Но для творческого процесса важна игра. Во всяком случае, для некоторых ученых. С возрастом ее труднее поддерживать. Становишься менее игривым. Но так нельзя, конечно.
У меня много математических задачек развлекательного толка, всякие словечки, в которые я играю и с которыми время от времени работаю. Например, о счислении я впервые услышал в старших классах и узнал о формуле производной функции. И для второй производной, и для третьей… И тут я заметил закономерность, верную для n-производной, неважно, чему целочисленное n равно – одному, двум, трем и так далее.
Но потом я задался вопросом: а что с «половинными» производными? Я хотел такую операцию, которая дает новую функцию, когда ее проделываешь с функцией, а если сделать ее дважды, получаешь обычную первую производную функции. Знаете такую операцию? Я ее изобрел, когда учился в старших классах. Но я тогда не умел ее рассчитывать. Я же школьник был, знал только, как ее определить. А рассчитать не мог ничего. Няне знал, как вообще что делается, чтобы проверить. Просто определил. И только потом, когда уже в университете учился, взялся заново. Изрядно развлекся. И обнаружил, что мое исходное определение, которое я в школе придумал, – верное. Подходит.
А потом, когда работал в Лос-Аламосе над атомной бомбой, видел, как народ возится со сложным уравнением. И понял, что их формула связана с моей полупроизводной. Ну, я придумал численную операцию для решения, применил – сработало. Мы ее применили дважды, что, по сути, обычная производная. А я изобрел изящный метод решения их уравнения. Все – ну, не совсем все, но многое – пригождается. Главное в это играть.
Творческий ум – просторный чердак. Та задачка из домашней работы в колледже, та занимательная, но вроде бы бестолковая статья, с которой ты неделю разбирался после защиты, та небрежная реплика коллеги – все это хранится в сундуках где-то наверху, в мозгу творческого человека, и бессознательное частенько за ними лазает и применяет в самые неожиданные моменты. Это часть творческого процесса, который шире физики. К примеру, Чайковский писал: «Обыкновенно вдруг, самым неожиданным образом, является зерно будущего произведения. Если почва благодарная…»[9] Мэри Шелли: «Сочинители не создают своих творений из ничего, а всего лишь из хаоса»[10]. Стивен Спендер: «Все, нами вообразимое, нам известно. А наша способность воображать есть способность вспоминать уже пережитое нами и способность применять это к другим обстоятельствам»[11].
Еще одно очень интересное развлечение – спрашивать себя, что бы произошло, если бы я мог как-то изменить природу, изменить физический закон? Прежде всего, если бы я мог что-то изменить, это изменение должно согласовываться с кое-какими другими вещами. А еще придется продумать все последствия такого измененного закона и понять, что произойдет в результате с миром. Интересная работа. Большая. Я разок попробовал – захотел посмотреть, какая вышла б физика, если бы она была двухмерная, а не трехмерная. Два измерения – евклидова плоскость плюс время. А там же еще очень, очень интересные явления – поведение атомов, линии их спектров, например. Я перебрал множество штук, которые в двух измерениях иные, нежели в трех. Очень интересно. У меня записано в блокноте. Очень развлекся, потея возился.
Под линиями спектра Фейнман подразумевает характеристический свет, испускаемый атомом. Добавку еще двух измерений к существующим я представил легко. Для своей диссертации я тоже изучал, как что меняется при изменении мерности пространства – вплоть до бесконечного количества измерений. Это как новые направления добавлять. В одном измерении есть только вперед и назад. Второе добавляет влево и вправо. Третье – вверх – вниз. Каждое новое измерение просто добавляет одно дополнительное независимое направление (для некоторых – дополнительную возможность заблудиться). Приятно было думать, что воображение позволяет нам представить подобные альтернативные миры. Но к тому, куда Фейнман меня дальше заведет, я оказался не готов…
А потом я вот так еще развлекался. Представьте, что существует два времени. Два пространства, два времени. Что это будет за мир – с двумя временами?
Все привыкли, что у событий есть временной порядок. С двумя временными измерениями, то есть когда время отслеживается по плоскости, а не по прямой, строго порядка вещей уже не будет. Странный получится мир, это уж точно.
Мы это обсуждали с сыном на пляже, долго. У него много хорошего геометрического воображения. Он сделал своего рода модель, в которой мы смогли это отразить и понять, как все будет выглядеть. Отразили – и стали задаваться вопросами. Что произойдет и всякое такое. И в это я тоже люблю играть, когда заняться нечем.
Мы все время спрашиваем: «А что если?» – и начинаем разбираться с последствиями. Но поменять можно столько всего, что, если только нет хорошего повода, тебе недосуг это все менять. Воображение нужно, чтобы выбрать правильное изменение, потому что, если позволить себе такие простые модификации, есть бесчисленное множество способов это проделать, а выбрать нужный – очень трудно.
Кто-то однажды спросил: «А что было бы, если бы все состояло из трех частиц?»
Фейнман слукавил: этот «кто-то» был Марри, а три частицы – кварки, кирпичики, из которых состоят субъядерные частицы типа протонов.
Ну, тогда частица под названием «К-мезон» будет не при чем. Не годится. А если бы заряды частиц были дробные? А! Так подойдет! Ух ты, ловко. Смотрите-ка, тогда получится вот так! А вот это мы объясним! Объясним ту штуку, которую раньше никак не могли понять! Все в восторге! Теперь мы знаем, что все состоит из трех частиц, у которых заряд ненормальный!
Физики давно заметили, что все электрические заряды кратны некому мельчайшему. В 1891 году ирландский физик Джордж Джонстоун Стоуни предположил существование фундаментальных незримых частиц, несущих элементарный заряд, и назвал эти частицы электронами. Через несколько лет ученые, экспериментируя с катодными лучами, смогли наблюдать отдельные электроны. С тех пор никто ни разу не видел ни единого иона или частицы, чей заряд был бы не кратен 1,2,3 или другому целому числу, кратному заряду электрона. И поэтому, когда Марри впервые выдвинул гипотезу о кварках, представление о «нецелочисленном», или дробном, заряде показалось всем очень противоречивым. И все же, как и таинственные дополнительные измерения струнной теории, эта гипотеза была необходима для непротиворечивости теории Марри.
Марри, предполагавший возможную отрицательную реакцию, поначалу говорил о кварках осторожно. В «Physical Review» он свою первую статью о кварках слать не стал – побоялся опровержений от редакторов и референтов, а потому издал ее в менее престижном журнале. Фейнман по первости отнесся к теории кварков скептически. Но в конце концов его изначальная нерешительность будто подогрела его же обожание Марри – потому что он теорию продолжал развивать.
Освободиться от предположения, что все заряды обязаны быть целочисленными, и при этом все, что видишь, имеет целочисленный заряд – вот где нужно воображение. Нужно воображение, чтобы сказать: заряды могут быть не такими, какими их все время видишь. Встроен же некоторый консерватизм. Мы установили, что у всего всегда целочисленный заряд, всюду. Всюду! А потому считаешь, что все тоже слеплено из целочисленных зарядов. Разумно вроде, и никто и не думал об альтернативах, потому что в этом вроде бы нет необходимости, – и никаких доказательств. И вот все доделал, а тут обнаруживаешь, чего не ждал, – просто наткнулся, и поначалу кажется, что это волшебство! Здорово! Очень интересно. Я разбирался со многими маленькими задачками. В этом моя роль.
Я слушал Фейнмана и вдохновлялся. Почему бы не освободиться от мысли, что пространство-время четырехмерно? А если струнная теория потребует шести измерений? Разбираться имеет смысл именно со всякими «а если» – вот что я понял.
XII
Близилась весна. В Пасадине это приятное время года – тепло, но пока не жарко, и дождей поменьше, чем зимой. Время радоваться синему небу, пальмам и отчетливому виду гор Сан-Габриэль, все еще укрытых зеленью. Как-то где-то Рей наконец встретил девушку себе по душе – или, точнее сказать, которой пришелся по душе он. Трудность состояла, с его слов, лишь в одном: она обитала в штате Вашингтон. В Беллвью, если точнее. Я же усматривал и другие трудности. Например, он решил не говорить ей, что он мусорщик, – сказал, что просто муниципальный служащий. А также и то, что объединяет их исключительно талант к математике – во всяком случае, к арифметике. Но поскольку Рей математику терпеть не мог, мне связь через этот предмет не казалась однозначным преимуществом. И все же он, похоже, настроился серьезно, и я за него радовался. Он даже начал подумывать, не переехать ли к ней поближе. Она что-то поделывала в маленькой программистской компании под названием «Майкрософт». Он предположил, что она поможет ему найти работу. Я, разумеется, эгоистически надеялся, что он никуда отсюда не денется.
Поскольку я частенько рассказывал Рею про физический факультет Калтеха и в особенности о «чуваке Фейнмане», как его называл Рей, он решил, что хочет сам все увидеть и познакомиться с «чуваком». Я согласился, хоть и не без трепета. Знакомить болтливого любителя каннабиса, который ненавидит математику, но страсть как любит философствовать, с суровым старым профессором, который обожает математику, ненавидит философствовать и яростно оберегает свое время, – довольно рискованно. Но мы с Реем дружили, и я согласился.
Рей часто расспрашивал меня, чем вообще занимаются физики и зачем это. Однажды я ответил ему цитатой из Эйнштейна, вычитанной в «Дзэне и искусстве ухода за мотоциклом»:
– «Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной… На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни…»[12]
– Так то Эйнштейн, – ответил Рей. – Витал в облаках. А я спрашиваю про планету Земля. Я хочу понять что… ты… делаешь… и… зачем, – он проговорил это все так, будто повторение вопроса медленно и с упором на каждое слово придавало ему иной смысл. Может, так оно и было, но пролетело совершенно мимо меня. Однако я подумал, что визит в академгородок мог бы показать ему эту самую картину, которая стоила тысячи моих бестолковых слов.
По дороге я опробовал на нем свою детективную метафору.
– Это как у Шерлока Холмса или у Рокфорда – в зависимости от личного стиля, конечно. Сначала выбираешь себе задачу.
– Типа как преступление для расследования.
– Точно. Только сыщикам расследования поручают. Физики должны выбирать сами.
– Это как список «Десять наиболее разыскиваемых ФБР»?
– Да, есть задачи, которые кажутся важными всем. Но тут надо осторожнее – над ними много кто уже работает. Лучше найти задачу, которую только ты опознал как важную – если, конечно, не ошибаешься с определением ее важности.
– И дальше начинаешь искать улики.
– Ага, но это все у тебя в голове происходит. Размышляешь над всякими возможностями, собираешь идеи – направления расследования. Потом по этим направлениям работаешь – возишься с математикой. Чтобы выяснить, есть у твоей идеи следствия, которые ты предполагал, или нет. Часто все непросто, потому что не знаешь, как тут математику применять. Пока понятно?
– Только в некоем абстрактном и совершенно поверхностном смысле.
Я улыбнулся.
– Лед тронулся.
Мы заглянули ко мне в кабинет, а затем выбрались в коридор и завернули за угол. Там возле семинарской комнаты толклось несколько аспирантов. Физики живут обсуждениями. Они говорят о физике всюду: так же, как другие люди – о спорте или погоде. Эдакое перекрестное опыление. Так Шварцу дался его великий прорыв – во всяком случае, то, что он считает прорывом. Пару лет назад он болтал с Майклом Грином в столовой Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии, и вдруг они вместе поняли, что струнная теория – еще и теория тяготения. Обнаружь они, скажем, что квантовая хромодинамика может быть расширена и на гравитацию, это была бы новость для передовиц и уж точно Нобелевская премия. Но практически никто не считал струнную теорию верной. Соображение, что неверная теория может описывать и силу тяготения, никакого особого восторга среди тех немногих, кто не поленился послушать, не вызвало.
Шварцем я не мог не восхищаться: всеобщее отвержение не мешало ему проталкивать свою теорию при любой возможности.
Сегодня он вел семинар по своей с Грином работе. Когда бы кто-нибудь из калтеховских сотрудников ни обнаружил что-нибудь, заслуживавшее объяснения (а зачастую и не обнаружил ничего), семинарская комната была местом, где можно посвятить коллег в свою работу, скопом. В случае Шварца «скопом» означало, вероятно, горстку тех, кто не поленится прийти, но Шварц всегда принимал это с улыбкой. И семинаров проводил, кажется, больше, чем кто угодно другой на факультете.
Я восхищался Шварцем еще и по другой причине. Он, как и я, окончил Беркли. Наставником его докторской диссертации, еще в 1960-е, был человек по имени Джеффри Чу, ведущий специалист в очень амбициозном подходе под названием «теория S-матриц». Цели и философия этой теории походили на таковые у струнной, и несколько лет она была самой горячей темой, – но не состоялась. Чу, тем не менее, ее не отставил и десятилетиями работал, как и Шварц, высмеиваемый и практически в одиночку. Чу так ничего и не добился и закончил свою когда-то блистательную карьеру в забвении. Шварц работал в тени Чу и словно повторял его историю, но все равно с улыбкой двигался дальше – это, на мой взгляд, выказывало силу характера.
Я знал, что Рей на семинаре ни слова не поймет, что лишь слегка отставало от моего собственного понимания, но решил: раз уж он все время расспрашивал меня, чем именно я весь день занят, пусть попробует все.
На встречу явилось всего человек десять, из них половина – аспиранты Шварца. Но вскоре после начала к нам присоединились околачивавшиеся снаружи Марри и Фейнман. Обоих разом я видел их на семинаре впервые и решил, что нас всех ожидают фейерверки.
За несколько лет до этого, когда Фейнман и Марри чаще приходили вместе, семинары в Калтехе слыли событиями жестокими. Марри цеплялся беспрестанно, к любым мелочам. Или того хуже: если ему казалось, будто ты говоришь что-нибудь незначительное или неинтересное, он мог достать газету и с нескрываемой скукой в нее углубиться. Фейнман тоже всегда бывал борз и нетерпим к небрежному мышлению – и обожал играть в кошки-мышки. Для Фейнмана физика была спектаклем, и если его не устраивали твои ответы, он вставал, оглашал свое мнение и покидал аудиторию. Сочетание Марри с Фейнманом вызывало такую робость, что как минимум один будущий Нобелевский лауреат не решался читать в Калтехе лекции.
Подойдя поближе, мы услышали, как Марри беседует с гостем, судя по всему, из Монреаля. Марри настаивал на том, что произносить название города надо так, как это делают местные, с «н» в нос и грассируя «р».
Фейнман повернулся к Марри.
– Откуда?
– Из Монр’еаля.
– Это где такое? – спросил Фейнман. – О Монр’еале не слыхал. – Для полной красоты он усилил прононс Марри.
– Я заметил, что есть много хорошо известных городов, названия которых ты не опознаешь, – отозвался Марри.
– Рассуждая логически, это означает, что либо я – невежа, либо ты их произносишь черт-те как.
– Заблуждение, – парировал Марри. – Рассуждая логически, может быть и то, и другое. – По части точности Марри всегда был занудой.
Фейнман улыбнулся.
– Ну, предоставим другим делать выводы.
Марри хмыкнул и ушел в семинарскую комнату.
Дразнить Марри Фейнману нравилось, он в это играл. А Марри всегда обижался. Я потихоньку показал Рею Фейнмана.
– А второй кто? – спросил он.
– Марри Гелл-Мэнн.
– А, который чувак с кварками.
– Ага, чувак с кварками.
– Они всегда так друг с другом разговаривают? – спросил он.
Я пожал плечами. Они редко бывали вместе.
– Они мне напоминают моих отца с матерью, – заметил Рей.
Семинар начался, и Фейнман выкрикнул с места:
– Эй, Шварц, ты сегодня в скольких измерениях?
Эту издевку на тему дополнительных измерений, потребных струнной теории, я от Фейнмана слышал не впервые. Но она была добродушная. А это уже означало кое-что, поскольку колкости Фейнмана это качество имели не всегда. И поэтому я не чувствовал, что она показывает его подлинную позицию в отношении этого предмета. Я слегка напрягся, мы с Реем ждали. Я изготовился к драке: станут ли Фейнман с Марри воевать против Шварца вместе или все кончится их потасовкой между собой? Мне было немного неловко перед Реем – так же неловко, как бывает перед другом за перепалку родителей в его присутствии.
Шварц улыбнулся и начал разговор. Ему, казалось, все нипочем. Он даже вбросил несколько шуток. В аудитории едва ли усмехнулись. Годы спустя Шварц, забавляясь, рассказывал мне, что после того, как он стал знаменит, те же остроты вызывали взрыв хохота.
Фейнман и Марри слушали почтительно и задавали исключительно технические вопросы. Никаких глумливых комментариев.