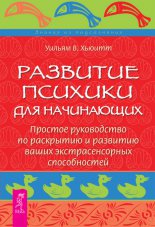Голливудская трилогия в одном томе Брэдбери Рэй

– Что?! – взорвался я, подскакивая на месте. – Этот фильм должен выйти к ближайшей Пасхе, верно? Во время Пасхальной недели его увидят миллионы баптистов. Два миллиона лютеран?
– Несомненно.
– Десять миллионов католиков?
– Да!
– Два унитария?
– Два?..
– И когда все они в Пасхальное воскресенье, потрясенные, выйдут из кинозала и спросят: «Кто вырезал из фильма Иуду Искариота?» – ответ будет один: Мэнни Либер!
Наступила долгая пауза. Мэнни Либер бросил свою потухшую сигару. Я застыл, глядя, как он протягивает руку к белому телефону.
Он набрал местный трехзначный номер, подождал ответа и сказал:
– Билл?
Затем, набрав побольше воздуха:
– Примите Иуду обратно на работу.
Он с ненавистью наблюдал, как я раскладываю три подушки по трем отдельно стоящим стульям.
– Это все, о чем ты хотел со мной поговорить?
– Пока да.
Я повернул ручку двери.
– А что слышно о твоем друге Рое Холдстроме? – вдруг спросил он.
– Я думал, вы знаете! – воскликнул я и остановился.
«Осторожнее», – подумал я.
– Этот кретин просто сбежал, – выпалил я. – Забрал все вещи из квартиры и уехал из города. Несчастный придурок. Он мне больше не друг. Ни он, ни это проклятое глиняное чудовище, которое он состряпал!
Мэнни Либер внимательно посмотрел на меня.
– Тем лучше. С Вонгом тебе будет лучше работать.
– Конечно. Фриц и Иисус.
– Что?
– Иисус и Фриц.
И я вышел.
33
Я медленно брел, возвращаясь к дому моей бабушки, затерянному где-то в прошлом.
– Ты уверен, что час назад мимо тебя пробежал именно Рой? – спросил Крамли.
– Черт, нет, конечно. Да, нет, может быть. Не могу сказать членораздельно. Мартини посреди дня – это не по мне. Кроме того… – я взвесил в руке сценарий, – мне надо вырезать отсюда два фунта и добавить три унции. Помоги!
Мой взгляд упал на блокнот в руках Крамли.
– Ну что?
– Обзвонил три агентства, собирающие автографы. Они все знают Кларенса…
– Отлично!
– Не совсем. Везде говорят одно и то же. Параноик. Ни фамилии, ни телефона, ни адреса. Всем говорил, что боится. Не того, что ограбят, а того, что убьют. А потом ограбят. Пять тысяч фотографий, шесть тысяч автографов – вот его золотые яйца. Так что в ту ночь он мог и не узнать Человека-чудовище, но испугался, что чудовище узнает его, узнает его адрес и может прийти за ним.
– Нет-нет, совсем не сходится.
– Кларенс, не важно, как там его фамилия, по словам людей из агентств, всегда берет только наличными и платит наличные. Никаких чеков, так что по этой линии следов нет. Он никогда не связывался с ними по почте. Регулярно появлялся, делал дела, а потом исчезал на несколько месяцев. Тупик. В «Браун-дерби» тоже тупик. Я пытался зайти и так и эдак, но метрдотель и слушать меня не стал. Прости, малыш. Эй, смотри…
В этот момент, по расписанию, вдалеке снова показалась римская фаланга на ускоренном марше. Они приближались к нам с радостными выкриками и ругательствами.
Я изо всех сил вытянулся, затаив дыхание.
– Это та компашка, о которой ты говорил? – спросил Крамли. – Среди них был Рой?
– Ага.
– А сейчас он с ними?
– Мне не видно…
– Черт побери, – Крамли прорвало, – какого лешего этот тупой придурок бегает тут по студии? Почему он не делает ноги, не удирает отсюда, черт возьми?! Зачем он тут вертится, как привязанный?! Чтобы его убили?! У него был шанс убежать, вместо этого он выжимает из тебя и из меня все соки. Зачем?!
– Мстит, – ответил я. – За все убийства.
– Какие убийства?!
– Убийства всех его созданий, всех его самых близких друзей.
– Чушь.
– Послушай, Крам. Ты давно живешь в своем доме, в Венеции? Двадцать – двадцать пять лет. Все живые изгороди, каждый кустик посажен тобой, ты сам засеял лужайку, построил ротанговую хижину, установил звуковую аппаратуру, поливальные агрегаты, развел бамбук и орхидеи, посадил персиковые деревья, лимоны, абрикосы. Что, если за одну ночь я бы все это разломал и вырвал с корнем, срубил деревья, вытоптал розы, сжег хижину, выкинул на улицу аппаратуру, – что бы ты тогда сделал?
Крамли подумал, и лицо его вспыхнуло от гнева.
– Вот именно, – спокойно произнес я. – Не знаю, женится ли когда-нибудь Рой. Но сейчас, в эту минуту, его дети, вся его жизнь оказались втоптаны в грязь. Все, что он любил в жизни, убито. Может быть, он сейчас находится здесь, пытаясь выяснить причину этих убийств, пытаясь, как и мы, найти чудовище и убить его. Может быть, Рой ушел навсегда. Но будь я на месте Роя, я бы остался, спрятался и продолжал поиски, пока не закопаю убийцу в могилу вместе с его жертвой.
– Мои лимоны? – произнес Крамли, задумчиво глядя в сторону моря. – Мои орхидеи, мои джунгли? Кем-то уничтожены? Ладно.
Внизу в лучах закатного солнца пробежала римская фаланга, исчезнув в голубых сумерках.
Высокого неуклюжего воина с журавлиными повадками в ней не было.
Шаги и крики замерли вдали.
– Пошли домой, – сказал Крамли.
В полночь через африканский сад Крамли неожиданно пронесся ветер. Все деревья в округе перевернулись во сне.
Крамли задумчиво посмотрел на меня.
– Чувствую, что-то должно произойти.
И оно произошло.
– «Браун-дерби», – ошеломленный догадкой, произнес я. – Господи, как же я раньше не подумал?! В ту ночь, когда Кларенс удирал в панике. Он же обронил свою папку, он оставил ее лежать на тропинке у входа в «Браун-дерби»! Кто-то наверняка подобрал ее. А может, она еще там, ждет, когда Кларенс успокоится и осмелится тайком вернуться за ней. В папке наверняка есть его адрес.
– Хорошая ниточка, – одобрительно кивнул Крамли. – Я проверю.
Снова налетел ночной ветер, печально вздыхая в ветвях лимонных и апельсиновых деревьев.
– И еще…
– Еще?
– Еще про «Браун-дерби». Метрдотель, скорее всего, с нами разговаривать не будет, но я знаю одного человека, который многие годы обедал там каждую неделю, когда я был еще ребенком…
– Господи, – вздохнул Крамли, – Раттиган. Да она живьем тебя съест.
– Моя любовь будет мне защитой!
– Боже, только сунь этого в постель, и мы обеспечим детишками всю долину Сан-Фернандо.
– Дружба – это защита. Ты ведь не причинишь мне зла?
– И не рассчитывай.
– Нам надо что-то предпринять. Рой прячется. Если они, кто бы это ни был, найдут его, Рою конец.
– Тебе тоже, – заметил Крамли, – если будешь играть в детектива-любителя. Уже поздно. Двенадцать ночи.
– А Констанция как раз просыпается.
– Это она по трансильванскому времени? Черт! – Крамли сделал глубокий вдох. – Тебя отвезти?
Где-то во тьме сада с дерева упал персик и мягко стукнулся о землю.
– Хорошо! – согласился я.
34
– Утром, – сказал Крамли, – если запоешь сопрано, не звони.
И он уехал.
Дом Констанции был, как и прежде, безупречен: белый храм, возвышающийся над побережьем. Все окна и двери были широко распахнуты. Внутри, в огромной пустой белой гостиной, играла музыка: что-то из Бенни Гудмана[217].
Я шел, как шагал тысячу ночей назад, вдоль кромки, окаймлявшей океан. Она была где-то там, катаясь верхом на дельфинах, перекликаясь с тюленями.
Я заглянул в гостиную на первом этаже, заваленную четырьмя дюжинами кричаще-ярких, разноцветных подушек, и посмотрел на белые стены, по которым поздно ночью, перед рассветом, проходили парады теней, ее старые фильмы выплывали из тех времен, когда меня еще не было на свете.
Я обернулся, потому что необычайно тяжелая волна с грохотом ударилась о берег…
… а из нее, словно из ковра, брошенного к ногам Цезаря, вышла…
… Констанция Раттиган.
Она вышла из волн, как быстрый тюлень, ее волосы были почти того же цвета: гладко-каштановые, приглаженные водой, а маленькое тело присыпано мускатным орехом и залито коричным маслом. Все оттенки осени окрашивали ее быстрые ноги, необузданные руки, запястья и ладони. Глаза были карие, как у забавного, но хитрого и злобного маленького зверька. Улыбающийся рот, казалось, был вымазан маслом грецкого ореха. Констанция выглядела шаловливым порождением ноябрьского прибоя, выплеснутым из холодного моря, но горячим на ощупь, как жареный каштан.
– Сукин сын, это ты! – воскликнула она.
– Это ты, Дочь Нила!
Она налетела на меня, как собака, чтобы стряхнуть с себя воду на кого-нибудь другого, схватила меня за уши, расцеловала в лоб, в нос и в губы, а потом повернулась кругом, демонстрируя себя со всех сторон.
– Я голая, как обычно.
– Я заметил, Констанция.
– А ты не изменился: смотришь на мои брови, а не на сиськи.
– И ты не изменилась. И сиськи, похоже, тугие.
– Неплохо для купающейся по ночам пятидесятишестилетней экс-кинодивы, а? Идем!
Она побежала по песку. К тому времени, как я добрался до ее открытого бассейна, она уже принесла сыр, крекеры и шампанское.
– Боже мой. – Она откупорила бутылку. – Сто лет прошло. Но я знала: однажды ты явишься снова. Достала семейная жизнь? Нужна любовница?
– Нет. Спасибо.
Мы выпили.
– Ты встречался с Крамли в последние восемь часов?
– С Крамли?
– Это видно по твоему лицу. Кто умер?
– Один человек двадцать лет назад, на студии «Максимус».
– Арбутнот! – воскликнула Констанция, осененная догадкой.
Тень пробежала по ее лицу. Она потянулась за халатом и завернулась в него, став вдруг совсем маленькой, как девочка, и, обернувшись, долго смотрела вдаль на кромку берега, словно это были не песок и волны, а сами годы.
– Арбутнот, – прошептала она. – Господи, как он был хорош! Какой талант. – Она помолчала. – Я рада, что он умер, – добавила она.
– Не совсем, – сказал я и осекся.
Потому что Констанция живо обернулась ко мне, словно от выстрела.
– Не может быть! – вскричала она.
– Нечто похожее на него. Кукла, прислоненная к стене, чтобы напугать меня, а теперь и ты меня пугаешь!
Слезы облегчения брызнули из ее глаз. Она ловила ртом воздух, будто ее ударили в живот.
– Чтоб тебя! Иди в дом, – приказала она. – Принеси водки.
Я принес водку и стакан. Я смотрел, как она, запрокинув голову, сделала два глотка. И внезапно понял, что больше никогда не буду пить, ибо устал видеть, как люди пьют, устал бояться наступления ночи.
Я не мог придумать, что сказать, поэтому подошел к краю бассейна, снял ботинки, носки, закатал брюки и сел, опустив ноги в воду и глядя вниз.
Наконец Констанция подошла ко мне и села рядом.
– Ты вернулась, – сказал я.
– Прости, – сказала она. – Старые воспоминания не так-то просто стереть.
– Ужасно трудно, – согласился я, в свою очередь устремляя взгляд на берег. – На этой неделе вся студия в панике. Почему все разбегаются, видя под дождем чучело, похожее на Арбутнота?
– Ах вот что случилось?
Я поведал ей остальное, все то, что я рассказывал Крамли, закончил случаем в «Браун-дерби» и прибавил, что теперь мне нужно появиться там вместе с ней. Когда я умолк, побледневшая Констанция осушила еще один стакан водки.
– Мне хотелось бы знать, чего я должен бояться! – сказал я. – Кто написал эту записку, чтобы я пришел на кладбище и представил фальшивого Арбутнота замершему в ожидании человечеству? Но я никому на студии не стал рассказывать об этой кукле, и тогда они, едва не обезумев от страха, нашли его и попытались спрятать. Неужели после стольких лет, прошедших с его кончины, память об Арбутноте так ужасна?
– Да. – Констанция положила дрожащую ладонь мне на запястье. – О да.
– И что же это? Шантаж? Кто-то пишет Мэнни Либеру и требует денег, иначе последуют другие записки, которые раскроют нечто из прошлого студии и жизни Арбутнота? Но что раскроют? Какой-нибудь старый ролик двадцатилетней давности, снятый в ночь гибели Арбутнота? Может, это пленка, где снят момент аварии, и, если ее показать, запылают Константинополь, Токио, Берлин и вся остальная натура?
– Да! – словно из глубины времен донесся голос Констанции. – А теперь уходи. Беги. Тебе никогда не снилось, как ночью приходит огромный черный двухтонный бульдог и пожирает тебя? Одному из моих друзей приснился такой сон. Большой черный бульдог сожрал его. Этого бульдога звали Вторая мировая война. Мой друг ушел навсегда. Я не хочу, чтобы и ты тоже ушел.
– Констанция, я не могу бросить это. Если Рой жив…
– Ты не знаешь наверняка.
– … я вытащу его из этой переделки и помогу вернуть работу. Это единственный правильный поступок, который я могу совершить. Я должен. Это несправедливо.
– Иди в море, побеседуй с акулами, будет больше пользы. Ты и впрямь хочешь вернуться на «Максимус» после всего, что рассказал мне сейчас? Господи! Знаешь, когда я была на студии в последний раз? После похорон Арбутнота.
Этими словами она пустила мой корабль ко дну. А потом вдогонку бросила якорь.
– Это был конец света. Я никогда не видела в одном месте столько больных и умирающих людей. Словно на моих глазах треснула и обрушилась статуя Свободы. Черт. Он был горой Рашмор[218] после землетрясения. В сорок раз величественнее, мощнее, значительнее, чем Гарри Кон, Дэррил Занук, Гарри Уорнер и Ирвинг Талберг, завернутые в один блин. Когда там, за стеной, захлопнулась крышка и гроб погрузился в могилу, трещины побежали по холму наверх, обрушив надпись Hollywoodland. Это был Рузвельт, умерший задолго до своей кончины.
Констанция замолчала, услышав мое затрудненное дыхание.
Затем она сказала:
– Скажи, есть в моей голове хоть капля мозгов? Ты знал, что Шекспир и Сервантес умерли в один день? Представляешь! «Все красные леса мертвы, и гром небес не утихает. Слезами горя тают льды. Отверзлись вновь Христовы раны. И Бог молчит. Как призраки, шагают легионы, все с амазонками кровавыми в глазах». Я, шестнадцатилетняя зубрилка, написала это, когда узнала, что Джульетта и Дон Кихот умерли в один день, и проплакала тогда всю ночь. Ты единственный, кто слышал эти дурацкие строчки. Так вот, то же самое было, когда погиб Арбутнот. Мне снова было шестнадцать, и я не могла перестать плакать и писать всякую чепуху. Там были и луна, и планеты, и Санчо Панса, и Росинант, и Офелия. Половина женщин на его похоронах были его любовницами. Постельный фан-клуб, плюс племянницы, кузины и сумасшедшие тетушки. Проснувшись в тот день, мы увидели второе Джонстаунское наводнение[219]. Боже, я все еще плачу. Говорят, кресло Арбутнота по-прежнему стоит в его кабинете? Сидел ли в нем с тех пор кто-нибудь столь же толстозадый и столь же мозговитый?
Я вспомнил задницу Мэнни Либера. Констанция продолжала:
– Один бог знает, как студия выжила. Может, посредством спиритизма, получая советы от умершего. Не смейся. Это же Голливуд: тут читают астрологические прогнозы Лев-Дева-Телец, между дублями стараются не наступить на трещины. Студия? Сделай мне большую обзорную экскурсию. Дай старушке вдохнуть запах четырех ветров в пятидесяти пяти городах, посмотреть на безумцев, что теперь там работают, а потом поедем к метрдотелю в «Браун-дерби». Я переспала с ним однажды, девяносто лет назад. Вспомнит ли он старую ведьму с венецианского побережья, позволит ли нам посидеть за чашечкой чая с твоим чудовищем?
– А что ты ему скажешь?
Длинная волна набежала с моря и короткой волной с шуршанием разбилась о берег.
– Я скажу, – Констанция прикрыла глаза, – перестань пугать моего фантаста-динозавролюба, моего почетного внебрачного сына.
– Да уж, – сказал я, – пожалуйста.
35
Вначале был туман.
В шесть утра он, как Великая Китайская стена, надвигался на берег, на равнины и горы.
Во мне заговорили утренние голоса.
Я осторожно пробирался по гостиной Констанции, пытаясь нащупать где-то под слоновой грудой подушек свои очки, но потом оставил эту затею и на ощупь стал искать портативную пишущую машинку. Я сел и вслепую начал настукивать финал «Антипы и Мессии».
И этим финалом было чудо с рыбой.
И пришел Симон-Петр на берег, и встретил призрака у догорающего костра, и нашел рыбу, которую следовало раздать, возвещая при этом освобождение и вечное блаженство, и тихо стояли вкруг него ученики, и настал последний час прощания, и свершилось Вознесение, и произнесены прощальные слова, которые будут звучать еще две тысячи лет, и отзовутся на Марсе, и поплывут с космическими кораблями к Альфе Центавра.
И когда слова вышли из-под ленты пишущей машинки, я не мог даже разглядеть их, я приблизил их к своим увлажненным слепым глазам, а в это время Констанция вынырнула из волн, как еще одно чудо, облаченное в необыкновенную плоть, она склонилась над моим плечом и издала крик, в котором слышались печаль и радость, и затрясла меня, как щенка, радуясь моему успеху.
Я позвонил Фрицу.
– Где тебя носит, черт возьми?! – вскричал он.
– Заткнись, – мягко сказал я.
И стал читать ему вслух.
И снова на углях костра жарилась рыба, и угли разлетались на ветру, и искры светлячками неслись над песком, и Христос говорил, и внимали Ему ученики, а когда рассвело, Его следы на песке исчезли, подобно ярким искрам, и Он ушел, а Его ученики разошлись во все концы земли, и теперь уже их следы были подхвачены ветрами, их следы исчезли с песка, и лишь тогда настал Новый День, и на этом закончился фильм.
На другом конце провода Фриц не проронил ни звука.
Наконец он прошептал:
– Ах… ты… сукин… сын.
А потом:
– Когда ты принесешь это?
– Через три часа.
– Приезжай через два, – прокричал Фриц, – и я тебя расцелую в четыре щеки. А пока выжму желчь из ливера Либера и найду урода Ирода!
Я повесил трубку, и тут же раздался звонок.
Звонил Крамли.
– Ну как, Бальзак, ты по-прежнему honor?[220] – спросил он. – Или, как большая рыба Хемингуэя, валяешься дохлый на причале, кости обглоданы добела?
– Крам, – вздохнул я.
– Я позвонил еще кое-куда. Положим, мы соберем всю информацию, которую ты ищешь, найдем Кларенса, узнаем, кто такой этот жуткий тип из «Браун-дерби»… но как мы свяжемся с твоим придурковатым дружком Роем – он ведь, похоже, в подержанной тоге нарезает круги по студии, – как мы дадим ему знать, что надо выметаться оттуда? Может, взять гигантский сачок для ловли бабочек?
– Крам, – произнес я.
– Ладно, ладно. У меня есть хорошая новость и есть плохая. Я пораскинул мозгами насчет этой папки, которую, как ты сказал, твой старина Кларенс выронил возле «Браун-дерби». Я позвонил в «Дерби» и сказал, что потерял папку. «Конечно, мистер Сопуит, – ответила девушка, – она здесь!»
Сопуит! Так вот, значит, фамилия Кларенса.
– «Я боялся, – сказал я, – что забыл положить в папку свой адрес».
– «Адрес здесь, – ответила девушка, – Бичвуд, тысяча семьсот восемьдесят восемь?» – «Да, – сказал я. – Я сейчас зайду и заберу ее».
– Крамли! Ты гений!
– Не совсем. Я звоню тебе из будки рядом с «Браун-дерби».
– Ну и что? – У меня екнуло сердце.
– Папки нет. Кому-то еще пришла в голову та же светлая идея. И этот кто-то меня опередил. Девушка описала мне его. Это не Кларенс, судя по твоим рассказам. Когда девушка попросила у него документ, подтверждающий личность, этот тип просто ушел вместе с папкой. Девушка, конечно, расстроилась, но ничего не попишешь.
– О господи! – проговорил я. – Значит, теперь они знают адрес Кларенса.
– Хочешь, чтобы я пошел к нему и все это рассказал?
– Нет-нет. У него будет сердечный приступ. Он боится меня, но я все-таки пойду. Предупрежу, чтобы он спрятался. Боже мой, что теперь будет? Бичвуд, тысяча семьсот восемьдесят восемь?
– Точно.
– Ты суперкрутой чувак, Крам.
– Всегда таким был, – ответил он, – всегда. Странно сказать, но час назад народ на вокзале Венис решил, что я снова взялся за старое. Коронер позвонил мне и сказал, что клиент долго не продержится. Пока я работаю, ты помогаешь. Кто еще на киностудии может знать то, что нас интересует? Я имею в виду человека, которому ты доверяешь. Кто-нибудь из старожилов студии?
– Ботуин, – не задумываясь, ответил я и недоуменно заморгал, сам удивившись своему ответу.
Мэгги со своей миниатюрной камерой, которая день за днем, год за годом, жужжа, запечатлевает события вокруг себя.
– Ботуин? – переспросил Крамли. – Спроси у нее. И все же, Бастер…
– Что?
– Береги свою задницу.
– Берегу.
Я повесил трубку и сказал:
– Раттиган?
– Я уже завела машину, – отозвалась она. – Ждет тебя на углу.
36
Уже под вечер мы как угорелые помчались на киностудию. Припрятав в своем родстере три бутылки шампанского, Констанция смачно ругалась на каждом перекрестке и снова мчалась, припав к рулю, как те собаки, что обожают ветер.
– Дорогу! – кричала она.
Мы с ревом неслись по середине бульвара Ларчмонт, прямо по разделительной полосе.
– Что ты творишь?! – прокричал я.
– Раньше по обеим сторонам этой улицы были трамвайные пути. А посередине – длинный ряд столбов с проводами. Гарольд Ллойд[221] катался туда и обратно, лавируя между столбами вот так!
Констанция резко свернула влево.
– И вот так, и так!
Мы объехали так полдюжины давно не существующих столбов-призраков, словно преследуемые трамваем-привидением.
– Раттиган, – позвал я.
Она взглянула на мое серьезное лицо.
– Бичвуд-авеню? – спросила она.