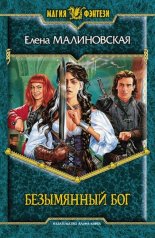Алатырь-камень Елманов Валерий
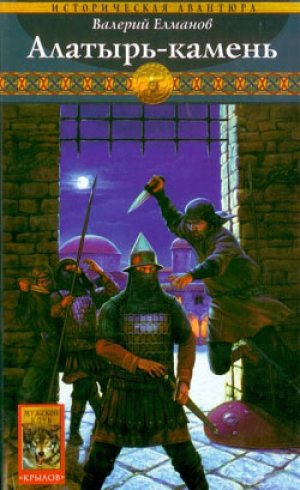
— Сланом люди добрые кличут, — откликнулся тот.
— А есть они здесь — добрые-то? — полюбопытствовал царь.
— Ты ныне у меня, считай, в гостях, так почто хозяев коришь облыжно?[110] — возразил атаман.
— Обидеть не хотел, — уступил Константин. — Однако земли эти мои. Получается, что и ты у меня тоже в гостях. К тому же я привык к тому, что добрые люди в градах да селищах живут, а не в лесу прячутся.
— Стало быть, доля такая. У меня тоже когда-то и дом был теплый, и жена славная, и дите народилось. Все в одночасье порушилось.
— И кто тому виной? — спросил Константин, продолжая присматриваться к собеседнику.
По виду тот на вятича не походил никаким боком. И нос не бульбочкой, а заостренный, и волосы не черные, а темно-русые, и бородка совсем небольшая, и одежа на нем дорогая, а сидела как влитая.
— Да что там долгие речи вести, — отмахнулся от вопроса Слан. — Ты мне лучше вот что скажи. Верно ли попы в селищах да в Карачеве сказывали, что ты всех татей миловать повелел?
— Если рудой человеческой рук не замарал, — уточнил Константин. — Только тогда поспешать надо. Ведь в грамотке моей и сроки указаны. Так что тебе на раздумье да на сдачу всего пара месяцев осталась.
— Руки мои чисты, — ответил Слан. — Так как ты с теми поступаешь, кто по доброй воле из леса выходит?
— По грехам их, — ответил Константин, окончательно успокоившись. — Вовсе без наказания тоже отпускать нельзя, иначе не по Правде оно будет. Однако и в порубе никого томить не собираюсь. У меня кара иная.
— Кнут и кат? — усмехнулся Слан.
— Зачем же так сурово? — возразил Константин. — Потрудиться надо для блага Руси. И не за гривны. Тем и полное прощение выслужишь.
— Ишь ты, — мотнул головой атаман. — Стало быть, двойную выгоду получить желаешь. И леса свои от нас очистишь, и холопов даровых себе обретешь. Ловко ты все измыслил.
— Ловко измыслил, говоришь, — повторил задумчиво Константин. — Как сказать. Скорее, в убыток себе. Сам прикинь. Придет ко мне гость торговый, коего ты обидел, и челом на тебя или на кого иного бить станет. А я ведь прощение уже даровал. Значит, виру за его обиду кому платить придется? Верно, мне. А за ним следом второй подойдет, третий, и всем им гривны надо отдать. Какая же это выгода? Скорее, убыток голимый.
— Тогда зачем ты нам прощенье объявил, коли оно тебе в убыток? — озадаченно спросил Слан.
— Хочу все дороги для купцов обезопасить. Чтоб даже девка с кулем серебра могла пройти где угодно, и ей никакого урона бы не было, — пояснил Константин. — А люд мне нужен не простой, а боевой, потому как трудиться придется в местах глухих, необжитых. Новые города хочу ставить на Дону, на Волге-матушке, на далеком Яике. А там ухо надобно востро держать. Племена в тех краях кочевые, дикие. Чуть зазевался — головы лишился. Либо сразу ссекут, либо в полон к басурманам угонят. Пока град не поставите, даже схорониться негде — степь кругом. Конечно, с вами и мои люди поедут, они к ратному делу привычные. Но будет их не очень уж много, иначе вовсе без воев останусь. Потому и хочу, чтоб каждый себя защитить смог.
— Не каждому такая жизнь по нутру придется, — протянул Слан.
— Не каждому, — согласился Константин. — Однако есть и другая работа, поспокойнее. Если отсюда все время на восход солнца идти, сразу за землями волжских булгар горы начинаются. Там народец поспокойнее будет. Опасаться нападения все равно надо, но если к ним с лаской, то и они к тебе по добру. Зато работа потяжелее. Земля в тех местах рудами богата, кои мне нужны. Поначалу задарма потрудитесь во искупление грехов своих, да отработаете то, что я вам в дорогу дам, а после, когда расплатитесь за все, можете хоть на все четыре стороны идти.
— Чем же платить-то повелишь? — поинтересовался Слан.
— А мне все едино, — спокойно ответил Константин. — Можно золотом, можно серебром, приму и железо с медью, могу и камни-самоцветы в уплату взять.
— И назад вернуться тоже дозволишь? — уточнил атаман.
— Если желание будет, — равнодушно пожал плечами Константин. — Только учти, что запрошу я с вас много. Не один год потрудиться придется.
— И сколь же берковцов[111] железа на каждого положишь во искупление? — поинтересовался атаман.
— По сотне, — коротко отвечал Константин. — Как привезете, так и все — отработали. Тот, кто там останется, станет за свои труды гривны от меня получать.
— Ежели я здесь из болота руду добывать бы начал, то больше пары берковцов за лето мне нипочем бы не извлечь.
— А ты что же, из рудознатцев будешь? — поинтересовался Константин.
— Коваль я, — пояснил Слан. — А ковалю без того, чтоб самому руду добывать, не можно.
— С тебя тогда и полсотни хватит, — скинул князь. — Твой труд подороже будет.
— Все едино два с половиной десятка лет на тебя спину гнуть придется, — усмехнулся атаман.
— Если из болота добывать — тогда да. А там в земле железа столько, что при удаче за одно лето рассчитаетесь, — обнадежил Константин.
— А коли не подсобит мне Авось?[112]
— Тогда за два-три, от силы — за пять.
— А не боязно тебе? Вдруг я соглашусь, а там, в местах глухих в бега ударюсь? — полюбопытствовал Слан.
— И будешь как волк всю жизнь в лесу отсиживаться, — улыбнулся князь. — Глупо оно как-то выходит. Тебе и здесь-то, близ болот жить надоело.
— А тебе почем знать? — грубовато перебил атаман. — То моя боль.
— Не надоело бы, так ты сейчас со мной не сидел бы, да про прощение не выспрашивал. Думаешь, не вижу я, как ты все прикидываешь? Тут и слепой по одним твоим вопросам учуял бы, что тебе твоя нынешняя жизнь хуже горькой редьки.
Словом, после долгих разговоров, обсудив княжеские предложения со своими людьми, Слан дал добро, но, узнав, что Константин едет в Киев, запросился вместе с ним.
— Ты же сам сказывал, что на работу и со всей семьей можно ехать. А у меня женка под Киевом осталась, — хмуро пояснил он. — А людишки мои — в том не сумневайся — боле никого не тронут. Да и редко тут кто ездит в зимнюю пору, — добавил он, подумав.
Поехал атаман не один — с ним увязался какой-то мальчишка.
— Я его зимой в лесу подобрал. Поводырем он был у слепого старца. С дороги они сбились. Старец совсем замерз, а этот крепким оказался. Мы его снежком растерли, так он вмиг оклемался и даже не кашлянул ни разу. Одно слово — Поземка. Так и ходит за мной с тех пор, как хвост привязанный. Да и кличут нас схоже, по-зимнему[113]. Он мне теперь как брат меньшой.
На суде, устроенном в близлежащей деревне, выяснилось, что Слан не лгал. Он и сам не убивал, и людям своим не позволял этого. Более того, они и брали в деревушках и селищах только самое необходимое, причем иногда, когда удавалось потрясти мошну проезжего купца, еще и расплачивались за взятое. Бывали случаи, когда они, сжалившись, сами одаривали какую-нибудь бедную вдовицу или убогую чету стариков.
«Ну прямо тебе Робин Гуд из Черниговского леса», — думал Константин, выслушивая свидетельские показания.
Прибыв в Киев, Слан немедля подался в свою деревню. Там он первый раз едва не попался монастырским служкам, однако успел вовремя уйти. Теперь же ему довелось повстречаться с бедой во второй раз, и убежать, как прикинул с тоской бывший атаман, навряд ли получится. Высок тын княжеского терема. Осилить-то можно, да, пока лезть будешь, десять раз стрелой снимут. Ворота тоже на запоре, да и ратников во дворе много. Одна надежда оставалась — на царя.
— Не в дружине он у меня, — сказал Константин. — Под Черниговом из лесу вышел, услыхав, что я татей милую, если они сами с повинной придут. А про резу… — он пристально посмотрел на Слана, который виновато опустил голову. — Про резу он, может, и сказывал, да мне не до того было.
— Ну что ж, в железа его возьмем да головой игумену за обиду отдадим, — сделал вывод Андрей Мстиславич.
— Не холоп я — смерд вольный, — не выдержал Слан.
— Какая разница, — зябко передернул плечами киевский князь.
Холодно становилось, потому и торопился он побыстрее решить дело, которое не стоило выеденного яйца.
— За обиду вира положена. Да ты и сам поди про это знаешь. Есть чем у тебя заплатить?
Слан опустил голову, потом с надеждой поглядел на Константина. А рядом с ним застыл Поземка.
Когда монах бил челом на Слана, мальчишка стоял поодаль. Поначалу он кинулся к названому брату, а потом, сообразив, что помочь сможет только Константин, метнулся за ним.
Вообще-то, не стоило из-за таких пустяков ссориться с хозяином терема, ох не стоило. К тому же виноват был Слан перед Константином, утаив кое-что, и, как оказалось, немаловажное. С другой стороны, просто так лишаться кузнеца и нарушать свое слово было тоже нежелательно.
— Погоди, Андрей Мстиславич, — остановил Константин князя. — Он за обиду настоятеля и так наказан — дальше некуда. Жена его вместе с сынишкой малолетним живота лишились. Между прочим, по повелению того же игумена, который их на мороз с твоего благословения выгнал.
— То божий суд был, — не согласился киевский князь. — А на земном гривны уплатить надобно.
Чувствуя себя хозяином положения, киевлянин приосанился.
— А почто ты так рьяно заступаешься за него? — осведомился он у Константина. — Последнее дело — божьих людей забижать. Опять же, зубы он повышибал монаху. За одно это с него по Правде русской дюжину гривен надлежит взыскать, да самому страдальцу гривну выложить.
— Так ведь он хоть десять лет в твоем порубе просидит, но ни куны единой не заплатит, — не сдавался Константин. — А я готов сегодня же их отдать. Согласен, Февроний? — обратился он к монаху.
Тот замялся. Ох, не одобрит строгий игумен, если монах согласится на это. Но и то рассудить — ежели Слана в княжеский поруб отправят, то монастырю от этого и вовсе никакого прибытку не будет.
— Дак я, как отец Александр скажет, — промямлил он.
— Здесь его нет, а ждать нам недосуг, — заявил киевский князь.
Если бы Константин приехал к нему попросту в гости, он еще поупирался бы. Очень уж ему не по душе такое поведение пришлось. «В моих вотчинах моих же смердов под свою заступу берет, да еще из тех, кто уличен в татьбе, — сопел он мрачно, размышляя, как быть. — И ведь не уступает, будто я здесь и вовсе никто. А супротив становиться из-за пустяшного дела тоже ни к чему. Ну кто я ныне? Одно название, что князь, а на деле — подручник. Может, если здесь уступлю, так он в остальном не так суров будет. А-а, ладно», — и уже вслух произнес:
— Ну, быть посему. Коли он из вольных смердов, стало быть, надлежит с него взыскать…
— У меня он не один — три зуба выбил, — пискнул Февроний, чувствуя, что дело клонится явно не в его сторону. — Да и от четвертого корешок один остался.
— Пятнадцать гривенок, — заключил Андрей сердито. — И еще половинку. За корешок, — пояснил он.
Дружный хохот дружинников, стоящих за его спиной, которым явно пришлись по душе последние слова киевлянина, чуть приподнял настроение озябшего Андрея Мстиславича.
Он и сам заулыбался, подбоченился, добавив с улыбкой:
— Пока не вынесут гривны — все едино в поруб стервеца, — и покосился на Константина — мол, как я повелел поначалу, так оно и будет.
Однако тот ничем не выказал своей досады, лишь произнес ровным тоном:
— Стало быть, не веришь ты мне, Андрей Мстиславич.
Киевский князь побагровел, однако нашел что сказать:
— То для порядку. Не нами заведено. Исстари тать до уплаты гривен в порубе сиживал. А коли тебя жаль такая разбирает, то сам и озаботься, чтобы он там часу лишнего не просидел.
— Ну что ж, я озабочусь, — многозначительно пообещал Константин.
Расторопный царский казначей, мгновенно уловив все одними глазами, в считанные минуты выложил Андрею Мстиславичу положенную сумму.
Однако после получения гривен настроение киевского князя не улучшилось, а скорее ухудшилось. Виной тому была надпись, вытесненная на реверсе каждой тяжеловесной монеты: «Царь и Великий князь всея Руси Константин I».
«Да кто ты таков?! — жгла князя Андрея обида. — Твоего пращура сто лет назад даже не из Киева, а из Чернигова родной сыновец выгнал[114]. Теперь же вишь как голову задрал. С чего бы? И что далее от тебя ожидать?»
Не угомонившись, он повелел немедленно найти на Подоле купцов, обиженных Сланом, каковых сыскалось аж пятеро. И снова пришлось Константину выгораживать бывшего атамана, разбираясь с каждым из них. После тщательного допроса выяснилось, что на самом деле разбойник причастен к грабежу только троих и все они, по счастью, были средней руки, то есть имели с собой не так уж и много добра.
Но все равно после окончательного подсчета товаров, которые тот у них позаимствовал, вышла кругленькая сумма в шестьдесят гривен. Константин, почесав в затылке, покосился на бледное лицо Слана, напряженно ожидавшего решения государя, и, подумав себе в утешение, что он попросту дает кредит, хотя и весьма долгосрочный — лет на десять, не меньше, наконец махнул рукой.
— Я сказал, что милую, а назад слово государю брать негоже, — произнес он внушительно.
Лицо Андрея Мстиславича при этих словах исказилось от досады. Он промолчал, но в душе пообещал себе, что если встретится с этим татем на узкой дорожке, то все равно ему не сносить буйной головы.
И не знал киевский князь, что через три года судьба, криво ухмыляясь, как она это умеет, предоставит ему такую возможность, но совсем при иных обстоятельствах.
Слан, поставленный десятником над своими же товарищами из числа бывших разбойничков, с лихвой оправдал все те гривны, которые выложил за него Константин. Если бы не он — не видать бы царю первого каравана с добытым железом, который Минька решил опрометчиво сплавить по стремительной Чусовой. Тяжелогруженые баржи, которые отличались от плотов лишь срезанным спереди носом да еще небольшим бортиком по краям, непременно разбило бы вдребезги. Во многом именно благодаря Слану этого не случилось.
Горный участок Чусовой, тянувшийся на четыреста верст, и впрямь был страшен. Достаточно сказать, что знаменитые днепровские пороги выглядели невинной забавой по сравнению с теми ужасами, которые таила Чусовая. Скалы кое-где так низко нависали над самой рекой, что в ту первую поездку с плота вообще снесло небольшой навес, устроенный для отдыха.
Первая скала, прозванная Крепостной, потому что в точности походила на крепостную стену, встретила баржу Слана снисходительно, позволив ему увильнуть в сторону, зато потом его поджидали сразу две. Одна из них нависала над самой рекой, выступая в нее каменным острым ребром. Опасность заключалась еще и в том, что течение, которое отбрасывала от себя первая скала, несло баржу — если она уцелеет к тому времени — прямиком на вторую, расположенную следом за ней, но уже на противоположном берегу.
Сама река делала здесь два крутых изгиба, напоминавших латинскую букву S, причем скалы стояли как раз в местах этих изгибов. Остановившись на ночлег недалеко от них, Слан день-деньской наблюдал за своенравной рекой и стремительным течением, пока не пришел к выводу, что надо перерезать струю воды и круто выворачивать, но не раньше, чем баржа окажется у самой первой скалы. Риск врезаться с ходу в ее выступающее ребро оставался неимоверным, но иного выхода не было.
А кроме них чуть дальше по течению была и еще одна пара скал, одну из которых Слан окрестил Молочной за то, что река, обрушившись на ее покатое ребро, поднималась по нему вверх на добрый десяток саженей, после чего скатывалась, превращаясь в кипящую молочно-белую пену, которой было наполнено все пространство реки на этом участке. Сила удара была такая, что сразу за этой скалой образовывалась суводь[115].
Сколько Слан ни пытался разглядеть, что творится на дне, есть ли подводные камни, но увидеть ему так ничего и не удалось. Все скрывалось в бешено кипящем «молоке». Пришлось пойти на риск и применить прежнюю тактику, которая принесла спасение чуть раньше.
Баржа неслась, устремив нос на каменный гребень, который поджидал жертву. За ревом воды ничего не было слышно, но каждый из людей, находившихся на барже, и без того знал, что им делать. От неимоверного напряжения трещали мышцы, но никто не выпускал из рук шеста, багра или весла. Сам Слан сражался с непослушным правилом[116], которое злая вода со всей своей буйной силой выворачивала из его рук.
Казалось, что все, конец, но в самое последнее мгновение, рыча от ярости, Слан сумел все-таки совсем немного вывернуть правило, и этой малости хватило, чтобы баржа, скользнув совсем рядом с каменным ребром, изменила движение и свернула в сторону. Дальше тоже было тяжело, но уже не так. К тому же победа придала людям сил, и сплавщики, воодушевленные первым успехом, сумели справиться и с остальной напастью.
Но лишь под вечер, когда сделали привал, до Слана с трудом дошло, что, как ни странно, и он, и его спутники до сих пор живы.
Впрочем, его испытания на этом не окончились. Хорошо, что бывший атаман привык во всем проявлять предусмотрительность и вовремя прикупил у булгар лошадок, которых потом впрягли в длинную упряжь, чтобы они тащили баржу против течения.
Теперь людям приходилось надрываться лишь тогда, когда они стаскивали баржу с очередной мели, которых оказалась тьма-тьмущая. Первая попалась им на пути, едва они миновали устье Камы и медленно двинулись вверх по Волге.
Опыта не было, а потому все изрядно намаялись, стаскивая тяжелогруженую баржу с песчаного дна, потеряв целых три дня. Да и дальше было немногим лучше. Пока человек, стоящий на носу, промерит глубину, пока докричится береговым, которые правят лошадьми, глядь — опять влипли.
Особенно тяжко пришлось с последней мелью, на которую они сели в каких-то четырех-пяти верстах от Нижнего Новгорода. Замерщик глубин расслабился, залюбовавшись на вырастающие высокие стены города, вот и налетели они с маху на мель. Да еще лошадки «подсобили», по инерции протащив баржу на несколько саженей вверх, чтоб надежнее сиделось.
Подвернулись бы под руку местные жители, конечно, подсказали бы, что близ острова Телятинский есть очень коварный перекат. Но спросить было некого, и потому на Телячьем броде перевозчики железа проторчали чуть ли не полторы недели.
Да и потом, уже на Оке, им тоже довелось несладко. По хорошей высокой воде, зная каждое опасное место, Слан через десяток лет добирался от Нижнего Новгорода примерно за три седмицы, а иной раз, когда все было удачно, укладывался и в две. В первый же раз дорога заняла гораздо больше времени — чуть ли не два месяца.
Ко всему прочему добавлялась удушающая жара, которая почти не спадала и ночью. Пожалуй, никогда ранее Слану не доводилось так вымотаться, как во время этой перевозки. Речь не идет о тех временах, когда он со своими лесными удальцами сиживал в лесах вятичей. Там все мимолетно — схватка с купеческим караваном и его охраной быстротечна. Но даже когда он крестьянствовал, и сев, и сенокос, и жатва обходились ему намного меньшей потерей сил и нервов.
После того как он доложился Константину, стыдно сказать, он еле стоял на ногах и чуть ли не уснул на пиру, который в честь прибытия первого каравана с уральским железом закатил государь. А уж когда царь отпустил Слана на отдых, распорядившись ни в коем случае не будить его, пока тот сам не проснется, бывший атаман продрых чуть ли не двое суток.
— Что ж ты не упредил меня, батюшка? — попрекнул отца Святослав.
— А что бы изменилось? — пожал плечами Константин и лукаво осведомился: — Или ты как-то иначе себя с ним вел?
— Ну-у-у, я не знаю, — несколько озадаченно протянул царевич, но после некоторой паузы возразил: — Я так мыслю, что можно было и не спешить его одаривать за привезенное железо. Ты и так за него вон сколь гривен выложил, когда из поруба выкупал. И потом, ты вроде бы всех в тот день за иное награждал — за удаль ратную, за мастерство воинское. Нешто он такой награды заслуживал? — и вопросительно посмотрел на отца, который загадочно улыбался.
И что удивительно — точно такая же загадочная улыбка блуждала на лице воеводы Вячеслава, вошедшего к ним незадолго до окончания рассказа о Слане и теперь сидевшего напротив Святослава.
Царевичу стало даже обидно. Выходит, они знают о бывшем атамане шатучих татей что-то такое, о чем ему, будто несмышленышу какому, знать не положено. А разве он дите неразумное?! Почитай, три с половиной десятка лет на белом свете живет и доселе все поручения государя исполнял справно и с великим тщанием.
Глава 11
Хоромы за бесценок
— А я его не за это одарил, — наконец вымолвил Константин, отвечая на вопрос Святослава. — За железо он от меня коня получил, ну и так кое-что по мелочи. Тут дело в другом.
— Неужто его заслуга столь велика была? — уточнил царевич.
— Более чем, — ответил за царя воевода.
— Ой, — вдруг хлопнул себя по лбу царевич и радостно заулыбался. — Вспомнил! За поимку…
— Я понял, о чем ты хотел сказать, но за такое лишь медаль положена, — поправил его Константин. — Награда Слану за другое дадена. Хотя и поимка ему тоже зачлась.
— А я почто не знал об этом? — слегка обиделся Святослав. — Он что же, поручение твое выполнял, или как?
— Да ты не спрашивал, а мне не до того было, — пояснил Константин. — Да и не было никакого поручения. Как-то оно само собой получилось.
— Повезло ему, стало быть? — уточнил Святослав.
— За везение наш государь ордена не раздает, — улыбнулся воевода. — Да и не каждый так использует это везение. Удача — птичка проворная. Чуть зазеваешься, она мигом из рук выскочит. Да еще и понять надо, как ее ухватить половчей. У Слана это хорошо получилось.
Когда первый караван с железом прибыл в Рязань, на дворе стояла уже осень. Бабье лето в этом году, словно компенсируя необыкновенную жару предыдущих месяцев, закончилось необыкновенно рано, и солнце вот уже неделю вовсе не проглядывало из-за низко нависших туч. Сильных дождей пока не было — так, моросило слегка, но все шло к тому, что не сегодня-завтра начнется затяжная непогода.
Возвращаться в это время обратно на Урал нечего было и думать, и Слан попросился в Киев, повидаться с родичами. Тревожила забота за отца с матерью, за меньшую сестрицу, прозванную в тон самому Слану Вьялицей[117].
Константин не только охотно отпустил его, но и помог, причем не только гривнами, но и конем. Выведенные из царских конюшен жеребцы были и впрямь хороши по всем статьям. Такие пришлись бы впору не только обычному дружиннику или, скажем, сотнику, но и тысяцкому.
— Выбирай сам, — кивнул в их сторону Константин. — Любой из них твой. Хочешь — рыжий, хочешь — вороной.
— И чалый? — недоверчиво спросил Слан.
— Я же сказал — любой, — повторил Константин, и Слан, сам не веря счастью, выпавшему на его долю, на негнущихся ногах медленно двинулся к стройному жеребцу с серебристой гривой.
Взамен государь попросил о небольшом пустячке — передать грамотку купцу, живущему на Подоле. От селища, куда собирался Слан, до самого Киева было не столь далеко, всего-то верст пятнадцать, а то и меньше — кто их там мерил, так что выполнить просьбу не составляло труда.
Если бы не поджимало время, то Константин не стал бы так рисковать своими людьми, посылая к ним не до конца проверенного человека, но необходимо было срочно выяснить, что именно замыслили против него киевский и смоленский князья вкупе со своевольными новгородцами, а вестей все не было и не было. Те же, что приходили, были самого общего характера — да, недовольны, да, ворчат, вот и все новости.
Но если уж даже Ингварь Ингваревич и его брат Давид вместе с переяславскими Константиновичами морщились от нововведений Константина, то от остальных князей следовало ожидать бунта.
Каждый князь, согласно царскому повелению, мог иметь дружину любой численности. Но если число воинов превышало пять сотен, то «лишних» предстояло кормить самому князю. К тому же в случае каких-либо боевых действий главным начальником и над ними, и над самим князем был царь.
Мало того, с налога, который вводился в городах, князь не получал ни единой куны. Все деньги уходили на содержание ополчения, которое по-прежнему дважды в год собирали на учебу царские воеводы. Сюда входило обеспечение продовольствием, вооружением и конями.
Все остальное шло на благоустройство самого города — обновление крепостных сооружений, строительство дорог и мостов, чистоту улиц, расходы на медицину, образование и дома призрения для сирот и стариков, а также общественные склады, где должен был храниться месячный запас продовольствия на случай вражеской осады или какой иной беды.
Правда, царь тоже ничего не получал, но князей это радовало мало. Особенно их задевало то, что теперь все судебные и торговые пошлины целиком шли в царскую казну. Местным владетелям доставались только доходы с сел, но и тут имелись ограничения. Собирать их повелевалось царским тиунам, поскольку, как было сказано в указе, княжеские холопы счету правильного не ведают, дерут со смерда с лихвой, а царю и положенного не дают, ссылаясь на недород.
По счастью, церковь приняла новшества как должно. Правда, накануне подписания указа Константин имел весьма бурную беседу с патриархом Мефодием, которому тоже не очень-то пришлась по душе окончательная ликвидация судебного права церкви, особенно в делах наследственных. Суть вопроса была не во власти, а в деньгах.
К тому же Константин отобрал у божьих радетелей не только задницю[118], но и вообще все, вполне резонно заявив, что дело священников — проповедь, а монахов — молитва за Русь. Теперь суду церкви подлежали только духовные лица, а миряне, покаявшись в грехах, могли получить лишь епитимию в виде строгих постов, чтения определенного количества молитв и прочего, но никак не по финансовой линии.
Вдобавок государь наложил на всех без исключения священников обязанность вести строгий учет рождений, смертей и браков, а также обучать детей.
Возможно, им так и не удалось бы договориться ни до чего путного, но в конце разговора Константин показал Мефодию текст нового уголовного законодательства, в котором было предусмотрено очень жесткое наказание за святотатство.
Это касалось всех религий, но православная церковь получала льготу — «право первого проступка». Заключалось оно в том, что наказание для того же священника следовало со стороны светских судей только за его вторую вину, а за первую, разумеется, при условии, если она незначительна, человек выдавался церкви головой. Определенное наказание при этом лишь рекомендовалось, оно не было обязательным.
Суровым было наказание и за кражу церковного имущества, если речь шла о предметах религиозного культа. Это тоже расценивалось как святотатство. В отличие от обычного вора, который мог отделаться на первый раз вирой, похитителю святынь полагалось отсечь левую кисть.
Каждому из священников за строгий учет народонаселения своего прихода ежегодно полагался рубль, то есть рубленая половина гривны. А за обучение детей священнику, диакону или монаху причиталось от царя по полторы гривны серебром ежегодно, не считая оговоренного количества продуктов питания и даже дров.
Прикинув, во сколько это обойдется Константину, патриарх резко осекся и далее спорить не стал.
Пожалуй, раздолье было только у купцов. Транзитникам был гарантирован свободный и безопасный проезд по Руси всего-то за одну двадцатую часть стоимости их товаров, причем пошлина взималась только один раз на протяжении всей дороги.
Помимо этого они должны были уплатить еще и так называемое «царское слово». Оно стоило вдвое дороже — десятую часть цены товаров, зато — неслыханное ранее дело — купец получал гарантию, что его по пути не обворуют и не ограбят, а если все-таки это произойдет, то царские слуги не просто отдадут обратно взятые гривны, но и оплатят всю стоимость украденных товаров. Таким образом, выкладывая в царскую казну достаточно большие суммы, купец зато изрядно экономил на своей охране.
В перспективе была намечена и еще одна пошлина — морская. Ее надлежало платить за сопровождение купеческих караванов русским военным флотом. Его еще не было, но строительство судов велось вовсю.
Кроме того, каждый из купцов мог положить свои деньги в царскую казну на сохранение. Правда, в отличие от современного банка они сами платили процент за их сбережение, но крайне незначительный. С каждой сотни гривен взымалась одна, а если их количество было велико, то и того меньше. В случае же, если купец по каким-либо причинам не востребовал свое серебро спустя год, то плата за последующее время хранения снижалась вдвое.
Но это все для купцов, а вот князья… По сути дела, гордые Рюриковичи были уравнены в правах с командирами царских полков, то есть тысяцкими, в отношении селян имели меньше прав, чем тиуны, а горожан не могли даже судить.
Один за одним следовали царские указы. Иные вроде бы на практике и не ущемляли права гордых Мономашичей и Ростиславичей, как, например, запрет на чеканку собственных монет, потому что этим на Руси перестали заниматься лет за сто до Константина, даже в Киеве, а все ж таки им становилось обидно.
Что уж там говорить о запрете взимания дани со своих подданных. Отныне на это имели право только царские тиуны. Нет, князей не лишали доходов. Все было четко исчислено — с этого селища полагается взять столько-то мяса, шерсти, зерна и прочего, стоит оно столько-то, царская доля такая-то, стало быть тебе, киевский князь, причитается, к примеру, шесть гривен. Да с другого селища пяток, да с третьего — семь. Если брать все вместе — сумма набегала изрядная и как бы даже не побольше, чем если бы они сами взымали свою долю.
НО! А власть-то где? Где упоение приезда в деревеньку, в которой все суетятся и бегают, где наслаждение от подобострастных поклонов тиунов и старейшин, где ощущение собственного величия при виде униженно согнутых спин крестьян?! Нет ничего этого.
Да что там рассуждать о смердах, когда теперь князь был не волен в посмертном распоряжении собственной отчиной, в случае, если умирал бессыновним. Тут же все его земли объявлялись выморочными и делились между его братьями, если таковые сыщутся. Ну а коли нет братьев, то все полностью переходило к царю, за исключением долей, выделяемых на его вдову и незамужних дочерей.
Словом, были Рюриковичи, а стали… Да бог весть кем стали. И такое терпеть!?
Новгородцев же особенно сильно возмутили налоги. Получалось, что теперь они не имеют права собирать дань с давным-давно примученных племен, живущих на северо-востоке этой феодальной республики, а лишь получают часть доходов с нее, причем тоже строго определенную.
А ведь именно оттуда валила на Русь львиная доля всей пушнины, именно с Биармии или Великой Перми качали тороватые новгородцы свое серебро, которое потом удваивалось и утраивалось на иноземных рынках.
И такое терпеть?!
Вопреки обыкновению здесь Константин даже не пытался как-то смягчить свои указы и повеления, замаскировать их, завалить ворохом ласковых слов, спрятав под ними всю жесткость. Реально сознавая, что любой удельный князь уже по одному своему положению — мятежник, он, напротив, стремился к тому, чтобы разрешить все вопросы с помощью оружия и армии, но при этом не хотел начинать первым. Пусть все затевают они, тогда у него самого совесть останется чиста.
Время мятежники выбрали самое что ни на есть удачное. По всем полям Северо-Восточной Руси, включая Муром с Рязанью, в прошлое лето прошла жесточайшая засуха. Бедствие было настолько сильным, что оно даже получило отражение в русских летописях.
Некие люди, начиная с самой зимы, бродили по Руси, суля обитателям селищ — в города они не заходили — еще большие страхи и ужасы, ибо ныне сидит на великом столе царь Константин, который возвеличился не по праву, то есть не по дедине и не по отчине.
Спасение же здесь только в одном — немедля скинуть его с престола, отказаться от повиновения ему, и все в том же духе. Народ слушал, но бунтовать не торопился. Царские тиуны, выполняя повеление Константина, перед тем как собирать в начале зимы дань, всюду зачитывали его указ, согласно которому государь, видя тяготы и бедствия смердов, вдвое урезал поборы.
Впрочем, из этого подстрекатели тоже пытались извлечь выгоду, заявляя, что если бы царь истинно радел за свой народ, то он вовсе освободил бы его от дани. Однако Константин предвидел и это. В указе пояснялось: «А вовсе без дани царю никак не быти, ибо воев, кои есть ваши же сыны, внуки, мужи и братья, кормить вовсе нечем станет, и от сего всей Руси убыток немалый будет».
Но новоявленные агитаторы имели в запасе и другие аргументы.
«То, что царь на престоле сидит не по праву, — это еще полбеды, — утверждали пришлецы. — А вот то, что он в черных далеких лесах тайно молится чужим нехристианским богам, вознося им кровавые жертвы, — совсем беда. Такого ни богородица, ни Христос никогда ему не простят, и близок час великой кары, которая обрушится с неба не только на него одного и весь его род до седьмого колена, но и на всех его верных слуг. Засуха же — только начало этой самой кары. Да мало того, что он сам от Христа отшатнулся, так он еще и весь народ хочет в латинскую веру свести и уже были у него посланцы папы римского».
Словом, всплывала старая сказка на новый лад, но на сей раз она не была лишена правдоподобия. Послы от папы действительно приезжали, и предложение Гонория III признать верховную власть римского престола поступило на самом деле.
Причем на сей раз Гонорий, сознавая, как возросла за последнее время мощь Руси, не поскупился на обещания. В случае, если Константин склонит свою выю и поцелует папскую туфлю, ему была обещана аж императорская корона.
Изустно папский легат и глава могущественного доминиканского ордена Раймундо Пеннафорте тонко намекнул, что, учитывая, сколь напряжены отношения папы с императором Священной Римской империи Фридрихом II, можно уже сейчас обговорить условия, на которых Константину позволят сместить Фридриха и занять его место.
Что и говорить — соблазн был велик. Гонорий и его советники знали, что предложить русскому государю. Девять из десяти человек непременно дали бы согласие на такую во всех отношениях выгодную сделку. Но, к великому сожалению папы и его легата, Константин был как раз тем самым десятым.
Он отказался, причем сделал это прилюдно, дав ответ, вопреки обыкновению, не в покоях царского терема, а при всем честном народе, на центральной площади Рязани, чтобы никто не мог его впоследствии обвинить в тайном сговоре.
Хотя и тут он немного слукавил. Крестовый поход на Русь — это серьезно, особенно с учетом угрозы, нависшей с востока. Поэтому предварительно он вызвал к себе Раймундо Пеннафорте и в разговоре один на один посетовал, что народ его еще темен и невежествен, а посему, дабы он добровольно и искренне принял свет истинной веры, идущей из Рима, надо работать и работать.
И пусть посланец римского папы не думает, будто сам Константин сидит здесь сложа руки. Кое-что он уже сделал. Так, например, царь добился абсолютной независимости своей церкви от византийской, чтобы в нужный момент константинопольский патриарх ничего не смог предпринять против предполагаемой унии.
Однако трудов еще предстоит немало, и потому какой-либо более предметный разговор на эту тему преждевременен. Так что пусть он и римский папа не обижаются, а поймут все правильно, когда завтра получат от него отказ.
Может быть, легат и не обиделся, но на обратном пути, как стало доподлинно известно, он зачем-то задержался в Киеве и имел там несколько приватных бесед с князем Андреем. О чем они говорили, выяснить не удалось.
Тем не менее создавалось впечатление, что киевскому Андрею, его брату Всеволоду, сидевшему на княжении в Новгороде, и смоленскому князю определенных договоренностей достичь удалось.
Позже стало известно, что заговорщики посулили немалые территории венгерскому и датскому королю, а ярлу Биргеру — да-да, тому самому, который должен был в официальной истории высадиться в устье Невы, — обещали огромную добычу, ну и кусок Прибалтики.
Расчет был еще и на то, что весной изможденным людям и половинная дань покажется непомерной. К тому же голод озлобляет. Это на Руси тоже было хорошо известно. Для чего дворовую собаку никто не кормит досыта? Для пущей злости!
Опять же основная сила Константина — в пешем войске, а его раньше окончания сева не собрать. В дружинах же у обеих сторон полное равенство и как бы даже не преимущество мятежников, обеспеченное главным образом за счет иноземного воинства — венгерских, шведских и датских рыцарей.
Да и у пешцев. Стойкость смоленских и новгородских полков общеизвестна. Последним по такому случаю было обещано возместить втрое против того, что они не вспашут и не соберут, и еще возвращалось право собирать дань с огромной северо-восточной территории, совсем недавно принадлежавшей господину Великому Новгороду. О-о-о, новгородская верхушка все уже давно подсчитала, и не раз. Одна дань дорогого стоила, суля за первый же год не просто окупить незасеянные поля, но впятеро превысить стоимость невыращенного хлеба.
Да, придется тяжко. Земля после снегов толком еще не просохнет. Даже людям, привычным к весенней распутице, будет вязко, а про коней и говорить нечего. Выбирай не выбирай относительно просохшие участки пути, но все равно кое-где бедные лошадки утонут в грязи по самое брюхо. Заговорщиков утешало лишь то, что эта помеха одинакова для всех и создаст препятствия не только их воинству, но и дружинам Константина.
Словом, сейчас или никогда, поскольку еще три-четыре года — и рязанец войдет в такую силу, что его уже ничем и никак с трона не сковырнешь.
Ничего этого Константин толком не знал. Его люди, включая того же Любомира, сидевшего в Киеве, имели подходы к княжескому терему и своих доверенных людей в нем самом, но все они были далеко не из ближнего круга, а потому ничего путного сообщить не могли.
Заговорщики учли и то, что царь, даже в бытность свою рязанским князем, непозволительно много знал о том, что происходит в Киеве, Галиче, Смоленске и так далее. Позволить ему теперь эту роскошь было никак нельзя, так что все переговоры либо велись в уединенных и совершенно недоступных местах, либо письменно, через гонцов, которых тоже отправляли с большими предосторожностями.
Однако всего не предусмотришь. Как ни старайся, все равно случайность, подобно шустрой проворной мыши, найдет щелочку, чтобы забраться в хранилище тайн, а уж там как повезет.
Так уж случилось, что аккурат перед селищем Слана и именно в то время, когда он там уже гостил, захромала лошадь очередного гонца, который ехал из Киева в Смоленск с тайной грамоткой. Пускаться в дальнейший путь всего с одной лошадью, не имея сменной, было неразумно, а возвращаться обратно в Киев тоже желания не было. К тому же боярский сын был на редкость суеверен и хорошо помнил примету, которая сулила всяческие беды тому, кто вернется с полпути.
Гривны у гонца имелись, но неказистые лошади смердов с отвислым крупом, выносливые на пашне, но не быстрые в беге, его не устраивали. Опять же если бы он был из простых дружинников, тогда еще куда ни шло. Но гонец Бухтень происходил из славного боярского рода Немитичей, которые верой и правдой служили еще прадеду теперешнего князя Ростиславу Мстиславичу[119] и его деду — буйному и неукротимому нравом Рюрику Ростиславичу[120], несколько раз въезжая вместе с ним в Киев. Так что умалять свое достоинство, садясь на лядащую крестьянскую кобылу, ему очень не хотелось.
Всю жизнь он изо всех сил стремился к тому, чтобы люди обращали внимание на его ум и прочие душевные достоинства, а не на телесные изъяны, из-за которых он и получил столь обидное прозвище[121] еще в глубоком детстве. Теперь у него была замечательная возможность отличиться перед юным смоленским князем, и упускать ее из-за досадной случайности с захромавшей кобылой Бухтень не собирался.
Не будь у Слана красавца-коня, гонец, оказавшись на безрыбье, прихватил бы какую-нибудь из деревенских лошадок, но он уже приметил жеребца, который подходил ему как нельзя лучше, и решил во что бы то ни стало купить именно его.
Слан поначалу и слушать не хотел о продаже, но, когда словоохотливый Бухтень разговорился, убеждая его в важности своей миссии, призадумался и пригласил его в хату. Не зря Константин предупредил Слана еще перед его отъездом на родину, чтобы тот был поосторожнее. Грамотку, мол, повезешь тайную, так что держи ухо востро.
— Да и вообще зол киевский князь на моих людей, — добавил Константин. — Так что ты там помалкивай, что у меня на службе. Чую, что там скоро гроза разразится, что в Киеве, что в Смоленске, вот только когда именно — пока неведомо. А отца с матерью, и сестру ты лучше с собой забери, когда уезжать станешь. Так-то оно поспокойнее будет. Да и сам… стерегись.
Потому Слан и решил выведать, что везет гонец и кому. Может, как раз об этой грозе и идет речь в послании, которое приказано доставить Бухтеню?
Дальнейший разговор проходил уже за столом, где пили много и старательно. Бухтень надеялся уломать собутыльника, склонив его к продаже жеребца, а Слан задался целью выведать, зачем тот ехал в Смоленск и к кому.
— Ежели бы я точно знал, что мой конь тебе для дела нужен, тогда конечно, — лениво цедил хозяин хаты. — А так, чтоб перед девками покрасоваться, нет, не продам.
— Да я… да мне… — пыжился боярский сын. — Жаль, не могу сказать, с чем я еду и что везу, а то бы ты мне его и вовсе даром отдал бы. Одно поведаю — нельзя мне без заводной лошади. Путь больно уж дальний.
— То, что не можешь сказать, — понимаю, — гнул свою линию Слан. — Это хорошо, что имя зазнобы попусту трепать не желаешь. А с чем — оно и так ясно. Плат поди шелковый ей везешь или колты баские — вот и вся разгадка.
— Да какая зазноба?! — возмущался Бухтень, когда опустела вторая братина. — Сказано же, далече мой путь лежит. Аж в Смоленск. И нет у меня никаких колтов и никакого плата.
— Смолянки — бабы справные, — соглашался Слан. — Помню, была как-то у меня смолянка, ох и жаркая деваха. А что колтов ей ты не купил, тоже правильно. Избалуешь бабу, после хлопот не оберешься.
После третьей опустевшей братины Слан знал не только то, к кому именно едет гонец, но и зачем, а после четвертой непременно увидел бы самое веское тому доказательство — грамоту, если бы гость, окончательно окосевший от хмельного меда, сумел справиться с шапкой, в которую была вшита грамотка. Но он не вовремя заснул, и Слану пришлось лезть за ней самому.
Добрый десяток минут ушел у хозяина дома на разглядывание вислых шнурков и тяжелой свинцовой печати с глубоким оттиском, чуть невнятным у правого края. Еще почти столько же времени он потратил на раздумье о том, что делать дальше.
Затем, выйдя во двор и посмотрев на солнце, которое едва повернуло на убыль, Слан пришел к выводу, что попытаться можно, и решительно оседлал своего жеребца, заодно прихватив и каурую кобылу гонца.
До Киева он добрался споро. Купец, который был ему нужен, уже покинул свою лавку, и Слану пришлось поискать его дом. Вопреки ожиданию Слана, тот лишь кивнул в ответ на сбивчивые пояснения бывшего атамана о том, что грамоту надо непременно вернуть, причем неповрежденную, завел его в какую-то тесную клетушку, где сильно пахло восточными специями, и, предложив обождать, куда-то исчез.
Ждать пришлось долго. Слан успел не только известись от волнения, но даже успокоиться и немного подремать вполглаза. Впрочем, когда дверь скрипнула, он встрепенулся, но тут же разочарованно вздохнул. Вошел не сам купец, а его здоровенный толстый подручный, то ли Любослав, то ли Любомудр — Слан не запомнил.
— Вернуться к утру успеешь ли? — спросил тот озабоченно.
— Лишь бы ворота не закрыли, — угрюмо проворчал Слан. — А что, неважнецкая грамотка оказалась? — разочарованно спросил он. — Вон, даже не вскрыли ее. А я чуть лошадей не загнал.
— Очень важная, — кивнул здоровяк. — А коли не видно, что ее вскрывали, так оно и хорошо. Ты лошадок своих не запали, чтобы гонец чего не приметил. Скачи на наших. Я тебе самых лучших дам. А в селе ты их схорони, чтобы Бухтень не приметил. Жалко чалого своего продавать? — усмехнулся он, проницательно глядя на Слана.
— Чего греха таить, не хотелось бы. Да и ни к чему поди теперь, а? — оживился он.
— Придется, — сурово произнес подручный. — Но ты не горюй, — тут же ободрил он помрачневшего Слана. — Наших возьмешь взамен. Будет у тебя две лошади вместо одной. А они, ты уж поверь, ничем не хуже. Тебе теперь о другом надо думать — как успеть, пока он не проснулся. Ну и завтра подержи его у себя.
— Сызнова упою, — уверенно кивнул Слан. — Лишь бы кун хватило. Но ради такого дела можно и одну из ваших лошаденок продать, коль ты их мне…
— Лошади — это подарок. Продавать их не надо — сгодятся еще, — перебил его подручный. — Да и не дадут тебе за них в селе хорошую цену. Вот возьми, — он протянул мешочек, в котором что-то увесисто звякнуло. — Здесь три киевских гривны. Все село упоить хватит. Вот только оставаться тебе там не след — мало ли. Лучше собирайся да езжай обратно в Рязань.
— Так я еще… — заикнулся было Слан, но натолкнулся на холодный прищур серых глаз с голубоватой льдинкой внутри и умолк. Было в этих глазах что-то такое, против чего не хотелось ни возражать, ни тем более спорить. Только теперь до Слана стало доходить, что купец, пожалуй, пожиже своего помощника.