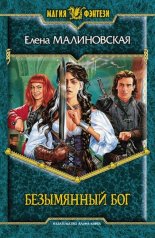Алатырь-камень Елманов Валерий
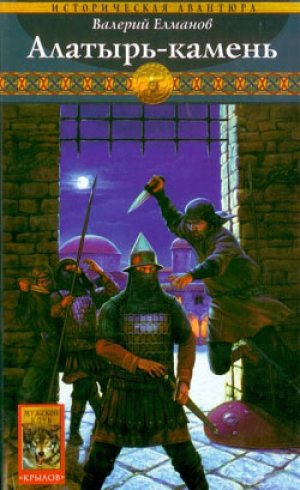
— А перед отъездом сызнова в Киев заглянешь и прихватишь с собой кое-что, — сухо добавил тот, и Слан вовсе усомнился — помощник ли он вообще, а если и так, то уж во всяком случае — не купца.
— Ты уж извиняй, что я так наскоро с тобой, — внезапно улыбнулся его собеседник. — В иное время мы и медку бы отведали, и про жизнь поговорили, а теперь сам видишь — некогда. Ну да ничего. Встретимся еще, тогда и наговоримся. Лишь бы ты успел в срок. Но мы тут с хозяином моим свечи за тебя перед всеми иконами поставим, — и он весело подмигнул Слану, мгновенно став похожим на прежнего ловкого и расторопного зазывалу из лавки.
«Это какой же угодник или мученик таким, как он или я, покровительствует? — рассеянно думал бывший атаман, возвращаясь обратно в село. — Разве что тот, кто и сам чем-то схожим занимался? А такие разве выбиваются в святые? Хотя вон меня взять. Думал ли я, когда с ватагой по лесам хаживал, что всего через несколько лет в чести у самого царя буду?!. А кони славные. Этот, как его, Любомудр, кажись, и впрямь не поскупился — лучших из своей конюшни выделил. Не скачут, а стелются, да как легко. Прямо тебе…»
Додумать он не успел. Чубарая кобыла, на которой он ехал, не почуяла ямку, коварно спрятавшуюся под снегом, и споткнулась. Слан чуть не плакал, когда привязывал бедное животное к дереву, и молил бога лишь о том, чтобы за те сутки, что он проведет с гонцом, поблизости не оказалось ни одного волка.
«Видать, свечей купец пожалел, или святой неказистый попался», — решил он, перебираясь на вторую лошадь красивого орехового цвета, с черновато-красной искрой по бокам.
Однако это была последняя неудача. Далее все прошло как нельзя лучше. Неведомый святой, словно извиняясь за оставленную в лесу кобылу, которую все-таки сожрали волки, ни на миг не оставлял без внимания Слана. Константин несколько удивился, когда Слан подал ему куцый клочок бумаги, искусно запрятанный в оглобле, выдолбленной по такому случаю. Удивился, однако ничего не сказал, лишь сдержанно поблагодарил.
Зато на другой день, когда бывший атаман почти сторговался о покупке неказистого, но еще крепкого домишка, притулившегося чуть ли не к самому углу высокой белокаменной крепостной стены, царские слуги вновь разыскали его и привели в роскошный двухэтажный терем с искусно вырезанными балясинами, поддерживавшими высокое крыльцо и просторные сени.
Был там и просторный широкий двор, и подклети, в которых хватало всякого добра, да и в хлеву тоже раздавалось приятное мычание, блеяние и похрюкивание.
Старший из тех, кто его сыскал, был одет в рясу, но держался со Сланом вполне дружелюбно. «Видать, не ведает он про мои прошлые дела», — решил бывший атаман.
— Государь-батюшка проведал, что ты жилье подыскиваешь, вот и повелел подсобить. Как тебе оно, подойдет ли? — осведомился монах, назвавшийся Пименом.
Иметь такой дом было еще юношеской мечтой Слана. Потом, когда жизнь пообтрепала его, мечтой стал казаться любой дом. С тоской поглядев на предлагаемые хоромы, Слан хмуро ответил:
— Мне за него и за сто лет не расплатиться.
— А сколь у тебя есть? — деловито осведомился монах.
Слан усмехнулся и высыпал себе в руку все, что имелось в порядком отощавшей калите. Было там немного — четыре увесистые гривны, еще две рубленые, ну и так — мелкими монетами еще с полторы.
— Не густо, — усмехнулся Пимен. — Ежели на жизнь, то надолго хватит, а вот на хоромы эти…
— Сам знаю, — сурово пробурчал Слан.
— А ты не злись, не злись, — осадил его монах. — Мой продавец уж больно торопится с этим теремом. Непременно нынче хочет его продать, и именно тебе. Ну-ка, зайдем, — и, ухватив Слана за рукав, он решительно повел его за собой вверх по лестнице.
— Сказываю же, что нет боле, — ворчал на ходу Слан, но руку не вырывал — хоть поглядеть, как там прежний хозяин обустроился.
После погляда стало еще тоскливее, но виду атаман не подавал.
«Не хватало еще перед этим долгополым сопли распускать. Не дождется, — зло думал он. — Ништо. Глядишь, через пяток-другой лет и я на такой скоплю, ежели бог даст».
А дальше все было как во сне.
Монах усадил его за стол, развернул перед ним грамоту и деловито произнес:
— Высыпай калиту. Я так посмотрел — хватит у тебя, чтоб расплатиться.
— Ты за книгами божественными, видать, и вовсе ослеп, — вяло съязвил Слан, но высыпал на чистую, до желтизны выскобленную столешницу все свое богатство.
Пимен деловито отодвинул в сторону большие увесистые гривны, не посмотрел и на рубленые, а выбрал маленькую монетку.
— Вот она, плата, — произнес он. — Согласен ли ты, раб божий, отдать эту куну в уплату за эти хоромы? — торжественно произнес он.
Слану даже весело стало. Ну какой дурень с таким богатством за одну-единственную куну расстанется. Такого хоть всю жизнь ищи — все едино не сыщешь.
— А чего же не отдать-то. Хоть и дороговато оно, но уж больно мне этот терем по душе пришелся, — подыграл он монаху. — Только уж пущай все, что в нем лежит, стоит, хрюкает или мычит, — тоже в эту цену войдет.
— Само собой, — кивнул Пимен, продолжая непонятную игру, и уточнил: — Грамоте разумеешь?
— Самую малость, — последовал уклончивый ответ.
— Тогда ставь свое имя, — монах обмакнул гусиное перо в чернильницу и сунул его в руки Слана.
Тот не противился. Взял, придирчиво посмотрел — остро ли заточено, затем медленно вывел свое имя на пустом месте, которое еще оставалось в самом низу густо исписанного желтоватого листа пергамента.
После этого, возвращая перо, он благодушно поинтересовался у монаха:
— Дел у тебя иных нет, отец Пимен, что ты игрища с людьми устраиваешь?
— Дел у меня немерено, — строго ответил монах, припечатывая лист чем-то круглым.
Затем, слегка помахав им в воздухе, он аккуратно свернул документ и вдел образовавшуюся трубочку в петлю шнурка, концы которого намертво скрепляла тускло поблескивавшая тяжелая вислая печать.
— Вот прямо сейчас и пойду ими далее заниматься, делами-то своими. Гляди, купчую на дом не затеряй ненароком. А ты-то куда? — удивленно воззрился он на Слана, который направился следом за ним к выходу. — Или проводить решил?
— Так это… Ты же вроде шутковать закончил, — удивился Слан.
— Вот дурень, — покачал головой монах. — Никто с тобой и не думал шутковать. Тебе терем продали, вот и живи в нем.
— Как это живи? А ежели хозяин придет? Чего мне тогда делать? Ты что, отче? — продолжал недоумевать Слан.
— Хозяин уже пришел, — пояснил монах.
— Тем паче надо отсюда уходить.
— Так хозяин-то ведь ты! — рассердился торопившийся Пимен.
— Это как так?! — вытаращил на него глаза Слан.
— А так! Подпись ты поставил, цену дома уплатил, стало быть, ты и есть теперь хозяин, — собрав остатки терпения, еще раз пояснил монах.
— Так чего мне теперь тут делать?
— Жить! — рявкнул Пимен и с треском захлопнул за собой входную дверь.
Слан брякнулся на лавку, пребывая в сомнениях и то и дело порываясь бежать из чужого дома, куда непременно вот-вот должен был явиться настоящий хозяин.
— А чего же это я подписал-то? — вдруг спохватился он и дрожащей рукой потянул к себе трубочку из пергаментного листа, оставленную монахом на столе.
Многое ему стало понятно еще до того, как он вытащил грамоту из шнурка. Печать, висящая на нем, была не простая, а самого царя Константина. Ошибиться Слан не мог. Широко расправленные крылья гордого сокола Рюриковичей, сжимающего в своих цепких когтях меч, было невозможно спутать с чем-либо. За последние пару лет, проведенные на Урале, ему не раз доводилось видеть государеву печать, так что ошибиться он никак не мог.
«Тогда что же получается? Не может такого быть, чтоб продавцом был сам государь, — лихорадочно думал он, трясущимися руками разворачивая лист, и едва глянул на точно такую же печать в правом нижнем углу, как понял, что не ошибся. Под печатью с соколом отчетливо виднелись буквицы, складывающиеся в простые и в то же время величественные слова: «Царь и великий князь всея Руси Константин I».
«Это что же? — только теперь дошло до него. — Выходит, что хоромы эти мне продали взаправду?! Выходит, что я и впрямь теперь тут хозяин?!»
Он еще долго сидел в каком-то странном оцепенении, не в силах подняться с лавки. Вывело его из ступора лишь появление гостей. Это был уже известный монах, из-за спины которого робко выглядывали отец с матерью и сестренка Вьялица.
— Ну вот, — всплеснул руками Пимен. — Родичи у него на морозе зябнут, а он тут в хоромах нежится, — и тут же заторопился обратно. — До места я вас довел, сына сыскал, а теперь прощевайте.
Родственники некоторое время молчали, затем отец, басовито кашлянув в кулак, недоверчиво уточнил:
— Так чьи это хоромы?
— Мои, — тихим шепотом, словно боясь спугнуть удачу, произнес Слан.
— Немало, видать, стоят, — подивился отец. — Сколь же ты за них выложил, сынок? На прожитье-то осталось хоть сколько-нибудь?
— Куну заплатил, — так же негромко произнес Слан.
— Сколько? — переспросил отец, решив, что ослышался.
— Куну, — повторил Слан громче и начал хохотать.
Он смеялся долго. По его лицу уже текли слезы, родные тревожно глядели на него, не понимая, что с ним такое происходит, а он все никак не мог остановиться, держась за живот и задыхаясь в приступе истерического смеха.
Поблагодарить царя за терем Слан не смог. Едва он заикнулся об этом, как Константин тут же оборвал его:
— Если бы подарил — иное дело, а так ты его купил, так что ничего мне не должен.
— Да разве ему такая цена на самом деле? — попробовал было возразить Слан.
— А ты посчитай, сколь та грамотка стоит, кою мои люди лишь благодаря тебе прочли, — предложил Константин. — Так что неизвестно, кто из нас с тобой кому задолжал, — и отрезал: — Хватит об этом. Лучше слушай сюда. Ты ведь в лесах как рыба в воде. Лучше тебя, пожалуй, никто с этим не управится, — и перешел к насущным делам.
В это время войска, тайно собранные в Рязани, были полностью готовы к теплой дружественной встрече соединенных дружин Киевского и Смоленского княжеств, к которым должны были присоединиться полки из Новгорода.
Может быть, заговорщики, узнав о том, что их ждут, отказались бы от своих планов, но все дороги, ведущие на север и на запад, были наглухо перекрыты сторожевыми заставами и рогатками караулов — предупреждать противника о том, что ему все известно, Константин не собирался.
— Чирей все равно лопнет, но теперь мы о нем знаем если не все, то очень многое. В другой раз такого случая не представится, да и ни к чему нам больше терпеть, — заявил он Вячеславу.
— Правильно, — согласился тот. — Мне эти борцы за княжеские права тоже поперек горла сидят, причем давно. Крепости давно пора строить на Яике и на Волге, Кавказ и Крым покорять, а мы сидим, как на привязи, потому что надо этих обормотов караулить. Ты, по-моему, и так с ними слишком долго цацкаешься. У этих халявщиков не жизнь, а сплошные летние каникулы, плавно переходящие в осенние, а затем в зимние, а им все неймется — еще и весенние подавай. А легату этому, как его, Розамунде, который их науськивает, я в следующий раз морду побью при встрече. Ей-богу побью, — горячо заверил он друга напоследок.
Неблаговидная роль посланца римского папы Раймундо Пеннафорте стала известна тоже из перехваченной грамоты. В ней киевский князь ободрял смоленского, что даже в случае неудачи им ничто не грозит, потому что глава доминиканского ордена твердо обещал свою поддержку и посредничество, так что в самом худшем случае они вновь останутся каждый при своем княжестве.
Причем скорее всего, испуганный таким дружным выступлением, Константин непременно даст им послабление, отказавшись от некоторых своих нововведений, так что выигрыш, хоть и не такой существенный, будет им обеспечен и в случае военной неудачи.
— С ним потом, — отмахнулся Константин. — Ты лучше скажи, тебе сил для надежного окружения хватит или как? — поинтересовался он.
— Судя по тем данным, что у нас есть, — вполне, — пожал плечами Вячеслав. — А вот если у них появятся дополнительные резервы, то разгром я тебе все равно обещаю, а вот надежное кольцо организовать будет сложнее.
Как выяснилось позже, сил действительно не хватило. При подсчете сил и средств не было известно, сколько людей приведут на Русь из Венгрии бывшие галицкие бояре и князь Александр Бельзский. В перехваченной грамотке было сказано лишь то, что они будут, как и шведы с данами, которые, согласно тайной договоренности, должны были соединиться с новгородцами и прийти уже вместе.
Словом, предварительный подсчет оказался слишком грубым, и учесть все не получилось.
Посольство, отправленное к мятежникам, вернулось ни с чем. В ответе князей говорилось: «Когда мы целовали тебе крест, ты обещал быть нам добрым отцом, но теперь поставил всюду своих слуг. Мы из-за них и в холопах своих не властны, и в вотчинах наших исконных тоже не хозяева. Убери своих судей, воевод и тиунов, только тогда и поговорим!»
Винить заговорщиков в упрямстве не стоило. Посольство, направленное Константином, предъявило им такие условия, примириться с которыми значило бы не уважать самих себя. Добавило мятежникам уверенности и то, что на этот раз царь явно недооценивал возможности их воинства.
А ведь у него самого было не так уж много сил. Во всяком случае, подпоенные дружинники, сопровождавшие послов от самой Рязани, говорили именно так. На то, что они лгут, не походило, так что получалось, что Константин чересчур зазнался.
Дружинники и впрямь не лгали, а говорили вполне искренне, когда, будучи пьяными, уверяли будущих противников, сидящих за одним столом с ними:
— Нешто вам с пятью тысячами, из коих половина пеши, устоять супротив нашего государя?! Да ни в жисть!? У него и людишек поболе — почитай, семь тысяч, не менее, да из них на конях поболе трех. Опять же выучку сравнить… Да наши пешцы любое войско остановят, а дружины с боков прихлопнут.
Из этой хвастливой болтовни следовало, что Константин ни слухом ни духом не ведает, что на самом деле войско мятежных князей насчитывает двенадцать тысяч человек, из коих семь — одной конницы.
Мятежные князья и их бояре приняли в расчет и то, что их пеших ополченцев вот уже несколько лет обучали царские воеводы. Теперь эта выучка должна была обернуться против Константина. Главным же преимуществом заговорщики считали свою тяжелую конницу, пускай наполовину и иноземную, которой по силам пробить даже обученный пеший строй. Тем более что действовать ей с каждым днем становилось все легче и легче — земля с начала похода ощутимо подсохла.
Во хмелю вообще врать трудно — легко запутаться. Поэтому Константин и Вячеслав сработали охранников послов «втемную», специально подобрав людей, склонных к хмельным медам и самых несдержанных на язык. Болтуны толком не знали, сколько войск на самом деле у их государя. Часть царских дружин шла тайными тропами, равно как и около двадцати тысяч пешего ополчения.
Не учли мятежники еще и то, что строй строю рознь. Лучше стадо оленей, которой командует тигр, чем стая тигров под командованием оленя. Лишь один царский воевода согласился примкнуть к мятежу. Остальные отвергли сладкие посулы, то есть пряник, не испугавшись и кнута, обещанного за непослушание, предпочитая угодить в поруб.
Их вера в будущее торжество полков Константина была столь велика, что один из колодников, воевода Вихор, пообещал, что не пройдет и пары месяцев, как обитателями этой тесной и вонючей ямы станут именно те, кто его теперь в нее запихивает.
Второму царскому посольству, которое привезло жесткие требования угомониться, мятежники ответили столь же упрямо: «С такими речами присылай к простым людишкам да к своим княжатам-подручникам. Тебе же пред нами заноситься негоже, ибо мы — такие же Рюриковичи по крови, и пращур наш один — Ярослав Володимерович[122]. Делай что замыслил, а на нашей стороне правда вышняя. И пусть рассудит нас бог и сила крестная».
На сей раз оборонять Ростиславль не пришлось. Вячеслав учел, что в стане врагов многие прошли выучку у него и его воевод, сделал все, чтобы избежать правильного боя, и напал в самое неподходящее для противника время, когда силы бунтарей были рассеяны на двух волоках — северном, Ламском, и западном, ведущем с Угры на Оку.
Если бы ополченцами командовали ратные люди царя, то они все равно сумели бы организовать оборону. Вячеслав учил их на совесть, упорно вдалбливая простейшие азбучные истины, вроде той, что в походе расслабиться можно лишь тогда, когда ты с победой вернулся в родной город.
Особое же внимание — на переправах через реки и на волоках. Тут бдительность надо увеличивать до предела. Доказывал это воевода на практических примерах, самолично устраивая во время учений лихие наскоки конных дружин именно в этих местах.
Так все и получилось. Стремительные удары, нанесенные в самый разгар переправ, внесли такое расстройство в ряды противника, что уже через несколько часов стало ясно — конец. Оставалось только бегство, чтобы успеть добраться до своих стольных городов и затвориться в них.
А как до них добраться, если все пути в Смоленск уже перекрыл князь Василько, подошедший от своего Владимира-Волынского. Как вернуться в Новгород, если Волга напрочь перекрыта боевыми ладьями рязанцев? Правда, на Киев дорожка была посвободнее, хотя тоже засад хватало и на ней.
Вот тогда-то Слану и выпала честь самолично пленить князя Андрея Мстиславича, который, в довершение своего позора, был вынужден отдать меч недавнему татю.
Константин не казнил ни Андрея, ни его брата Всеволода, который вел новгородские полки. Ни к чему излишняя жестокость. Вот князя Бельзского он повесил бы с удовольствием, но тот утек обратно в Венгрию. Этих же, всех троих, включая смоленского князя Ростислава, просто изгнали за пределы Руси, а Слану в награду за поимку достался орден, который как раз и вручил ему царевич Святослав.
С сынами князя Михаила Городненского именно в это время произошла иная история. Они появились на Руси всего за год до княжеского бунта. Александру и Владимиру Михайловичам, в отличие от отца, надоело пребывать в мазовецких болотах, распоряжаясь дикими мазурами в трех селениях, которые Конрад милостиво выделил князю-изгою, и они подались на Русь.
Константин принял обоих, но не осыпал почестями, как те в душе надеялись, а предложил должности на выбор. Были они все захудалыми, но дареному коню в зубы не смотрят, а потому князья избрали для себя привычную воинскую стезю. Расчет был на то, что должность десятника в царской дружине, конечно, невелика, но зато он часто мельтешит пред государевыми очами, а значит, непременно должен подвернуться случай отличиться.
Вскоре он и впрямь подвернулся братьям. Как раз их сотня, которую Александру вверили для того, чтобы перекрыть один из возможных путей отступления Андрея Мстиславича, и оказалась на дороге у мятежного князя. Вот только в спешке ни Константин, ни воевода Вячеслав, распоряжавшийся всеми силами, не напомнили своему вояке про элементарные меры предосторожности — чай, князь, да и большенький уже, далеко не мальчик.
Словом, когда люди беглого мятежника выскочили на лесную поляну, то увидели, как комфортно отдыхают после бурного ночного веселья воины Александра, который даже не удосужился дать распоряжение выставить сторожевые посты. Киевлянам только это и было нужно. Из всей сотни погибли немногие — князь Андрей слишком уж торопился. Зато преследовать врага было уже не на чем — всех лошадей беглецы увели с собой.
Лишь благодаря заступничеству царевича Святослава новоиспеченный сотник не был сурово наказан. Сыграло роль и молчание Слана, который не рассказал Константину о том, как на обратном пути у него чуть было не дошло до драки с людьми князя Александра. Тот потребовал было отдать связанного Андрея Мстиславича ему, ибо не подобает смерду и бывшему татю брать князей в плен, но напоролся на решительный отказ.
После этого случая Александр своей надменностью и высокомерием в обращении с людьми еще не раз вызывал неудовольствие Константина. Видя, что карьера не удалась, князь сам вызвался поехать на окраинные северо-восточные земли, отобранные у Новгорода после провала мятежа, для сбора дани с диких племен.
Поборы с бывших подданных Новгорода предполагались мягкие и не обременительные — пушниной. Князь Александр был исполнителен, соблюдал сроки поставки и ее объемы, за что через пару лет был даже повышен в должности и назначен главным сборщиком.
И вновь длительное время все было вроде хорошо. Теперь же оказалось, что далеко не все.
Не следует думать, что вся старая знать, включая бояр и их детей, как один, была настроена против новых порядков. Многие из них успешно вписались в новую систему взаимоотношений, упорно насаждаемую Константином. Они честно служили там, где их ставили, и приносили немало пользы, а некоторые из них сделали изрядную карьеру, войдя в так называемый малый круг, который обсуждал самые важные вопросы.
Тот же младший брат Александра Владимир ныне храбро сражался на восточных рубежах Руси в дружине князя Святозара — побочного сына Константина от Купавы, и за храбрость был удостоен аж двух наград. Там же добились немалой славы и братья Молибожичи, выходцы из древнего рода именитых галицких бояр.
Константин не собирался никого третировать по принципу: «Сын врага — мой враг», не обращая внимания на происхождение и учитывая только собственные дела любого человека.
Даже дети даже его самых ближайших сподвижников были обязаны начинать с самых низов. В расчет не принимались никакие заслуги отца. К примеру, оба сына того же Афоньки-лучника начинали со службы простыми воинами в Галицком полку. И это несмотря на боярскую шапку отца и на то, что старшего из них крестил сам воевода Вячеслав, назвавший мальца своим именем, а младшего, Владимира, — и вовсе сам Константин, бывший тогда еще князем.
Зато теперь не только сыновья могли гордиться своим отцом, но и сам изрядно постаревший, но еще крепкий глава школы стрелков из лука радовался успехам сынов, которые попали в княжескую дружину и дослужились до сотников, выше которых были лишь пять ветеранов-тысяцких, верховный воевода Вячеслав и сам Константин.
Афонька довольно крякал, тщетно пытаясь скрыть улыбку в поседевшей бороде, когда слышал, что тот же Володимер, сын Афонин, сызнова отличился, за что пожалован государем на ежегодном состязании стрелков второй золотой стрелой. Хотя если бы на испытании смог присутствовать его брат Вячеслав, который вновь отбыл на восточный рубеж, то неизвестно еще, кому она досталась бы, поскольку у старшего таких стрел уже три.
Правда, одна-единственная поблажка, в качестве привилегии за заслуги отцов, и у них, и у детей Евпатия Коловрата, да и у прочих имелась. Это право на первую ошибку, за которую наказание следовало по минимуму, положенному, исходя из Правды Константина, как уже стали называть между собой новый свод законов на Руси.
И еще одно. Ни тех, кто входил в Малый круг, ни их прямых потомков до третьего колена включительно не имел права судить никто, кроме самого государя. Это тоже была льгота, дарованная за долголетнюю верную службу или особые заслуги.
Но князь Александр такой привилегии не имел…
— Запомни, сын, и соблюдай накрепко! Против законов, как бы они ни были суровы, народ не станет роптать лишь тогда, когда увидит, что они одинаковы для всех, от холопа Петряя до верховного воеводы и любого князя, — произнес Константин напоследок. — Понял ли? — и тут же по глазам прочел молчаливый ответ Святослава: «Нет!»
Царевич ни сейчас, ни на другое утро, когда оглашалось царское слово, не вымолвил ни слова поперек, но все равно было заметно, что на сей раз он с отцом не согласен.
Приговор же Константина был прост и суров. Для начала он, встав со своего кресла, установленного на небольшом помосте во дворе воеводы, во всеуслышание объявил старейшинам, представлявшим тех, кто был несправедливо обобран, что отныне и на ближайшие десять лет дань с них он велит не собирать вовсе, а то, что они добудут, будет у них только покупаться по справедливой цене или обмениваться на товары. Толпа одобрительно загудела.
После этого, выждав, когда воцарится тишина, Константин сурово произнес:
— Что же до виновного, то вот мой приговор, — он молча бросил перед собой веревку и, повернувшись, неспешно направился обратно в терем воеводы.
Глава 12
Виноградники его величества
Через несколько минут к нему в терем вбежал запыхавшийся дружинник:
— Государь, князь Александр Михалыч хочет тебе тайное слово поведать, если ты пообещаешь живота его не лишать. Говорит, что дело важное, но поначалу помилования требует.
— Даже требует, — хмуро протянул Константин. — Раньше надо было о помиловании заикаться. И не требовать его, а просить. Теперь уже поздно. Если бы речь шла об одном мздоимстве, то приговор можно было бы смягчить, но он на жизнь государева человека покушался. За такое щадить нельзя. Да и не думаю я, что столь уж важны его слова, — и махнул рукой. — Пусть кат [123] исполнит приговор.
А еще через несколько минут, в миг, когда за окошком ликующе взревела толпа, Константин вздрогнул. Его охватило непонятное сожаление.
«А может, стоило пообещать? — подумал он. — Вдруг он и впрямь что-то важное знал? Ну да что уж теперь. Все равно ничего не изменить», — отмахнулся он с досадой и приказал готовиться в дорогу.
Был он мрачен и хмур. Лишь на следующий день, да и то ближе к вечеру, уже в пути, Вячеслав сумел вызвать улыбку на лице друга. Он с заговорщическим видом протянул ему баклажку и предложил отхлебнуть, как тогда, в телеге, во время их первой встречи.
— Только там мед был, — поправил его Константин, слабо улыбнувшись. — А у тебя вино.
— Зато какой аромат, — заметил воевода. — Вот скажи, государь, до этого тебе хоть раз доводилось пить такое? Я имею в виду не прошлую жизнь, а последние два десятка лет?
— А зачем? — равнодушно пожал плечами тот. — Наши меды ничем не хуже. А это добро немалых гривен стоит.
— А вот и нет, — улыбнулся Вячеслав. — Потому как оно из личных виноградников его величества государя всея Руси.
— Неужто крымское? — удивился Константин.
— А то! — горделиво произнес воевода. — Урожая одна тысяча двести тридцать третьего года от рождества Христова. Конечно, семь лет выдержки — не так уж много, но зато это самый первый урожай.
— Выходит, ты не шутил, когда грозился перед отъездом на юг, что либо окрестишь весь Кавказ, либо споишь его?
— Вот еще, такую прелесть переводить, — фыркнул Вячеслав. — Это же все равно, что метать бисер перед свиньями, как …
— Сказала бы твоя мамочка Клавдия Гавриловна, — тут же подхватил Константин.
— Нет, — поправил друга воевода. — Это как раз произнес совсем другой человек. Имя забыл, у меня на них память отвратительная [124]. А насчет спаивания… Шутка, конечно. Просто мой нежный желудок в то время был жутко измучен. Ты же помнишь, чем я тогда занимался, а главное — где. Башкиры — ребята замечательные, но их кумыс и буза… [125] Бр-р-р, — даже передернулся он от воспоминаний. — Словом, я с тех самых пор поклялся себе больше их не употреблять. А на юге снова кочевники. И как тут быть? Вот я и…
Константин улыбнулся и глотнул еще раз из баклажки, смакуя нежный вкус и солнечный аромат душистого вина, которое, как и весь Крым, вот уже лет десять принадлежало Руси.
Разобраться с многочисленными городами, стоящими на северном берегу Черного моря, Константин решил почти сразу же после подавления мятежа вольных князей и новгородцев.
Правда, поначалу нужно было определиться с восточными рубежами, самыми опасными, если исходить из угрозы вторжения монголов, поэтому Вячеславу пришлось не раз выезжать в уральские предгорья и выбирать места для строительства сразу шести крепостей, предназначенных стать основными узлами обороны и стянуть правый берег полноводного Яика в единую цепь первой линии обороны. Стальную цепь.
По планам каждой из крепости придавалось пятьсот воинов. В бой им вступать запрещалось — силенки не те. Разведка и только разведка с широким выбросом дозорных групп численностью по десять человек. Бить же по врагу, нарушившему границу, предполагалось с тыла и только силами не менее нескольких сотен.
Гарнизоны крепостей должен был поддерживать чуть ли не целый флот из двадцати пяти судов, по пять на каждую крепость. Они должны были крейсировать по реке, контролируя все подступы к ней, а также ситуацию на противоположном берегу.
Седьмая крепость стояла в отдалении от границы. Башкиры, которых Субудай успел изрядно потрепать следующей же весной после смерти Чингисхана, были настроены настолько решительно, что охотно пошли навстречу русскому посольству, предложившему их вождям мир, дружбу, но главное — защиту.
Условия предполагались следующие. Они добровольно входят в состав Руси, а царь Константин обязуется приложит все усилия для защиты своих новых подданных и их земель.
Дань кочевники должны были платить исключительно конями и еще людской силой во время строительства крепостей. Ее предполагалось поставить в том месте, которое было хорошо знакомо бывшему учителю истории Косте Орешкину, поскольку именно там, в Уфе, он дважды бывал на курсах повышения квалификации.
Разумеется, тогда он просто любовался городом, однако одна из его особенностей крепко запала ему в голову.
Полноводная река Белая именно в этих местах делает полукруг, оставляя лишь сухопутную перемычку в две с лишним версты. Именно в этом месте в нее впадает речка Уфа, чуть выше устья которой государь и решил выстроить могучие каменные стены, тянущиеся от Белой до Уфы.
Остальные крепости тоже ставились в местах, хорошо ему известных. И Орск близ устья реки Орь, впадающей в Яик, и Оренбург, и Яик-крепость, равно как прочие ставились примерно там же.
В специалистах по строительству недостатка не было. Из разгромленных монголами стран, лежащих за большим Кавказским хребтом, шли и шли умельцы, которые у себя в горах строили и не такие чудеса. Особенно много беженцев тянулось из Армении.
Шли они не в Волжскую Булгарию, как это было в официальной или, как Константин называл ее про себя, «черновой» истории, поскольку он ее сейчас переписывал набело, а к тем, кто сумел дать монголам укорот в битве у Красных холмов, то есть на Русь.
Главным было договориться с многочисленными племенами, населявшими междуречье Волги и Яика. Приехало туда русское посольство как раз вовремя, в аккурат попав на каргатуй[126]. Добрым гостям, да еще с щедрыми подарками, хозяева были рады, однако серьезного разговора все равно не получилось. Старейшины бурзянов и усерганов[127] важно заявили, что они не могут принять решение за все рода и племена. Вначале они хотели бы переговорить с самим правителем Руси, а потому….
Словом, пришлось ехать в этакую даль самому Константину. Его визит в середине лета выпал, но уже не по совпадению, а специально подгаданный, на еще один праздник — йыйын[128]. На него собрались чуть ли не все старейшины племен. Приехали даже минги и юрматы с самых дальних кочевок.
Башкирам, ценившим отвагу и ловкость, особенно пришлось по душе, что русичи, приехавшие с царем и верховным воеводой, особо не чинились, веселились на равных, а славные батыры из дружины царя не просто приняли участие в традиционных состязаниях, но и стали лучшими во многих из них.
Афонька-лучник тряхнул стариной, не просто метко всадив вторую стрелу в самый центр деревянной мишени, но и расщепив ею древко первой, которая уже торчала в ней.
Отличились русичи даже в национальной борьбе, которую здесь называли кэрэш. В финал состязаний вышли Кокора и воевода Юрко Золото, который в решающей схватке ловким приемом ухитрился завалить могучего рязанского богатыря.
Общее изумление вызвали и товары, привезенные с Руси, особенно небольшие медные колокольчики, отливку которых к тому времени наладил на Урале Минька, а также цветные стеклянные изделия, изготовленные лучшими ожскими стеклодувами. Вычурные, с загадочными узорами и письменами на стенках, они внушали темным кочевникам даже не восторг, а почтительное благоговение, будто им были подарены не обычные кубки и чаши, а некие священные сосуды.
На пиру Константин, загадочно улыбаясь, заметил, что хозяйское угощение, конечно, замечательное, но пора старейшинам отведать и того, что привезено гостями. После небрежного взмаха его руки двое расторопных дружинников, небрежно скомкав, метнули скатерть, заляпанную жирными пятнами, в огонь, весело полыхавший неподалеку, после чего вытащили ее оттуда целую и невредимую, да мало того — еще и абсолютно чистую, после чего вновь расстелили ее на траве и принялись заставлять русским угощением и братинами с медом.
Глядя на удивленные лица стариков, с которых в один миг слетела вся важность и степенность, наблюдая за тем, как они удивленно и суетливо щупают края чудо-самобранки, Константин мысленно еще раз поблагодарил Хозяйку медной горы, которая рассказала ему, где искать каменную кудельку, который позже стали называть асбестом.
Разумеется, нужна она ему была не для таких вот фокусов, хотя и они иной раз оказывались необычайно полезными. Большими — три на три метра — асбестовыми полотнищами предполагалось гасить пожары в осажденных городах.
Впрочем, сами чудо-скатерти вот уже два года тоже шли нарасхват. С тех же итальянских купцов Костя ухитрился содрать столько золота, что оно вдесятеро превышало по весу саму ткань. Правда, торговать ею приходилось в очень ограниченном количестве. Увеличь ее поступление на рынок, и она сразу из мистической колдовской вещи превратится в обычную, пусть и редкостную диковинку.
После демонстрации всех этих чудес вести переговоры стало намного легче, но договориться с башкирами все равно удалось с огромным трудом, да и то лишь «благодаря» раскатистому грому боевых барабанов Субудая, который в прошлом году был хорошо слышен всем мирным кочевникам междуречья.
К чести новых подданных надо сказать, что дрались они пусть и не совсем умело, отчасти даже бестолково, но очень храбро. Во всяком случае, обе стороны поняли весьма важные для себя вещи. Субудай уяснил, что силами всего двух туменов разделаться с этими кыпчаками, как он называл кочевников этих мест, вряд ли получится быстрее, чем лет за пять. Башкиры же поняли, что без сильной поддержки им не устоять.
Как раз именно на этом йыйыне они и собирались сделать свой выбор, склоняясь в сторону более близкой Волжской Булгарии, тем более что мусульманскую веру понемногу принимали и жители степи. Голоса за Русь тоже звучали, но гораздо реже. Однако то обстоятельство, что русский царь сам пожаловал к ним в гости, резко склонило чашу весов в другую сторону.
Еще больше этому поспособствовали рассказы половцев. Константин специально прихватил с собой десяток половецких вождей, включая и Бачмана, храброго сына отравленного Данилы Кобяковича. Тогда он был, можно сказать, совсем мальчишкой, теперь же рядом с русским царем сидел уже заматеревший молодой мужчина.
К тому же он мог не только красочно поведать, насколько злы и безжалостны монголы. Именно Бачман в том году пришел на выручку степнякам междуречья. Было с ним не так много воинов — всего-то пять тысяч, но зато это были лучшие из лучших. Именно его гонцы предупредили о страшной опасности жителей всех аулов и становищ, именно они вступили в первые бои с Субудая, перешедшими Яик.
Трудно сказать, сколько именно жизней было спасено благодаря тому, что Субудай пришел на места основных башкирских кочевок с огромным запозданием, но то, что их количество надо исчислять тысячами, — однозначно. А из-за чего получилось это двухнедельное опоздание? Да все из-за тактики летучих отрядов, умело примененной Бачманом. Парень оказался хорошим учеником, мыслил творчески, так что ему вполне хватило тех азов, которые ему преподал Вячеслав.
О том, какую роль сыграл в экипировке и вооружении его войска сам Константин, практически никто не знал. На все расспросы сам Бачман гордо отвечал, что его отец, великий половецкий хан Даниил Кобякович, был не из нищих. В этом всех наглядно убеждали сокровища, которые его верные телохранители вырыли у подножия одного из холмов в Лукоморье[129].
Кстати, даже сам Бачман был уверен в том, что сокровища и на самом деле запрятал в свое время его отец, доверивший тайну клада лишь своему бывшему шурину Константину.
По счастью, сын Данилы отнюдь не питал особых иллюзий относительно своих молниеносных побед, одержанных в стычках с передовыми сторожевыми дозорами и с тыловой охраной монгольских обозов, сознавая, что без союза с Русью ему не выстоять, и в настоящих сражениях один на один он обречен.
Так что, занимая одно из самых почетных мест на этом степном собрании, старший сын Данилы Кобяковича отнюдь не обольщался тем почетом, который ему оказывали, и произнес немало лестных слов в адрес самого Константина, его воевод и всего русского войска, которое на Красных холмах одолело столь грозного врага.
Зато условия договора обсуждались долго. Башкирские вожди, например, и слышать не желали о дани. Уж очень их коробило это слово, подразумевающее положение побежденных. Лишь через пару дней Константин, поставив вопрос в совершенно иную союзническую плоскость, сумел договориться, что коней, продовольствие и людей для неквалифицированной работы по строительству будущих крепостей они все равно дадут, только называться это будет не данью, а добровольным вкладом вольных степных племен в дело общей борьбы со страшным врагом.
Немало дебатов вызвало и само месторасположение будущих оплотов борьбы с монгольскими полчищами. Это только кажется, что степь широка и привольна, а межей и границ у нее нет вовсе. На самом деле у каждого племени и каждого рода имелись свои строго определенные места для летних и зимних кочевок.
Немало способствовал успеху переговоров и нехороший товарищ Субудай. Яик течет строго на юг в своих верховьях, но затем, где-то посередине, делает резкий поворот и устремляется на запад. Пройдя таким образом около пятисот километров, река делает поворот на юг и уже не меняет курса, пока не впадет в Каспий.
Эти повороты образовывали не очень приятный выступ, направленный в сторону Волжской Булгарии. Оборонять его — нечего и думать. В степи раздолье для кочевников, а не для пешего русского строя. Вдобавок рельеф самой степи в тех местах практически плоский, то есть для конницы местность сказочно замечательна.
Так вот Субудай своим набегом, больше походившим на очередную стратегическую разведку, сумел одним махом разогнать всех кочевников вплоть до Яика и оттяпать в свою пользу весь этот выступ, составляющий территорию в полтораста тысяч квадратных километров. Теперь весь угол, который образовывал Яик своими двумя поворотами, принадлежал не саксинам, кыпчакам или башкирам, а монголам.
Разумеется, с теми, кто успел перебраться на другой берег Яика, добродушные гостеприимные соседи поделились, выделив им часть своих пастбищ. Однако давно подмечено, что чувство альтруизма, то бишь бескорыстной доброты, имеет свои пределы, если человек, разумеется, не святой. Кочевники святыми не были.
К тому же раздражала дальнейшая перспектива совместного проживания. Если соседи принимают семью погорельцев, потому что у них безвыходное положение, то и хозяева и вынужденные гости прекрасно сознают, что это временно. Придет весна, и новый дом общими усилиями будет к осени выстроен.
Земля же — не дом, ее не построишь. Коли нет, так уж нет.
Словом, в степи стало тесно, причем настолько, что кое-где начали постепенно назревать конфликты. Пока они еще не разгорелись — запасы доброты не закончились, но все шло к тому.
Да и само строительство крепостей подразумевало очистку территории. Ее, конечно, нельзя было сравнить с той, которую оттяпал Субудай, но все равно это означало, что придется потесниться еще больше, к тому же неравномерно.
Можно отщипнуть по кусочку от каждой доли пирога, самому наесться и никого не обидеть. Вот и справедливость соблюдена и никому не обидно. Но это пирог.
А здесь получалось так, что при строительстве больше всего страдали племена буляр, еней и мингов, которые лишались не только зимних кочевок, но и весенних, расположенных вдоль правого берега Яика. А два рода кыпчаков к тому же теряли и свои йэй лэу[130].
Однако после долгих дебатов удалось поладить со всеми. Какие-то рода великодушно поделились с обиженными своей территорией, но главную лепту внес сам Константин. Он щедро уступил в пользование тем же кыпчакам места за Волгой, заявив, что в тех степях теперь очень много места для тех, кто уцелел после монгольского нашествия. Разумеется, все они обязались перейти под руку Константина, то есть беспрекословно исполнять повеления царя и его воевод, признать его своим верховным вождем, правда, тоже с оговоркой, то есть лишь на случай военных действий.
Ну и ладно. Главное, что хоть и с многочисленными условиями, с кучей ограничений, но высокие договаривающиеся стороны все равно поладили между собой.
Все лето и осень Вячеслав и его воеводы вместе с армянскими мастерами мотались как проклятые, выбирая самые лучшие места для строительства крепостей. Так возникли Орск, Оренбург, Каспийск, Степноград, Верхний Яик и просто Яик, поставленный на месте Уральска.
Зимой воевода, как, впрочем, и всегда, проводил очередные учения, после чего ранней весной, едва подсохла земля, отправился в Крым. С ним шли три тысячи конницы и десять пеших полков, в каждом из которых к тому времени находились по три, четыре, а то и пять сотен литовцев, жмудинов, лэттов, эстов, латов, семигалов, пруссов, ятвягов, ливов и прочих прибалтийских народцев.
И тут Вячеславу тоже сопутствовала удача. Ни Судак, ни прочие города от монгольского набега не пострадали — Субудай просто не успел на этот раз. Зато годом раньше на них решил опробовать свои силы иконийский султан Ала-ад-дин Кей Кубад I, который разграбил тот же самый Судак. Так что торговые города Крыма на собственной шкуре или на примере ближайших соседей успели испытать на себе острые хищные зубы будущей империи турок-сельджуков.
И счастье возродившейся Византийской империи заключалось только в том, что на пути молодого зверя совсем скоро должен был встать более матерый хищник с острым звериным прищуром узких монгольских глаз.
Если бы войска сотрясателя вселенной не задали им через пару десятилетий[131] хорошую трепку, вдребезги расколошматив сельджуков, которые после этого окончательно развалились на десяток независимых эмиратов, не представляющих опасности для соседей, то кто знает, в каком веке пал бы Константинополь.
Сербия, Болгария и прочие страны, вне всякого сомнения, намного раньше попали бы под неумолимую пяту османов, которые сами были лишь жалким осколком Иконийского султаната.
Более того, Кей Кубад I, который благодаря все той же рекомендации Константина, получил от Иоанна III Ватациса прочный мир на границах с возродившейся Византийской империей, теперь всерьез собирался повторить успешный поход в Крым.
Причем на сей раз речь шла уже не о набеге, как это было раньше, а о крупномасштабном походе, целью которого было разграбление всех городов полуострова и установление там своей власти.
Вообще-то советники султана были мудрыми людьми. Захват Крыма обещал быть легким и быстрым. Тамошние торгаши воевать не умели, а тот сброд, который они нанимали для своей охраны, в военном отношении был пустым местом.
С финансовой точки зрения проект выглядел бесподобно. Захват важнейших торговых путей сулил огромный приток доходов от торговых пошлин, что позволяло замахнуться на дальнейшие завоевания. Вот только Константина эта перспектива переименования Черного моря в Турецкую или Сельджукскую — один черт! — лужу никак не устраивала.
Словом, напуганные военными приготовлениями султана купцы, которые, по сути дела, и правили в Крыму, охотно приняли помощь русичей. По сути, выбор у них был небогат — либо Ала-ад-дин Кей Кубад I, либо Константин. Однако в пользу Руси говорило то, как милостиво новоявленный русский царь обходился с захваченными городами.
К тому же немалую роль сыграл вопрос веры. Мусульман и иудеев на полуострове было мало, да и те смотрели друг на друга с недоверием. Сунниты ненавидели шиитов гораздо больше, чем иноверцев. То же самое можно сказать про караимов, которые напрочь отрицали раввинов и талмуд, признавая только Ветхий Завет.
С латинянами могли возникнуть заморочки, но генуэзцы, которые «правили балом» вместе с греками, жутко ненавидели своих конкурентов венецианцев и целиком и полностью поддерживали Византию в ее стремлении выгнать их со своих земель. А кто помогал императору Ватацису? Правильно. То есть выходило строго по пословице: «Враг моего врага — мой друг». Про греков и говорить не приходилось.
К тому же существенным противовесом для тех же венецианцев послужили вновь все те же альбигойцы, а правильнее сказать — выходцы из южной Франции, поскольку катар среди них была треть, а то и меньше. Когда дикие варвары, которые и говорить толком не умеют[132], вступают на твои земли, то лучше не рассчитывать на то, что ты правоверный католик, а бежать куда глаза глядят.
А уж если ты знаешь, что там на побережье тебя ждет корабль, который отвезет пусть и в далекое, но зато безопасное место, то соблазн «сделать ноги» становится и вовсе непреодолимым. Отваживались на это далеко не все, а лишь малая часть, но и этих нескольких тысяч вполне хватило, чтобы хорошо заселить окрестности Азова, а также восстановленной Белой Вежи.
Лишенные своих проповедников, которых люди Константина почти сразу находили и тут же со всевозможными почестями незамедлительно выпроваживали для проповедей «истинного слова божьего» — вначале в Прибалтику, а затем в улусы детей Джучи, где они затем бесследно терялись в степных просторах, большинство катаров попросту забывали о своем учении, особенно молодое поколение.
Их-то и предполагалось держать в многоязычном и разношерстном крыму в качестве весомого противовеса католическому населению, которое альбигойцы, в отличие от православного люда, терпеть не могли.
Что же до армян, во множестве расселившихся в Крыму за последние десятилетия, то они как раз и бежали из Малой Армении из-за веры. Дело в том, что армянский князь Левон II[133], пришедший к власти в Киликии, не только распространил свою власть на все соседние области, до гор Тавра, Памфилийского залива и равнин Евфрата.
Он еще и стал перенимать обычаи и законы франков, за что получил от латинского императора Генриха VI титул короля, а также признал верховенство папы, который по такому случаю специально прислал своего легата в Тарс, чтобы возложить на Левона корону. Да и его родная дочь и наследница, названная не по-армянски — Изабеллой, а если быть совсем точным, то ее мужья[134] тоже заправляли страной в духе тестя.