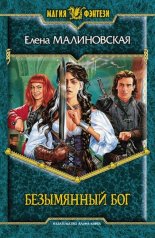Алатырь-камень Елманов Валерий
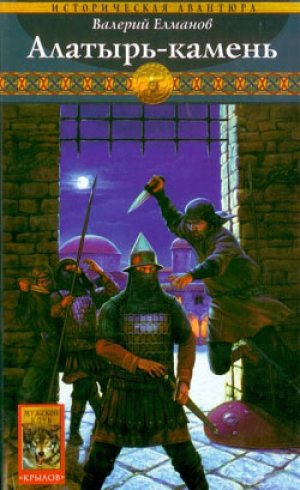
Пролог
Идти туда, не зная куда
Путник уже потерял счет времени. Сколько дней и ночей он шел по бескрайней заснеженной степи — он не сумел бы ответить и под страхом смерти. Вначале он еще пытался их как-то запоминать, но примерно через неделю сбился, а потом и вовсе забросил это бесполезное занятие.
К тому же у него были дела поважнее. Если бы не они, то он просто лег бы сейчас в снег, зарывшись с головой в какой-нибудь сугроб, и так бы и уснул. Навеки. Усталость была такой сильной, что даже собственная смерть стала бы не трагедией, а благом. Причем благом не только для него одного, но и для всех, кого он оставил у себя за плечами.
Если бы кто-то из тех, от кого он улизнул, проведали бы, что именно он знает, они с радостью пожертвовали бы своим богам огромный мешок, доверху наполненный золотом, чтобы остановить его. Хотя нет, для такого дела они не пожалели бы не только мешка — отдали бы и два, и три, да еще посчитали бы, что совершили выгодную сделку. Остановить, пока не случится непоправимое. А непоправимое должно было случиться в тот самый миг, когда он встретит хоть кого-то из людей. Своих людей.
Однако пока в этой голой и безлюдной бескрайней степи, слегка припорошенной снегом, ему не встретился никто кроме одной волчьей стаи. По счастью, она была малочисленной и состояла из трех молодых волков, ведомых матерой волчицей. Скорее всего, мать вывела своих щенят на первую в их жизни охоту. Первую, ставшую и последней.
«В каждом событии, пусть даже самом плохом, кроется и хорошая сторона, — припомнились ему слова наставника. — Надо только повнимательнее к нему присмотреться, и ты сразу увидишь ее».
Волки — это плохо. Что в них хорошего, он бы ответить не смог. Но это тогда, когда он их только-только увидел. Через пару дней он мог уже твердо сказать, что эта стая спасла ему жизнь. Во-первых, они дали ему столь необходимое свежее мясо, пусть и весьма невкусное, а во-вторых — боль в прокушенной руке.
Эта боль будила его, помогала преодолеть великий искус остаться навсегда на месте очередного ночлега. Она не просто поднимала на ноги, но и придавала сил, заставляла выползти из очередного овражка, который он подыскивал ближе к вечеру. Овражек был уютен, в нем царила тишина, но, когда путник выползал из него, на него вновь набрасывался истошно визжащий степной ветер, чей неумолкающий пронзительный вой изрядно выводил его из себя.
Но заканчивалось и волчье мясо. Последние три дня его приходилось жевать сырым — он слишком поздно обнаружил, что трут и кресало выпали у него из прохудившегося тощего дорожного мешка, суля ему череду холодных ночей. Две из них уже миновали, но сколько еще было впереди — одному богу[1] известно.
Впрочем, по-настоящему его сейчас беспокоило только одно — туда ли он идет, потому что с направления он тоже сбился, а определиться на этой бескрайней равнине, над которой изо дня в день нависали злые серые тучи, не давая солнцу выглянуть из-за них хотя бы на мгновение, было невозможно. Он знал, что ничего поделать нельзя, но смириться не желал.
Хотя и в этом после некоторого размышления он тоже сумел найти хорошую сторону. Настойчивые мысли о том, как определить это самое треклятое направление, помогали немного отвлечься и не так сильно мучиться от холода, который вместе с ветром бесцеремонно проникал под его теплый стеганый халат и зло щипал и без того окоченевшее тело.
Тем не менее он шел, полный решимости одолеть эту степь, равнодушную к людским страданиям, этот злой порывистый ветер, этот холод, убивающий все живое. Одолеть и выйти к людям.
Место для очередного ночлега он присмотрел себе в этот день рано, до сумерек оставалось еще изрядно. Немного поколебавшись, пройти еще или заночевать здесь, он позволил себе отдохнуть. Уж больно уютным выглядел этот овражек, достаточно крутой, чтобы туда не забредал ветер, и в то же время его края не были отвесными — утром будет несложно из него выбраться. Словом, почти идеальное место для ночлега.
Окончательно он пришел к такому выводу, когда его по-прежнему зоркие глаза узрели внизу пепелище. Это тоже было и плохо, и хорошо. Плохо потому, что ни сухой травы, ни кустарника там уже не было. Но у путника не имелось ни кремня, ни трута, поэтому оставалось только хорошее — кто-то здесь уже был, и, возможно, не сегодня-завтра он его увидит.
Его потрескавшиеся кровоточащие губы слегка раздвинулись в слабом подобии улыбки. Путник огляделся по сторонам, надеясь увидеть этого человека, но степь была по-прежнему пуста. Он попытался крикнуть, но почти сразу понял, что напрасно потратит оставшиеся силы. Ветер глушил его хриплый крик так же надежно, как если бы он просто шептал себе под нос. Следов того человека, который здесь побывал, он тоже не видел.
Тогда он спустился вниз, решив определить по пепелищу — когда именно здесь был тот, кто прошел до него. Увиденное давало богатую пищу для размышлений, но не отвечало на вопрос. Точнее, ответ был, но уж очень неопределенный — несколько дней назад. Сколько именно — оставалось только гадать.
Путник подумал, что было бы неплохо еще раз выползти наверх и в поисках следов обойти овражек со всех сторон. Однако надвигалась ночь, и он решил все оставить до утра. Пожевав и с усилием проглотив небольшой кусочек волчьего мяса, он полез в мешок за другим, но, обнаружив, что там остался всего один, решил оставить его на утро. Да и есть хотелось пока не так уж сильно. Мысли были заняты иным — никак не давал покоя неведомый человек, прошедший по этому пути до него.
«Нет, проехавший, — тут же мысленно поправил он сам себя. — В такое время года идти пешим ходом по степи — самоубийство. Я и сам никогда бы не решился на такое, если бы не…»
Он нащупал за пазухой теплую продолговатую пластинку, вытащил ее и устало усмехнулся, разглядывая изображенного на ней гордого кречета. «Казалось бы, такая малость, а ведь сколько раз жизнь мне спасала, пока не выбрался», — подумал путник и вновь убрал ее за пазуху.
Было у него там и еще кое-что, но это уж и вовсе тайное, извлекать которое он не собирался. К тому же тайна эта принадлежала не ему, так что пускай хранится в потаенном месте до поры до времени.
Боль в раненой руке слегка ослабела, и уснуть он смог довольно-таки быстро. Зато на следующее утро его ждало одно из самых тяжелых разочарований. Уже поднимаясь по крутому склону наверх, он нашел такое, что позволило ему определить, когда именно ночевал в этом овражке тот, другой. Теперь он даже знал имя этого другого. Это был… он сам.
Тупо крутя в руках маленький мешочек с трутом и огнивом, который выпал у него три дня назад, он с трудом сдерживался, чтобы не завыть от горя. Выходит, все эти последние дни он даже не кружил по степи, ни на шаг не приблизившись к конечной цели своего тяжелого путешествия, а напротив — шел обратно.
Но это было еще полбеды. Подлинная беда заключалась в том, что не исключался и иной, гораздо худший вариант. Возможно, что он и раньше никуда не шел, делая один-единственный большой круг по степи.
Ему очень хотелось громко-громко завыть, задрав лицо кверху и упрекая небеса в том, что они не стали помогать ему даже в такой ничтожной малости. Однако мужество его не покинуло. Собрав воедино остатки воли, он вновь упрямо двинулся в путь. В путь по дороге, которой не было. В путь, который вел неизвестно куда. И пока он жив — он будет упрямо брести, надеясь, что все-таки сможет найти людей.
Иного выхода для себя путник не видел.
Глава 1
Как Вещий Олег
Последние распоряжения были наконец отданы, и Константин неспешно прошел к карете, прочно стоявшей на санных полозьях в ожидании своих пассажиров. Он планировал выехать еще три дня назад, но разгулявшаяся непогода внесла свои коррективы. Разбушевавшаяся вьюга, которая началась уже на следующий день после отъезда шведского посольства во главе с ярлом Биргером, без устали хлестала острым колким снегом, чуть утихала и вновь неистово неслась в очередную шквальную атаку на Санкт-Петербург со стороны Финского залива.
Зато нынче денек обещал быть хоть куда. Порывистый ветер еще вечером начал затихать, а к утру и вовсе сменился на плавный хоровод крупных нарядных снежинок, медленно спускающихся к земле. Да и морозец поубавился градусов эдак до пяти-шести.
Константин, его сын царевич Святослав и верховный воевода Вячеслав неспешно уселись в карету. Внутри ее было тепло — заботливый распорядитель с раннего утра приказал установить в ней жаровню с углями, которые меняли каждый час.
— Путешествие из Санкт-Петербурга в Рязань начинается, — весело констатировал Вячеслав.
— Прямо по Радищеву, — подтвердил Константин.
Он тоже был бодр и доволен — в первую очередь успехом переговоров, после которых можно было не бояться нападения с севера. Фактический правитель Швеции Биргер, правивший страной, от имени своего короля Эрика Шепелявого заверил, что он не только не помышляет о каких-либо враждебных действиях, но и напротив — всегда готов прийти на помощь государю Руси ежели что.
— А почему ты, батюшка, так решил назвать сей град? — осведомился Святослав.
Константин переглянулся с воеводой, и они, не сговариваясь, заулыбались.
— А чем тебе это название не по душе? — спросил в свою очередь Константин. — По-моему, очень даже хорошо звучит. И потом, насколько я слышал, апостол Петр был рыбаком, что к морю имеет самое прямое отношение.
— А я так мыслю, что надобно его назвать в честь того, кто ставил.
— Да ведь он так и назван, — буркнул Вячеслав и тут же осекся.
— Воевода имеет в виду, что мысль об этом граде мне как раз Петр подсказал, — пояснил Константин, грозно посмотрев на Вячеслава.
— Это какой Петр? — заинтересовался царевич.
— Да ты его не знаешь, — досадливо отмахнулся Константин, не зная, что еще сказать.
— Он из купцов голландских будет, — невинно улыбнулся воевода и пояснил: — Его так и звали, хер Питер. Наш государь его под Москвой как-то встретил. Давно это было. Умный человек, но пил много. Наверное, помер уже.
— На что хорошему купцу, да еще и иноземному, Москва сдалась? Там и торг плохонький, да и сам град как щель клоповья — повернуться негде, — степенно заметил Святослав.
— Может, за мехами приезжал, — пожал плечами воевода и тут же резко переменил тему: — Это получается, что мы в Рязань лишь после Рождества приедем, аж в следующем году, — заметил он. — Это какой уже у нас будет? Только по новому счету, а то я с этим сотворением мира путаюсь все время.
— Одна тысяча двести сорок первый от рождества Христова, — ответил Константин.
— Сорок первый… Символичная дата, — многозначительно заметил Вячеслав. — Конечно, катить придется долго, но зато с комфортом, — успокоил он сам себя, снимая тяжелую бобровую шубу, и весело хмыкнул. — Мое странствие из Киева в Константинополь этим не отличалось. Скорее уж наоборот — еле выжили.
— А я и вовсе думал, что вы все погибли, — отозвался Константин. — Наверное, на волосок от смерти были?
— Ошибочка небольшая, — поправил его Вячеслав. — На волосок от костлявой с косой мы были попозже, хотя тоже в Константинополе.
— Это в ту ночь, когда ты его от поганых латинян освобождал? — оживился Святослав.
— Да нет, — нехотя отозвался воевода. — В ту ночь… — и осекся, вспоминая события той поры.
Вячеслав ничуть не бравировал опасностью, когда относил морскую бурю, изрядно потрепавшую их корабли, к чему-то второразрядному. Да, было страшно, но в свою смерть, равно как и в то, что может погибнуть митрополит Мефодий, ему почему-то все равно не верилось. Не его это был день, явно не его.
Да и панический ужас, нахлынувший на воеводу, был больше связан не с неожиданным кораблекрушением и даже не с тем, что среди бушующего моря он не мог разглядеть ни одной ладьи, а… со знакомым веретеном, замаячившим метрах в пяти от него и зависшим так низко над водой, что волны зачастую касались его своими белопенными гребнями.
Словом, все эти два часа, которые он провел в воде, Вячеслав самое главное внимание уделял именно ему, основные труды уходили на то, чтобы держаться от него подальше. Помогло еще и то, что почти сразу после того, как их корабль пошел ко дну, буря, будто достигнув своей цели, стала стихать.
Митрополиту повезло даже больше. Ему под руку попались две связанные пустые бочки из-под питьевой воды. Правда, второй рукой божьему служителю приходилось все время поддерживать на плаву пса Упрямца, пока тот не ухитрился самостоятельно уцепиться лапами за веревки, опутывающие бочонки.
Веретено некоторое время висело и над ним, однако Мефодий столь строго и решительно осенил его крестом, что оно исчезло буквально через каких-то десять минут. Да и пребывал он в море поменьше воеводы. Его заметили и выловили раньше, чем Вячеслава, так что катастрофой это купание можно назвать лишь с большой натяжкой.
Всего же русская флотилия потеряла только три судна и около сотни человек, причем треть из них Вячеслав вовсе не считал потерей — пленные датчане при любом раскладе все равно должны были быть проданы купцам в Константинополе. Так что воевода терял не людей, а серебро, причем не столь уж большое его количество.
Своих было жалко, что и говорить, но и тут предаваться особому горю времени не было. Через несколько дней на горизонте должны были показаться величественные башни и стены Царьграда, так что ему предстояло еще раз прокрутить в голове весь намеченный план боевых действий.
Кое-какие коррективы в первоначальную задумку он внести успел. Поэтому поначалу к Константинополю причалила всего одна русская ладья, в которой находился ушлый грек Филидор с пятью слугами и четырьмя десятками невольников.
За пару дней, которые он провел в городе, Филидор успел очень многое. Во-первых, он узнал, что заправляют в Константинополе — если дело касалось торговых дел — преимущественно венецианцы. Во-вторых, выяснил, что в последнее время на купеческих галерах обнаружилась резкая нехватка гребцов, а в-третьих, успел исхитриться провести совершенно конфиденциальный разговор с венецианским старейшиной, почтенным Бартоломео Кьянти.
Тонко намекнув, что его русский хозяин — простак, каких мало, прохиндей Филидор уговорился с Бартоломео о том, что поначалу заломит за русских и прочих рабов дикую цену, чтобы никто не смог купить ни единого человека. Затем, спустя дней десять-двенадцать, согласовав все это с русским хозяином, грек резко снизит их стоимость, предварительно дав знать об этом венецианцам, чтобы соотечественники Бартоломео смогли приобрести их за полцены. Филидор даже содрал за свои услуги десяток золотых монет в качестве аванса. Окончательно расплатиться венецианец обещал сразу после оформления покупки.
Именно потому, когда пятнадцать русских ладей пристали к Константинополю, их пассажирам не сильно досаждали всяческими формальностями. Да, были и недоверчивые взгляды крючконосых стражников-венецианцев на пристани, и вымогательство взятки, но все это не превышало той степени риска, которая была запланирована друзьями изначально.
К тому же делу изрядно благоприятствовала погода. Когда русские подплывали к Константинополю, весь Боспор[2] закутался в непроницаемую пелену густого плотного тумана. Воспользовавшись помощью этого неожиданного союзника, сорок пять русских судов незаметно проскользнули через пролив под покровом ночи, держась противоположной от города стороны. Проскользнули и тут же устремились влево, в сторону Никеи.
Зато оставшийся десяток, ничуть не таясь, направился к городу, чьи стены величественно возвышались над морской гладью.
Дальше все пошло тоже как-то буднично и настолько благополучно, что Вячеславу порой и самому не верилось. Десять дней, которые были отведены на первоначальное обустройство, разведку и рекогносцировку, пролетели незаметно. Да и не до того было константинопольским властям, чтоб присматриваться к русскому каравану с несколькими сотнями невольников. Уж больно неспокойно стало на востоке Латинской империи. Буквально через три дня после появления этого каравана тревожная весть всколыхнула всех рыцарей, находившихся в городе, — властитель Никеи император Феодор вновь двинул свои войска к границам их владений.
И вновь первоначальный расчет Вячеслава и Константина по выманиванию основных сил рыцарей из Константинополя сработал на все сто, встретив самое горячее одобрение со стороны зятя тяжелобольного императора Феодора II.
Иоанн Дука Ватацис, воодушевленный тем, что в его войско влилась целая полутысяча великолепных бойцов, сразу после встречи с русским посланником двинул все, что у него имелось под рукой, на запад, громогласно заявив, что намерен дать надменным рыцарям хорошую выволочку.
Многочисленные уговоры придворных, наперебой убеждавших его в том, что он совершает непростительную ошибку, он только нетерпеливо выслушивал, причем не всегда до конца, а на все их доводы отвечал лишь одно:
— С полутысячей этих русских катафрактариев я не боюсь ничего, — и горделиво окидывал влюбленным взглядом дружинников, выстроившихся перед ним.
Полюбоваться было на что. Чуть ли не каждый русич из этих пяти сотен едва ли не на голову возвышался над обычным греком. К тому же от их скупых жестов и даже улыбок чуть ли не физически веяло мощной всесокрушающей силой. Силой, готовой в любой момент обрушиться на войско, втрое, вчетверо, а то и впятеро превышающее их числом.
Им были чужды сомнения, боязнь и страх поражения. Грядущая победа яркими солнечными зайчиками весело прогуливалась по их кольчугам и шлемам, не просто убеждая в том всех, кто находился с ними рядом, но и вселяя в них точно такую же непоколебимую уверенность.
Первые победные стычки с малочисленными отрядами западных рыцарей тоже внушали Иоанну определенный оптимизм.
Власти Константинополя не паниковали. К греческой армии они привыкли относиться как к назойливой мошкаре и потому были уверены, что сумеют прихлопнуть их одним могучим ударом длани, закованной в железо.
Утром девятого дня, если считать с момента появления русских ладей с невольниками-датчанами в Константинополе, мощное трехтысячное войско крестоносцев начало переправляться на азиатский берег Боспора. К вечеру они уже успели преодолеть первые десять римских миль, а на следующий день, аккурат перед наступающими сумерками, перерезали дорогу следующему на запад двухтысячному войску никейского императора.
Юный император Латинской империи Роберт, жаждущий военных побед, вначале настаивал на том, чтобы дать бой сразу же, но более опытные военачальники сумели настоять на том, чтобы усталое войско получило хотя бы сутки для передышки.
Однако на следующее утро выяснилось, что Ватацис отступил без боя. Следующие три дня ситуация повторялась вновь и вновь. Отряды крестоносцев к вечеру настигали никейское войско, но к утру оно вновь отступало, заставляя неприятеля устремляться в погоню.
А на четвертые сутки в лагерь крестоносцев прискакал гонец из Константинополя, да с такими известиями, что хоть самим беги, причем без оглядки.
Многого вестник сообщить не мог, поскольку всех подробностей случившегося он попросту не знал, ибо ночь создана для того, чтобы благочестивый христианин спал после вечерней молитвы, а не бродил с мечом по улицам. Спал и будущий вестник.
Тем временем пятьсот русичей, еще совсем недавно, каких-то пять часов назад стоявших на невольничьем рынке, связанные попарно и по трое, выступили из постоялого двора, на котором они были размещены. Вот только, в отличие от недавней дневной прогулки, на этот раз шли они не уныло, пошатываясь и то и дело спотыкаясь, а бодрым быстрым шагом, причем все, как один, были вооружены до зубов. А впереди их неслышными тенями скользил десяток спецназовцев.
Первый патруль городской стражи им встретился сразу перед Амастрианской площадью. Это место уже давно пользовалось среди жителей города дурной славой. Считалось, что из-за обилия языческих статуй, выставленных на ней, — Зевса-Гелиоса на мраморной колеснице, распростертого на земле Геракла, разных фантастических птиц и ужасного вида драконов, — площадь по ночам находится во власти демонов, которым посвящены эти фигуры.
Именно поэтому, едва начальник стражи краем глаза заметил небольшую черную тень, метнувшуюся к нему из-за одной из статуй, он не стал хвататься за меч, а благоразумно решил перекреститься, чтобы бесовское наваждение сгинуло и исчезло обратно в страшной бездне ада. Руку ко лбу он поднести не успел — тяжелый острый нож вошел аккуратно в горло, прерывая движение на полпути. Остальные перед своей смертью и вовсе ничего не успели заметить, оставшись лежать в компании с мраморным Гераклом, распростертым на земле.
— Промедлил, — укоризненно заметил один из людей в черном другому.
— Исправлюсь, — виновато выдохнул тот в ответ.
— Нет, — отрезал первый безжалостно. — Меняйся с Родионом. Будешь оттаскивать. Званко, теперь ты впереди, — последовал короткий приказ.
И тени скользнули дальше по главной улице Константинополя Месе[3] в сторону Филадельфия. Совсем недавно эти люди уже были здесь. Некоторые изображали надсмотрщиков, а остальные — рабов. На этот раз они играли гораздо более привычную для себя роль воинов специального назначения. Каждый знал назубок, что именно ему предстоит выполнить.
К тому же это была далеко не первая их прогулка по ночному городу, так что они приблизительно знали, где именно повстречаются с очередным патрулем ночных стражников и даже сколько тех будет.
В районе Филадельфия ожидаемый патруль не появился. Это означало, что он до Месомфала[4] еще не дошел, а встретится им чуть дальше. Так и получилось. Троица мертвых стражников улеглась головами к стене, отделяющей Месу от монастыря Христа Акаталиптоса[5].
Третья по счету стража попалась им намного позже, на площади Тавра. Этих разместили прямо возле бронзовых статуй императора Феодосия и его сыновей. Воины задержались на площади лишь на несколько секунд — ополоснули руки и ножи в нимфее, куда сливались воды самого главного акведука Константинополя, водопровода императора Валента. Медлить было нельзя — впереди их ждал последний, четвертый патруль.
Миновав Анемодулий[6], первый из спецназовцев остановился. На его призывный тихий свист сзади из темноты мгновенно выступили еще пятеро.
— Вам торговые ряды и Артополий[7], — последовала короткая команда, и почти тут же вся пятерка послушно нырнула влево.
— После форума Константина меняетесь, — раздалось еще одно распоряжение, и десять черных теней, несущих с собой безжалостную скорую смерть, двинулись дальше, бесшумно огибая Порфирную колонну.
Еще дважды человек, плавно скользящий в своем беге, отрывисто бросал распоряжения, рассылая пятерку за пятеркой то влево — к кварталам медников и ювелиров, то вправо — к ипподрому, высившемуся сплошным черным пятном.
А вот уже и площадь Августеона[8]. Справа перед ними открылся вход в Большой дворец, а слева застыла громада церкви Святой Софии. Впереди чернели безобразными проломами стены старых полуразрушенных общественных бань Зевксиппа[9]. Фигуры застыли, ожидая новой команды старшего.
— Передохнуть, — коротко распорядился тот, доставая из-за пазухи какой-то сверток, разворачивая его и что-то на себя напяливая.
Облачившись в саккос[10], хотя и значительно более свободный, чем того требовала тогдашняя мода, он критически осмотрел себя, недовольно поморщился и махнул рукой.
— Сойдет, — буркнул он вполголоса и повелительно произнес: — Фляжку!..
— Слышь, Торопыга, может, я пойду? — робко предложил кто-то из его спутников. — Дозволь, а?
— Фляжку, — не ответив, нетерпеливо повторил тот, протягивая руку. — А ты, Родион, если будет все удачно под Халкой, пойдешь следующим, в Нумера[11].
Он закрыл глаза, сосредотачиваясь, затем откупорил фляжку, легонько пригубил из нее, плеснул немного прямо себе на грудь и двинулся вперед.
Бронзовые ворота, открывающие дорогу в комплекс палат Большого императорского дворца, которые именовались Халкой, только назывались воротами. На самом деле они представляли собой большую прямоугольную залу с колоннами и аркадами под куполом. Мраморные стены залы были щедро украшены разноцветными мозаиками, изображавшими победы императора Юстиниана 1[12], а посредине мраморного пола возвышался так называемый порфирный пуп — символ того, что византийская столица находилась в самой середине мира.
Здесь же, вдоль стен, были размещены статуи императоров, царских родственников и полководцев. Впрочем, ряд плит был уже расколот, у одних статуй не хватало ушей, у других — носа, у кого-то был стесан подбородок, а у самой ближней ко входу недоставало половины белоснежных кудрей.
И уж совсем чужеродным элементом среди всей этой былой роскоши красовались грубо воткнутые в стены и ярко полыхающие факелы, щедро покрывающие черной копотью две нарядные цветные фрески, размещенные ближе к потолку.
Возле одного из светильников лениво сидел воин, небрежно прислонивший к стене свою алебарду. Возле него в такой же ленивой позе стоял другой. Увесистая секира служила ему подпоркой. При виде фигуры, выступившей из темноты, оба насторожились, а сидящий резво вскочил на ноги.
— Wer da?[13] — прорычал вскочивший.
— Да заплутал я маленько, — заплетающимся голосом пробормотал человек и пьяно пошатнулся, едва не упав, отчего содержимое фляги, которую он сжимал в руке, едва не выплеснулось.
Караульные принюхались, затем переглянулись.
— Was ist das?[14] — вновь сурово произнес вскочивший, но его товарищ, все время пристально смотревший на фляжку, отстранил приятеля в сторону и поманил случайного гостя к себе:
— Herum, herum[15].
Язык жестов — самый интернациональный, так что фигура, шатаясь из стороны в сторону, послушно двинулась вперед, пьяно лепеча:
— И чем это вы тут занимаетесь, братцы? А я тут, понимаешь, иду и вижу — вы стоите…
— Ich verstehe nicht[16], — нахмурился более суровый из стражников и вопросительно повернулся к товарищу.
— Got verdamme mich[17], — расплылся в улыбке тот, что манил к себе пьяницу. Ноздри его возбужденно раздувались от манящего запаха, сочащегося из фляжки.
— А может, выпьем? — предложил пьяный и, подойдя вплотную к стражникам, протянул им фляжку. Глупая наивная улыбка на совсем юном мальчишечьем лице окончательно успокоила стражников, а аромат, продолжавший щедрыми волнами исходить из посудины, окончательно ввел их в благодушное настроение.
— О-о-о! — оценил первый, приложившись, и с некоторым сожалением протянул фляжку второму.
Пьяный ромей тем временем двинулся дальше, все так же бессмысленно улыбаясь.
— Эй, эй, — ухватил его один из стражников за рукав саккоса.
— А чего? Нельзя, что ли? — шмыгнул носом пьяница, упрямо стремясь вперед.
— Gehe zum teufel![18] — довольно-таки благодушным тоном произнес стражник, удерживавший его за рукав.
К этому времени они оба были повернуты спиной ко входу и не увидели две черные тени, стремительно приближающиеся к ним.
Второй открыл было рот, чтобы тоже внести свою скромную лепту в благое пожелание своего товарища и пояснить, что полная фляга с вином еще не повод, чтоб среди ночи лезть в Большой императорский дворец, но черные тени за их спинами так и не дали ему договорить.
— Der teufel[19], — только и успел прохрипеть еле слышно один из них.
— Обоих в уголок, — вытирая со лба пот, указал на пьянчуг протрезвевший Торопыга и благодушно махнул рукой, глядя на Родиона, умоляюще уставившегося на него. — Раз обещал, значит, так тому и быть. Давай, — и он кивнул в сторону перехода, ведущего в палаты нумеров.
Единственная заминка получилась с самими казармами. Ни в Нумерах, ни у Халки дверей практически не имелось, и заблокировать отдыхавшую стражу возможности не было. Забрать у нее оружие тоже не представлялось возможным, так что пришлось оставить здесь на страже по десятку подоспевших спецназовцев, которые зорко караулили, как бы кто из спящих невзначай не проснулся раньше времени и не поднял тревогу.
Остальные же тем временем бодро и сноровисто брали под охрану палату за палатой, выставляя своих караульных чуть ли не на каждом переходе. Блокировав Магнавру, чтобы никто не смог ускользнуть через нее в храм Святой Софии[20], а также Дафну вместе с Сакеллой и Кентинарием[21], на всякий случай выставив часовых даже в Хрисотриклине, Трибунале девятнадцати лож, Багряной и прочих палатах, Вячеслав с оставшимися в его распоряжении тремя сотнями воинов и пятью десятками спецназовцев двинулся к Вуколеонту[22].
— Главное — не расслабляться, — бурчал себе под нос верховный воевода. — Не бывает, чтобы все прошло так гладко и чисто. Где-то обязательно кроется закавыка.
Но этой самой закавыки так и не обнаружилось. Часовых на стенах, примыкавших к дворцу, спецназовцы сняли точно так же аккуратно, как и всю стражу до этого. Небольшая заминка произошла лишь в самом конце, когда в огромном фонаре Фароса[23] не обнаружилось ни капли масла. Но и эту задачку, хоть и не сразу, они разрешили — и масло удалось найти, и фонарь поджечь, и сигналы дать.
Словом, к трем часам ночи первая из ладей уже причаливала к дворцовой пристани, воины легко взбирались по непривычно гладким и ровным мраморным ступенькам наверх и сотня за сотней выстраивались прямо на Циканистрие[24].
Часть из них была немедленно отправлена на подмену спецназовцев, продолжавших караулить безмятежно спящих крестоносцев, а остальные, ведомые все теми же черными тенями, неслышно скользившими в трех-четырех десятках метрах впереди небольших отрядов, уходили прямиком через Халку в город. Крепостные стены пока еще далеко не целиком принадлежали русичам, и это упущение надлежало срочно исправить.
К сожалению, при утреннем свете осуществлять захват стало намного труднее. Кое-где не обошлось и без крови. Впрочем, общие потери составили все равно совершенно ничтожную цифру — восемь раненых и двое убитых. Сказывалась не только неожиданность, но и индивидуальное мастерство русичей, помноженное на отвагу и уверенность в своей правоте. Они пришли как освободители, а это значило, что бог на их стороне.
К утру власть почти полностью поменялась, хотя и не до конца. Те рыцари, что жили в самом городе, до сих пор ничего не знали, равно как и высшее руководство крестоносцев, продолжающее видеть последние безмятежные и сладкие утренние сны.
«Конечно, до абсолютного результата, как Костя говорил, я немного не дотянул, — вспомнил Вячеслав рассказ друга о том, что рыцари не потеряли при штурме Царьграда ни одного человека. — Но и это тоже недурственно».
Последнее и, пожалуй, самое неприятное Вячеслав оставил напоследок. В казармах по-прежнему находилось несколько сотен рыцарей. Пока они спали, но стоит кому-то проснуться, как… Об этом даже и думать не хотелось. Воевода вытащил из своей дорожной сумки увесистую гранату, задумчиво взвесил ее на руке и вновь заколебался — пускать ее в ход сразу или для начала предложить сдаться.
Его раздумья прервал встревоженный сотник, дежуривший у входа в Нумера. Крестоносцы, спавшие там, уже пробудились.
— Сдаться предлагали? — спросил Вячеслав.
— Куда там, — махнул рукой сотник. — Лезут, проклятые, прямо на мечи. У меня там пять десятков, и то еле сдерживают. Как бы не прорвались, — усомнился он. — Их там все-таки не менее трех сотен.
— Что ж, раз отказались сдаться, — пожал плечами воевода и решительно тряхнул головой. — Значит, они сами выбрали свою судьбу. Думаю, что десяток гранат для вразумления им хватит. — И, обернувшись назад, окликнул дружинника, терпеливо ожидавшего чуть поодаль:
— Кремень! Бери свою пятерку и… давай! — Воевода выразительно кивнул в сторону Нумеров.
— А с этими как быть? — поинтересовался второй сотник, отвечавший за Халку. — Они тоже, того и гляди, проснутся.
— Сдаться ты им все же предложи. Или…Что скажешь, Любим? — спросил он молодого дружинника, стоящего поблизости. — Ты же целых три дня ходил близ них. Сдадутся они или как?
— Навряд ли, — покачал тот головой. — Уж больно они надменны. Таких твердокаменных вразумлять долго надо.
— У нас на это времени нет, — буркнул Вячеслав. — А мне жизнь одного нашего русича дороже тысячи этих тупоголовых. Мокша!
Невысокий темноволосый воин вырос перед воеводой и застыл в молчаливом ожидании приказа.
— Бери свою пятерку и действуй, — распорядился Вячеслав.
— А может, предложить сдаться? Вдруг согласятся, — неуверенно предложил тот и с упреком посмотрел на Любима. — Попробовать-то недолго. Чай, они тоже живые. Хоть и не по-нашему, а все же в Христа и богородицу веруют.
— Они варвары, и за душой у них ничего святого нет. Одна нажива и в глазах и в сердце, — поучительно ответил Вячеслав. — А христианами они себя лишь называют. На деле же такие мерзости творят, что и не всякий язычник решится… — Он вздохнул и махнул рукой.
— А чего они делали-то? — не унимался жалостливый Мокша.
Воевода в глубине души тут же пожалел, что не провел соответствующую политбеседу, беззвучно выругался и стал мучительно припоминать все то, что ему рассказывал Константин.
Впрочем, услужливая память не подвела, и уже через несколько секунд он уверенно продолжил:
— Сами помыслите, разве может истинный христианин в храме Софии у святых на иконах глаза выкалывать, если видит, что туда лалы или иные самоцветы вставлены? Вдобавок, они еще и своих лошадей в божьи храмы заводили, если чувствовали, что самим награбленное не вынести. — Он внимательно посмотрел на сотника и добавил для вящей убедительности: — И женщин прямо там внутри насиловали.
— В самой Софии? — зло сузил глаза молодой сотник.
— И в ней, и в храме Христа Пантократора, и в церкви Святых Сергия и Вакха… Словом, везде, — подытожил воевода.
— Я все понял, Вячеслав Михалыч, — кивнул Мокша.
— Ну вот и славно. А кто в живых останется, тех вязать и в подвалы, — добавил воевода и усмехнулся. — Это они хорошо придумали — тюрьмы прямо под казармами устраивать. Очень удобно, особенно на случай переворота, — он вздохнул и медленно побрел в сторону Вуколеонта — навалившаяся усталость вкупе с бессонной ночью давала о себе знать. — Сейчас бы поспать немного. Ах, да, — вспомнил он еще об одном деле, на сей раз не столь неприятном. — Николка! Панин! — окликнул Вячеслав довольно улыбающегося Торопыгу. — Давай-ка ты вместе с Филидором буди всю оставшуюся компанию вместе с их духовенством и запихивай всех кучей в одно место.
— Тоже в подвалы? — уточнил Торопыга.
— Да нет. Туда не надо бы. Все ж таки начальство, — протянул насмешливо воевода. — А еще что-нибудь имеется на примете?
— Тогда можно в саккеларий, где казна должна была храниться, — предложил Николка.
— А что, там уже ничего нет? — удивился Вячеслав. — Вроде на наших ребят непохоже.
— Так там почти ничего и не было, — пояснил Торопыга. — В одной только светлице небольшая кучка серебра прямо посередке лежит, да еще всякая всячина в углу навалена. Тарели гнутые, кувшины мятые да прочее, а остальные светелки и вовсе пусты.
— Вот тати! — почти восхищенно заметил Вячеслав и добавил с некоторым раздражением: — А ведь Иоанн не поверит, что мы себе ни одной монеты не прихватили. Ну и ладно, — он махнул рукой и откровенно зевнул. — Я передохну малость вместе с отцом Мефодием. Найдется тут местечко для нас с ним или как?
— Найдется, — беззаботно улыбнулся Торопыга. — Сейчас мои вои вас отведут.
— Вот и славно, — кивнул воевода. — К полудню вели им меня разбудить — раньше ни к чему, а сам отправляйся прямо сейчас к Иоанну Дуке. Поспишь в ладье. Передашь ему, чтобы он…
Инструктаж Торопыги длился недолго, основное ему должен был передать Изибор Березовый меч, который оставался при пяти сотнях, назначенных в помощь Ватацису.
— Все понял? — строго спросил Вячеслав, закончив говорить.
— Передам, — твердо заверил Николка. — Как ты сказал, все слово в слово скажу.
— Ну, удачи, — напутственно хлопнул его по плечу воевода и побрел отдыхать, продолжая покачивать головой и не переставая удивляться тому, что первая часть задачи, которая казалась им с Константином наиболее сложной в исполнении, то есть захват самого города и изгнание оттуда западных рыцарей, прошла настолько легко и просто.
«Интересно, а вещий Олег, после того как он на царьградские ворота щит свой присобачил, тоже спать завалился или как?» — лениво размышлял Вячеслав, бредя следом за спецназовцем к своей постели.
Он тогда еще и думать не думал, что вторая часть, простая и легкая, по сути — обычная формальность, таковой на деле как раз не будет. Не знал воевода и того, что только чудо поможет им с митрополитом остаться в живых, что… Словом, он еще ничегошеньки не знал, а потому сон его в это весеннее утро был по-детски сладким и безмятежным.
Но гонец — венецианец Лючано, прибывший в стан крестоносцев, всех этих подробностей ведать не ведал, разбуженный поутру громкими воплями константинопольской черни, в упоении ревевшей «Ника!» да еще «Бей!». Как ему удалось ускользнуть от десятка бродяг, вломившихся в дом, он не сумел бы объяснить при всем желании.
Скорее всего, его спасло то, что впопыхах он не успел прихватить ничего из оружия, а смуглое лицо с чернявыми волосами, типичное для обычного венецианца, помогло этому человеку смешаться с толпой, ничем не выделяясь среди уличной голытьбы.
Таких счастливчиков, как этот Лючано, оказалось не столь уж много, и все они, переправившись через Золотой Рог, вскоре собрались в северном предместье Константинополя Галате — оплоте венецианцев, готовясь отбиваться от неведомых врагов и, если придется, дорого заставить заплатить за свою жизнь.
Лючано и еще трех человек из числа очевидцев было решено немедленно отправить к войску императора Роберта, чтобы предупредить его о случившемся и объединенными силами попробовать сразу же отбить город. Прибыли они в лагерь крестоносцев без помех.
Выслушав гонцов, руководство войска после недолгого совещания, в котором сам император Роберт практически не принимал участия, пришло к выводу, что наиболее разумно предложение самого старейшего и опытного в военном деле Гуго Шампаньского, который настаивал на немедленном возвращении. К нему присоединился и молодой, но уже искушенный в военном деле, к тому же весьма именитый Рожер Прованский — внук самого короля Арагона Альфонса П.
Однако едва они стали собираться в обратный путь, решив временно оставить Никомедию и прочие владения в Малой Азии на произвол судьбы, как на них налетели катафрактарии Иоанна Ватациса, воодушевленные вестью об освобождении Константинополя.
Торопыга прибыл на сутки раньше Лючано, но встретился с Иоанном тайно. Поначалу Ватацис хотел было немедленно сообщить радостную весть своим воинам, но Николке, невзирая на молодость, удалось удержать Дуку, ссылаясь на воеводу Вячеслава.
Словом, весь следующий день зять императора Феодора нетерпеливо ожидал, когда крестоносцы получат печальные новости, согласившись с гонцом, что воин, расстроенный грустными вестями, наполовину, если не больше, теряет силу, а потому торопиться с атакой ни к чему.
Тем временем Николка отрядил в разведку всех своих пятерых спецназовцев, прибывших вместе с ним, которые не только заметили прибытие гонца из Константинополя, но и сразу определили, что в лагере крестоносцев начались спешные сборы в обратный путь.
Едва Иоанн получил долгожданную весть, развязывавшую ему руки, как немедленно сообщил о взятии Константинополя всему своему войску. Именно потому атака ликующей армии никейской империи, на четверть усиленной русскими дружинниками, нанесшими разящий удар с левого фланга, оказалась неотразимой.
Собирающийся отступать воин, будь он хоть трижды неустрашимым рыцарем, не имеет воли к победе. Не до нее. Отбиться бы да самому уцелеть. Вот почему отступление в большинстве случаев очень быстро переходит в панику. А если толком неизвестно, куда именно отступать, то тут уж об организованном сопротивлении говорить и вовсе не приходится.
До Боспора добралась едва ли десятая часть тех, кто всего несколько дней назад горделиво выступил в поход под знаменами юного императора Роберта. Это не были самые отважные воины. Об измученных всадниках, которых угрюмые венецианские гребцы везли в Галату, можно было твердо сказать только одно — у них оказались самые резвые и выносливые кони.
У Гуго Шампаньского и Рожера Прованского лошади были не хуже, но рыцари, верные своей вассальной присяге, полегли в первый же день, прикрывая с небольшими отрядами отступление своего сюзерена.
Впрочем, их героизм оказался напрасным. Когда до Боспора было подать рукой, белый конь императора на всем скаку споткнулся, угодив передней левой ногой в небольшую малоприметную ямку. Роберт слыл неплохим наездником, но это был не его день. Перелетев через конскую голову, он сломал ногу и, будучи не в силах увернуться, мог только в горестном оцепенении наблюдать, как летит прямо на него, стремительно увеличиваясь в своих размерах, огромное конское копыто, зловеще поблескивая тяжелой железной подковой.
— Да нет, — повторил воевода уже более уверенно. — В ту ночь как раз особых приключений и не было. Все прошло без сучка и задоринки. Прямо как по маслу. Задоринки потом пошли. Вместе с сучками.
Глава 2
Первый меч империи
— Ты имеешь в виду ожидание? — уточнил Константин. — Или то, как вы с Иоанном нагнали на всех ужасу? — Он весело улыбнулся.
— Да какой там ужас, — досадливо отмахнулся Вячеслав. — Хотя и впрямь было что вспомнить. — Он тоже, в свою очередь, улыбнулся. — А как иначе я мог выполнить твой заказ? Тут не то что в эти, как их там?..
— Логофеты[25], — подсказал Константин.
— Во-во, в они самые подашься. К тому же ему там и впрямь несладко пришлось, а мы все равно без дела сидели.
Подробности гибели бывшего императора бывшей Латинской империи Вячеслав узнал через несколько дней из доклада того же Торопыги, но отнесся довольно-таки равнодушно и к смерти Роберта, и к окончательному разгрому крестоносного войска тоже. А вот весть о том, что Иоанн немедленно послал в Никею гонцов и, отпуская Николку, заверил его в том, что через неделю, самое долгое — полторы, патриарх Герман прибудет, была как бальзам на раны.
Владыка Константинопольской епархии прибыл только через двадцать два дня и привез весточку о том, что божественный властитель величайшей империи мира, вся территория которой умещалась в одном Муромском княжестве, император Феодор Ласкарис скончался. Вячеслав так и не понял, плоха или хороша эта новость для него самого и для его людей.
Но она в его глазах тут же померкла, потому что почти одновременно с нею он получил и ворох вестей из Руси. Рязанский купец, прибывший в Константинополь, сообщал, что в Киеве появился половецкий хан Котян с просьбой заступиться за него перед страшным племенем, прибывшим неведомо откуда и дочиста разграбившим его кочевки и даже зимнее стойбище в Шарукани.
То есть получалось, что вся подготовка пошла псу под хвост, потому что случилось то, о чем он, Вячеслав, так настойчиво предупреждал Константина. Теперь же оказывалось, что, когда пришел час самых решительных испытаний, они — за исключением добросовестного Миньки — оказались неведомо где. Кто штурмует какую-то дрянную Ригу, будто этот хлипкий грязный городишко нельзя было взять на следующий год, а кто и вовсе уплыл аж в Царьград.
И ведь новости-то на этом не кончались. Оказывается, стоило ему оставить Константина всего на недельку без присмотра, как он тут же ухитрился получить чуть ли не смертельную рану в грудь, и что теперь делать — вовсе непонятно.
Именно поэтому Вячеслав, охваченный тяжкими думами, сквозь пальцы посмотрел на униженную просьбу константинопольского патриарха Германа о том, чтобы дозволить Иоанну Ватацису прибыть в Константинополь для участия в торжественной церемонии захоронения императора Феодора еще до церемонии возведения отца Мефодия в сан патриарха всея Руси.
Слова Константина о том, что императора Византийской империи должны встречать у Золотых ворот два патриарха — Герман II и Мефодий I, напрочь выскочили у него из головы.
У Германа же на уме было совсем иное, и эта оттяжка времени стала первым, но далеко не последним звеном в его хитроумном замысле, суть которого заключалась в том, чтобы поставить в Киеве обычного митрополита, и, желательно, не столь близкого к Константину, как Мефодий. Уж больно тот склонен во всем, буквально во всем, оправдывать своего князя.
Не следует думать, что Герман был столь злокозненным человеком. Поначалу, когда он еще занимал пост хартофилакса[26], он был искренне убежден в том, что уния, заключенная с римским престолом в обмен на поддержку и помощь латинян, окажется благом для империи.
Будущий патриарх не был слепцом и прекрасно видел, что никейским императорам — ни ушедшему из жизни Феодору, ни молодому энергичному Иоанну — навряд ли удастся вернуть себе Константинополь. Иными словами, он был сторонником унии поневоле, так как не видел иной возможности овладеть бывшей столицей Византийской империи.
Теперь же, после того как русичи сотворили почти невозможное, надобность в этом противоестественном союзе отпала, и он стал яростным и вполне искренним противником какого-либо объединения.
А между тем константинопольские купцы, прибывшие из Киева, доносили, что рязанский князь теперь находится в порубе, и заключили его туда князья не из черной зависти, хотя и она, вне всякого сомнения, сыграла свою роль. Тем не менее главное, что ему вменяли в вину, — это тайное сношение с римским папой.