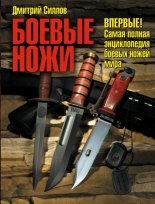И пели птицы… Фолкс Себастьян

© Sebastian Faulks, 1993
© С. Ильин, перевод на русский язык, 2014.
© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Синдбад», 2014.
* * *
Посвящается Эдварду
Предисловие
Если верить пометкам на объемистой – 673 страницы на машинке – и изрядно исчерканной рукописи, которая хранится у меня на чердаке в полуразвалившейся картонной коробке, писать «И пели птицы…» я начал 10 июня 1992 года, а закончил утром 9 января 1993-го. В той же коробке хранится и банка из-под варенья с этикеткой «CONFITURE L’ANCIENNE, GELE DE CASSIS»[1]; поверх этикетки надпись моим почерком: «Земля с просевшей дороги, Бомон-Амель, Сомма».
Под банкой лежит большая тетрадь в твердом синем переплете, сшитая из альбомного формата листов в тонкую линейку с беспорядочными набросками к книге, тогда условно озаглавленной «Конец июля». На одном из листов выписаны имена второстепенных персонажей, в числе которых фигурирует «командир роты капитан Вудвис». Фамилия зачеркнута; сверху написано: «Грей» – впоследствии это решение не раз ставило в затруднительное положение дочь капитана. Наконец, здесь же имеется план системы туннелей, в которых заблудились Стивен и Джек, а также незавершенная хронологическая таблица, обрывающаяся на записи: «Изменить в 1-й части возраст барышень Фурмантье».
Сегодня, задним числом, меня больше всего поражает, как я с явно недостаточной подготовкой мог взяться за сочинение столь грандиозного, с какой стороны ни взгляни, романа; возможно, впрочем, я подспудно, сам себе не отдавая в том отчета, давно готовился к этой работе. Я засел за «И пели птицы…», когда мне было 39 лет, но о Первой мировой начал задумываться с того дня, когда мне, двенадцатилетнему школьнику, поручили зачитать на праздновании 11 ноября[2] список погибших в двух мировых войнах выпускников нашей школы. Школа была небольшая, но список оказался таким длинным, что на следующий день меня освободили от уроков – я осип. Я всегда чувствовал, что вокруг Первой мировой существует какой-то «заговор молчания». Когда наш преподаватель истории, с таким красноречием рассказывавший о Стюартах и Хлебных законах, добирался до Первой мировой войны, у него словно сбивалось дыхание; он сокрушенно покачивал головой и, казалось, спешил поскорее развязаться с этой темой. Может, у него брат погиб в сражении, гадал я; так или иначе, случилось что-то очень значительное, и у меня в голове постепенно зрело решение: когда-нибудь я постараюсь понять, что именно.
Работая над романом «Девушка из „Золотого льва“», опубликованном в 1989 году, я читал о Франции 1930-х; главная героиня книги, официантка двадцати с небольшим лет, перенесла в детстве психологическую травму; путем несложного арифметического подсчета можно прийти к выводу, что это событие приходилось на годы Первой мировой. Поначалу я не хотел связывать эту травму с войной, потому что понимал: война – это ящик Пандоры, открыть который я не готов; однако в конце концов решил все же ею заняться и начал с книги Ги Педронсини «Бунты 1917 года», которую мне удалось отыскать в университетской библиотеке Нанта (до эпохи Интернета сбор материалов к новому роману требовал массы разъездов); за этой книгой последовала «Цена славы» Алистера Хоума – рассказ о битве при Вердене, изменивший (наряду с «Вишистской Францией» Роберта Пэкстона) мои представления о Франции ХХ века. В 1988-м я работал литературным редактором в лондонской газете «Индепендент», и накануне семидесятой годовщины Перемирия в редакцию хлынул поток новых рукописей о войне. В особенности заинтересовала меня одна из них, описывавшая туннельные операции. Прежде я и не подозревал, что в расположенных на нейтральной полосе туннелях, настолько низких, что в них нельзя было выпрямиться в полный рост, велась еще одна война: это был ад в аду. В книге также рассказывалось о том, как под землю залетела канарейка, выносить которую на поверхность пришлось офицеру, патологически боявшемуся птиц. В воспоминаниях фронтовиков то и дело упоминалось птичье пение: в периоды затишья оно становилось слышнее и многим дарило надежду, – жизнь продолжается, – но история о канарейке поразила меня своей глубокой символичностью.
В ноябре 1988-го газета направила меня вместе с группой ветеранов на Западный фронт, – поездку организовал историк Лин Макдональд. Я стоял на земле Нев-Шапель и Обер-Ридж рядом с людьми, которые сражались здесь в 1915-м; один из них держал меня за руку и рассказывал, как собирал разорванное на куски – «каждый размером не больше бараньей ноги» – и складывал в мешок тело своего друга; перед самым наступлением он зарыл мешок в окопе. В то шестнадцатилетней давности зимнее утро война из «истории» превратилась для меня в нечто подлинное и живое: она происходила сейчас; она была стариком, теплая и живая ладонь которого лежала в моей ладони; она была плотью, была кровью; и по какой-то не ясной причине мне было совершенно необходимо ее понять. Во второй половине дня я бродил с моим новым знакомым между рядов надгробий одного из кладбищ военного времени, красивых жутковатой красотой. Неожиданно старик замер на месте. Сгинувшее навсегда, как он считал, тело его погибшего товарища выкопали из земли и похоронили в достойной могиле: мы набрели на белый камень, на котором было выбито его имя. «Ну, знаете! – изумленно шептал он, впервые за семьдесят без малого лет оказавшись лицом к лицу со своим лучшим другом. – Ну, знаете!»
В последующие три года я много читал о войне, хотя и не слишком погружался в предмет, поскольку писал тогда другую книгу. Большая часть художественных произведений меня разочаровала, как и прославленные мемуары военных, написанные с присущей офицерам ироничной отстраненностью. Книга Денниса Уинтера «Мертвые» напомнила мне о существовании огромного количества архивных материалов и направила в Британский военный музей, где я в дальнейшем провел очень много времени. К этому моменту я столкнулся с серьезным парадоксом. С одной стороны, я чувствовал, что опыт этой войны каким-то образом ускользнул от понимания широкой публики – даже хорошо образованные люди, похоже, имели о ней довольно смутные представления. Отчасти это объяснялось молчанием тех, кто на ней побывал. Прежде человеческая история еще не знала подобной бойни – каково же было этим людям рассказывать о ней? К тому же всего двадцать лет спустя мир сотрясло второе безумие того же рода, и память о его жертвах столь прочно вошла в сознание человечества, что для предыдущих ужасов в нем просто не осталось места. С другой стороны, Первая мировая война породила великую литературу (Оуэн, Ренн, Барбюс, Ремарк и другие писатели); эти авторы во многом разобрались.
Я не забывал о том, какой совет дал будущим поэтам Джеймс Фентон: старайтесь в каждом стихотворении писать о том, чего никто не знает. Я понимал: если мне удастся привнести в свой рассказ о войне нечто новое, он привлечет внимание даже тех, кто хорошо о ней осведомлен, и в этом смысле история бойцов-землекопов представлялась мне более чем подходящей. Однако я все еще не нашел ответа на преследовавший меня вопрос: зачем это нужно? Какое отношение к нынешней жизни имеют все эти давние ужасы? И я решил ввести в книгу относительно современный персонаж – Элизабет, предоставив ей задаваться этими вопросами.
К весне 1992-го почти все эпизоды романа уже выстроилась в стройную схему, а его главная тема, продиктованная прочитанными мной книгами и документами, определилась сама собой. Тема формулировалась следующим образом: как далеко мы способны зайти? Где пролегают границы человечности? Меня всегда поражало, что за все время бессмысленного уничтожения десяти миллионов человек никто ни разу не сказал: хватит, если мы и дальше будем продолжать в том же духе, мы потеряем право именоваться людьми. На самом деле в 1917 году французская армия уже бунтовала, и довольно ощутимо, хотя беспорядки в основном сводились к нежеланию солдат ходить в атаки; 1 июля 1916 года некоторые немецкие пулеметчики, устрашившись ого, что натворили, отказались воевать дальше. Однако эти факты так и не дают ответа на главный вопрос. А ответ, судя по всему, заключается в том, что предела тому, на что способен человек, просто не существует.
Я не раз побывал в местах боев Западного фронта и убедился, с какой легкостью мы предаем забвению историю: лишь крошечная табличка напоминает посетителям занимающего две комнаты музея Альбера, что в войне 1914–1918 годов участвовали не только французы, но и представители других народов; местные жители, с которыми я разговаривал, удивлялись, услышав, что в ней сражались и британцы. В апреле я отправился на линию фронта, проходившую вдоль Соммы, прихватив с собой полученную в Британском военном музее карту. Мне давно хотелось узнать, что представляли собой печально знаменитые места до того, как приобрести свои нынешние страшные имена: оживленный порт Хиросима, заброшенные сарайчики в прелестном городке в предгорье Карпат, известном как Освенцим. На что походила Сомма, пока не стала «той самой Соммой»? Если сюжетом книги будет рассказ о том, как далеко человек может зайти душой и телом в деле убийства, тот же вопрос в ней должен быть поставлен и в отношении любви. Я с самого начала решил, что действие первой части книги будет разворачиваться в мирное время и состоять из живых сцен, предвестниц близящейся – что было известно мне, но не персонажам книги, – катастрофы с множеством смертей и увечий. Я остановился в скромной гостиничке на ферме, расположенной на берегу Анкра, непосредственно за линией британских окопов. Я чувствовал, что почти приблизился к местам событий, но искра все никак не высекалась – я так и не мог постичь, что именно мой англичанин забыл в этой сельской глуши. В отчаянии я вернулся в тоскливый Амьен – радиомузыка на улицах, унылый кафедральный собор. В разделе «Достопримечательности» туристская брошюра сообщала, что после опустошений, причиненных двумя мировыми войнами, от города почти ничего не осталось, однако мне не терпелось посетить его знаменитые водные сады.
Я сидел с десятком других туристов в плоскодонном ялике и, подавленный, размышлял, удастся ли мне когда-нибудь написать эту книгу. А потом увидел крысу на берегу канала, подпертом досками, – строители окопов называли их «шелевкой». Вдоль воды тянулась гниющая растительность, и внезапно я оказался там, в жарких послеполуденных часах 1910-го; я ощутил, как женщина прижимается ногой к ноге своего любовника, как грядущая война отбрасывает тень на подернутые ряской каналы, от которых веяло сыростью. Экскурсия закончилась, я торопливо вернулся к оставленной у собора машине, достал из бардачка лист бумаги и записал: Изабель, красная комната, приемная дочь-подросток, сцена в постели… А потом свернул на соседнюю улицу, бульвар дю Канж, и увидел строгих очертаний крепкий увитый плющом дом, в котором эта сцена произойдет; конечно, Стивен будет никаким не фермером, он будет работать на текстильной фабрике, столь естественно связывающей Амьен с Англией. В тот вечер за ужином в пансионе напыщенный постоялец отпустил пару снисходительно-одобрительных реплик в адрес хозяйки, а потом с напускной застенчивостью запел; его пухленькая жена взирала на него с одобрением. Казалось, все вокруг меня так и просится в роман.
Я провел несколько дней в прогулках по берегу Анкра, вдоль линии британского фронта, видел жалкий клочок земли, который англичане отбили при наступлении, унесшем за один день жизни шестидесяти тысяч человек. Я проводил долгие часы на маленьких кладбищах. Не знаю, что я искал, я просто впитывал в себя этот мир, возможно, надеясь обрести право описать его. Временами меня душили ярость и гнев; временами я чувствовал, как моя унаследованная с детства холодная целеустремленность леденеет; а временами – под весенним солнцем, среди надгробий – на меня снисходили странный покой и легкость, как будто я сидел в компании друзей. Не обманывает ли меня предчувствие? Неужели я и вправду смогу написать эту книгу? Сомнения грызли меня – и не без оснований, признавал я, если учесть масштаб задуманного и отсутствие знаний, потребных для выполнения поставленной задачи (даже в мелочах: я, например, никогда не интересовался тем, какие существовали рода войск и чем отличались их кокарды). На лесистом склоне близ мемориала в Тьепвале я споткнулся о снарядную гильзу, – значит, оно здесь, оно все еще здесь. Потом на просевшей дороге – под дулами немецких пушек Бомон-Амеля – набрал немного земли; если, работая, я буду притрагиваться к ней, она наверняка свяжет меня с прошлым. И наконец, постоял под огромной аркой Тьепваля с нанесенными на нее именами – словно сноски мелким шрифтом, набранные в небе, – пропавших без вести солдат; не павших, а просто исчезнувших без следа. Затем вернулся к машине и поехал к Ла-Маншу.
Стивен с войны вернется – это я, во всяком случае, знал. Важно было избежать, чтобы он напоминал навязший в зубах образ синеглазого офицера, весело распевающего «Сложи свои беды в походный мешок»[3]. Тон повествованию задавала сама тема романа; описываемые в нем события подразумевали, что вынести их мог только человек определенного склада характера, следовательно, личность Стивена вырисовывалась более или менее ясно. Такова, я думаю, идеальная схема: двигаться от темы к событиям и характерам, хотя мало кому удается осуществить ее на практике. К примеру, персонажи Джинни и Грея развивались с пугающей самопроизвольной быстротой, следуя за логикой романа, который, в свою очередь, норовил вырваться из-под воли автора. Изабель я решил снабдить достаточно богатой биографией, описав ее семью и детство, – редкость в современном романе, но для выполнения тех задач, которые я перед ней ставил, это представлялось мне необходимым. Майкл Уир и Джек Файрбрейс обеспечивали гармонический контрапункт Стивену: простодушие против мудрости, испуг против хладнокровия, уныние против предприимчивости. Поначалу Элизабет существовала для того, чтобы задавать вопросы читателю и служить повествовательным стержнем: с ее помощью я стремился показать, что настоящее неразрывно связано с прошлым, равно как и общественное с личным – эта идея красной нитью проходит через все три тома, составивших мою «Французскую трилогию». Впрочем, куда весомее оказался вклад Элизабет в развитие сюжета: ее посещение Бреннана в доме инвалидов, расшифровка дневника Стивена и резкие переходы в ретроспективу 1917 года, звонок в Шотландию, Грею, во время которого до нее сквозь телефонное потрескивание доносится живой голос прошлого. Все эти эпизоды символизировали для меня и, надеюсь, для читателя главное – стремление обратиться к прошлому с искупительной любовью.
Помимо стратегии романа у каждого автора имеется и своя тактика. В «И пели птицы…» она проста: массированная лобовая атака. Мой предыдущий роман продвигался окольными путями, не придерживаясь хронологии событий, поскольку я считал этот способ наилучшим для развития его темы; в «И пели птицы…» я отдал предпочтение прямо противоположному подходу: из всех возможностей выбирал простейшую, никогда не буксовал и не топтался на месте, неизменно двигался по прямой, а в основу «военной» части книги положил самый бесславный в истории британской армии день. Разумеется, я не думаю, что все романы следует писать именно так, но был твердо убежден по поводу этого романа. Книга по большей части лишена иронии, которая если и присутствует, то лишь в названии – слишком тихом для его грохочущей темы. (Поскольку меня иногда спрашивают об этом, нужно, наверное, объяснить, что я не искал никаких ассоциаций с символикой «новой жизни» и «новой надежды»; вкладывая в название романа сразу несколько значений, я хотел подчеркнуть самое важное из них: мир природы равнодушен к человеку – человеку, как у Филипа Рота, в худшем смысле этого слова.)
В первой части книги я старался самой фактурой прозы усилить ощущение социальной и сексуальной клаустрофобии, передать дух того времени. Кроме того, я счел уместным показать, – не опускаясь до ребяческих постмодернистских «отсылок», – что хорошо знаком со своими литературными предшественниками и не мню себя первым автором, сочинившим любовную историю из жизни французской провинции. Идея состояла в том, чтобы дружески похлопать по плечу читателей, подкованных в литературе, ничем не ущемив интересов всех прочих. По-моему, мало кто обратил внимание на этот аспект романа, хотя кое-кто и упоминал в связи с ним имя Флобера. Не исключено, что это вызвано тем, что Флобер – единственный французский писатель, которого читают в Британии. Я полагаю, любому прозаику, придающему значение реалистичности деталей в описании напряженных эмоциональных переживаний, есть чему поучиться у Флобера, пусть и не напрямую, а косвенно; впрочем, что касается меня, то я чувствую себя обязанным двум другим французским романистам – Стендалю и Золя. На страницах романа, посвященных войне, я для создания атмосферы неустойчивости стремился использовать различные лексические средства – убирал прилагательные и увеличивал количество глаголов; в тех частях, где действие происходит в наше время, я склонялся к более нейтральной, даже тусклой прозе, отражающей, по определению Элизабет, «отсутствие глубины» в современной жизни.
Я сочинял «И пели птицы…» (рабочее название «Плоть и кровь» было отвергнуто на полпути) в состоянии, близком к исступлению: каждое утро записывал около 1500 слов, а затем отправлялся на метро в Британский военный музей, где до самого закрытия изучал документы из его колоссального архива. По ночам мне снились окопы. Я не стрелял, меня не поднимали в атаку, я просто в них жил. Случалось, что в процессе письма меня захлестывали эмоции, – в этом случае я покорялся твердому правилу: остановиться. Я не ставил своей целью излить на страницу собственные чувства – я хотел, чтобы читатель, вникая в детали повествования, почувствовал то же, что чувствовал я. В последние десять лет я ни разу не перечитывал роман, но думаю, что тот факт, что написан он очень быстро, не может не бросаться в глаза: некоторые сюжетные нити провисают (по преимуществу я делал это намеренно), в отдельных местах остались шероховатости, кое-где рассказ обрывается; однако сопротивляться той силе, что безудержно влекла меня вперед, я уже не мог.
Закончив работу, я послал рукопись фермеру Мартину Миддлбруку, разводившему в Линкольншире кур, автору книги «Первый день битвы при Сомме», из которой я позаимствовал несколько существенных деталей. Замечания, оставленные им на полях, поначалу отличались резкостью («Такого быть не могло!», «Это штаб корпуса, а не дивизии!»), но постепенно смягчались. Я также консультировался с профессором Лондонского университета Дугласом Джонсоном – когда я писал «Девушку из „Золотого льва“», он делился со мной своим знанием Франции. Наконец, я послал рукопись в издательство, где ее прочитали три человека, предложившие мне внести в текст некоторые изменения: первое из них заключалось в том, чтобы подчеркнуть приверженность Элизабет феминизму и соответственно ее успехи в бизнесе, второе – в том, чтобы указать, кто что заказывает, когда она с коллегами посещает свое любимое итальянское кафе. Поняв, что тяжелые кровавые сцены возражений у издателя не вызывают, я с радостью исполнил все эти требования. Заменить «поехала от дома к Мраморной арке подземкой» на «взяла в Хитроу такси»; увеличить годовой оборот фирмы Элизабет примерно на пятьдесят процентов и упомянуть, что лазанью заказала Ирен, – все это было для меня, по выражению Берти Вустера, «секундным делом».
Эпиграфом я взял ту самую строку из Рабиндраната Тагора, которую Уилфред Оуэн цитирует в письме к матери – последнем перед возвращением на фронт и гибелью в ноябре 1918-го. Для обложки мы с женой выбрали картину из альбома репродукций Лувра – не вполне подходящую, но отражающую силу и уязвимость молодости. Я вычитал корректуру, после чего мне оставалось только ждать. Впрочем, еще до того, как роман увидел свет, я летал в Нью-Йорк, где как раз вышла моя предыдущая книга «Алфавит дурака». Издательница, пригласившая меня к себе в парящий над Манхэттеном кабинет, поглядела на меня поверх рукописи печальным взором. Роман слишком длинен, сказала она; если я самым решительным образом не сокращу военную часть, она не видит возможности его напечатать. Кроме того, не стоит ли вместо Первой мировой войны использовать более свежий конфликт? Нет, ответил я, не стоит, и уковылял на Шестую авеню, жестоко страдая от смены часового пояса и разочарования.
На поиски американского издателя ушло почти три года, но в конце концов права на издание в твердом переплете и в мягкой обложке купил «Рэндом Хаус», уплатив чуть меньше той суммы, на какую расщедрился журнал светской хроники за «интервью со знаменитостью». Я не спорил, я был рад, что книгу вообще издадут, но ее издали, и издали хорошо. В Британии она вышла 15 сентября 1993 года, у меня в дневнике записано, что в тот же день, в два часа пополудни, я дал местной радиостанции свое единственное интервью на эту тему; правда, лондонская «Ивнинг Стандард» тоже взяла у меня интервью, но его напечатали лишь в спортивном выпуске. Я получил от читателей несколько одобрительных писем, некоторые газеты напечатали рецензии (в диапазоне от злобных до проникнутых искренним интересом), тем все и кончилось – книга не стала бестселлером и не вошла ни в короткие, ни в длинные списки присуждавшихся в том году литературных премий. В твердом переплете было продано около девяти тысяч экземпляров, что для серьезной книги на трудную тему совсем неплохо; и вот в декабре, когда издательский год завершился, а я выписался из больницы, где пролежал с воспалением легких, я приступил к работе над новой книгой, биографической, которую назвал «Роковой англичанин».
Последним – приятным – долгом, исполнения коего требовала от меня книга, было посвящение. Некоторое время меня влекла мысль посвятить ее павшим на войне, но я отверг ее как бестактную и посвятил книгу своему старшему брату Эдварду, в кабинете которого, пустовавшем, пока он был на работе, я ее написал. Я посвятил ее человеку, и в дурные, и в хорошие времена остававшемуся мне верным другом, человеку, чье творческое воображение с детства будило мою фантазию. День, в который отец Элизабет в романе играет в гольф, несомненно, покажется Эдварду знакомым, – это день его рождения, – хотя его, вероятно, неприятно поразит разгромный счет, с каким закончится игра…
Себастьян Фолкс, 2004
Расставаясь с этим миром, я скажу в своем прощальном слове: то, что мне довелось увидеть, уму непостижимо[4].
Рабиндранат Тагор. Гитанджали (Жертвенные песнопения)
Часть первая
Франция, 1910
1
Широкая тихая улица, именовавшаяся бульваром дю Канж, помечала восточную границу Амьена. Приходившие с севера, из Лилля и Арраса, фургоны направлялись прямиком к сыромятням и мельницам квартала Сен-Лё, не имея нужды заезжать на нее – колеистую, усыпанную палой листвой. Вдоль городской стороны располагались солидные парки, квадратные, с цивильной точностью отмеренные муниципалитетом и отданные стоявшим посреди них особнякам. Над влажной травой возвышались каштаны, сирени и ивы, предназначенные давать тень и покой владельцам. Выглядели парки заброшенными, неухоженными: тянувшиеся вглубь лужайки, буйно разросшиеся живые изгороди, за которыми укрывались полянки, тихие пруды и просто участки земли, не навещаемые даже обитателями особняков, поросшие под сенью древесных ветвей высокой травой и полевыми цветами.
За парками Сомма распадалась на узкие рукава, составлявшие живописную особенность Сен-Лё; по другую сторону бульвара раскинулись водные сады – островки плодородия, также разделенные речными протоками. В послеполуденные воскресные часы горожане катались по ним на длинных плоскодонках, отталкиваясь от дна шестами. По берегам сидели, сгорбившись над удилищами, рыболовы; те, что устраивались ближе к кафедральному собору, были в шляпах и пиджаках, те же что предпочитали водные сады, – в рубашках с короткими рукавами; каждый закидывал удочку, надеясь изловить форель либо карпа.
Крепкий, строгий фасад особняка Азеров взирал на улицу из-за железной ограды. У тех, кто проезжал мимо него к реке, не оставалось сомнений: дом этот принадлежит человеку почтенному. Скаты шиферной кровли, скрадывавшей необычную форму дома, спадали вниз под спорившими друг с другом углами. Из-под одного такого угла смотрело на бульвар мансардное окошко. Вдоль второго этажа особняка тянулся каменный балкон, с балюстрады которого поднимались к крыше побеги какого-то красноватого ползучего растения. Обшитая железом деревянная парадная дверь выглядела чрезвычайно внушительно.
Стоило попасть внутрь, выяснялось, что дом и меньше, и больше, чем кажется снаружи. В нем не было ни пугающе пышных комнат, ни раззолоченных бальных залов, зато были неожиданно просторные помещения и переходы, оканчивающиеся спускающимися в парк ступеньками; были неприметные коридорчики с дверьми, ведущими в маленькие гостиные, меблированные письменными столами и обитыми ковровой тканью креслами. Глядя на дом с дальнего конца лужайки, с трудом верилось, что в каменных кубиках, из которых он состоит, может поместиться такое количество комнат и коридоров. Полы во всем здании отзывались на людскую поступь явственно различимыми звуками, отчего гулкий воздух особняка со всеми его острыми углами и поворотами всегда полнился эхом незримых шагов.
Металлический сундук Стивена Рейсфорда прибыл сюда раньше хозяина и стоял у изножья кровати. Стивен извлек из сундука одежду, повесил запасной костюм в гигантский резной шкаф. Возле окна висела эмалевая умывальная раковина и деревянная вешалка для полотенец. Стивену пришлось встать на цыпочки, чтобы выглянуть в окно на бульвар, по другую сторону которого дожидался кого-то кабриолет, – лошадь потряхивала упряжью и тянулась к ветвям липы, норовя сорвать несколько листков. Стивен проверил упругость кровати, прилег на нее, опустив затылок на скрытый покрывалом подголовный валик. Комната была простой, но убранной не без тщания: ваза с полевыми цветами на столе, гравюры – уличные сцены Онфлёра – на обеих створках двери.
За окном стоял весенний вечер, солнце опускалось за кафедральный собор, вокруг дома распевали черные дрозды. Стивен ополоснул лицо, постарался, глядя в зеркальце, пригладить свои черные волосы. Уложил полдюжины сигарет в металлический портсигар и опустил его во внутренний карман пиджака. Извлек из карманов то, в чем больше не нуждался: железнодорожные билеты, записную книжку в синем кожаном переплете, ножик с единственным старательно заточенным лезвием.
Он стал спускаться вниз, к ужину, пугаясь звука своих шагов; ступени двух лестничных пролетов привели его сначала на второй этаж, к семейным спальням, а затем в вестибюль. В жилете и пиджаке ему было жарко. Несколько мгновений он простоял в растерянности, не понимая, за какой из четырех выходящих в вестибюль застекленных дверей могут находиться хозяева дома. Приоткрыл одну из них и увидел заполненную паром кухню, посреди которой служанка нагружала тарелками стоявший на большом столе из сосновых досок поднос.
– Следуйте за мной, месье. Ужин на столе, – сказала она, проходя мимо него.
В столовой уже сидели все члены семьи. Мадам Азер встала:
– О, месье, вот ваше место.
Азер пробормотал что-то, по-видимому, представления, – Стивен разобрал только два слова: «моя жена». Он принял протянутую мадам Азер руку, коротко поклонился. Двое детей смотрели на него с другой стороны стола.
– Лизетта, – сказала мадам Азер, указав на девочку лет шестнадцати с темными, подхваченными лентой волосами. Девочка изобразила вежливую улыбку и тоже протянула ему руку.
– И Грегуар.
Мальчик лет десяти, голова которого едва видна была над краем столешницы, оживленно болтал под столом ногами.
Служанка замерла за плечом Стивена с супницей в руках. Он, перелив половник супа в свою тарелку, ощутил аромат какой-то незнакомой ему пряной травы и обнаружил под концентрическими кругами на зеленой поверхности супа кусочки картофеля.
Азер, уже покончивший со своей порцией, энергично постукивал ножом по серебряной подставке. Стивен, втягивая жидкость со столовой ложки, поднял вверх испытующий взгляд.
– Вам сколько лет? – спросил мальчик.
– Грегуар!
– Ничего страшного, – успокоил Стивен мадам Азер. – Двадцать.
– Вино пьете? – спросил Азер, поднося бутылку к бокалу Стивена.
– Благодарю вас.
Азер плеснул дюйм-другой вина ему, затем жене и вернул бутылку на место.
– Так что же вы знаете о текстильном деле? – спросил он.
Азеру было всего сорок, однако ему можно было дать на десять лет больше. Телосложением он принадлежал к разряду мужчин, которые с возрастом не матереют, но и не расплываются. На собеседника он глядел внимательно, без тени улыбки.
– Кое-что знаю, – ответил Стивен. – Я проработал почти четыре года, правда, больше занимался финансами. Моему хозяину захотелось, чтобы я ближе познакомился с производством.
Служанка унесла суповые тарелки, Азер начал рассказывать о местной промышленности, о своих разногласиях с рабочими. Ему принадлежали две фабрики, одна находилась в городе, другая в двадцати милях от него.
– Они создают профсоюзы, и это почти не оставляет мне пространства для маневра. Жалуются, что мы устанавливаем станки, которые лишают их работы. Но если мы не будем тянуться за нашими испанскими и английскими конкурентами, нам просто не выжить.
Служанка внесла и поставила перед мадам Азер блюдо с нарезанным мясом под негустым коричневым соусом. Лизетта начала рассказывать о том, как прошел день в школе. Время от времени она откидывала голову назад и хихикала. Речь шла о том, как одна девочка разыграла другую, однако в истории Лизетты присутствовал и второй слой. Она словно бы сознавала ребячество поступка и старалась внушить Стивену и родителям, что сама давно переросла такие игры. Впрочем, складывалось впечатление, что Лизетта не вполне уверена в основательности своей позиции; перед тем как закончить рассказ и повернуться к брату, чтобы сделать ему замечание за неуместный смех, она как-то замялась.
Стивен вглядывался в нее, пока она говорила, темные глаза его изучали лицо девочки. Не слушавший дочь Азер сгрузил себе на тарелку немного салата из большой миски и передал ее жене. После чего провел кусочком хлеба по краю тарелки, на котором осталось немного соуса.
Мадам Азер старалась не встречаться со Стивеном взглядом. В ответ и он старался не смотреть в ее сторону, словно ожидая, когда она обратится к нему, однако боковым зрением видел копну рыжевато-каштановых волос, убранных с лица и зачесанных назад. На ней была белая кружевная блузка, ворот скрепляла брошка с темно-красным камнем.
Едва обед закончился, как в парадную дверь позвонили, а следом из прихожей донесся благодушный мужской голос.
Азер улыбнулся – впервые с начала обеда.
– Старина Берар. Как обычно. Минута в минуту.
– Месье и мадам Берар, – сообщила, открыв дверь столовой, служанка.
– Добрый вечер, Азер. Мадам, я восхищен.
Берар, грузного сложения мужчина лет пятидесяти с лишком, склонился над рукой мадам Азер. Его жена, почти такая же пышнотелая, но с более густыми, собранными на макушке в узел волосами, обменялась рукопожатиями со взрослыми и расцеловала в щечки детей.
– Простите, когда Рене представлял нас, я не расслышал вашего имени, – сказал Берар Стивену.
Пока тот повторял свое имя сначала слитно, а затем по буквам, детей отослали из столовой и Берары заняли их места.
С приходом гостей Азер как будто помолодел.
– Вам коньяку, Берар? А вам, мадам, полагаю, травяного чаю? Изабель, позвони, пожалуйста, пусть подадут кофе. Ну-с…
– Прежде всего, Рене, – произнес Берар, поднимая перед собой мясистую ладонь, – я принес вам не очень приятное известие. Красильщики призвали начать завтра забастовку. Сегодня в пять вечера главы профсоюза встретились с представителями заводчиков и сообщили об этом решении.
Азер фыркнул.
– Насколько я знаю, встреча была назначена на завтра.
– Ее перенесли на сегодня. Мне не доставляет удовольствия приносить вам дурные вести, мой дорогой Рене, но вы навряд ли поблагодарили бы меня, если б услышали их завтра от своего десятника. По крайности вашей фабрики забастовка пока не коснется.
Берар, похоже, был доволен тем, что смог доставить эту новость. Лицо его выражало тихое удовлетворение сознанием собственной значимости. Мадам Берар с обожанием взирала на мужа.
Азер снова начал проклинать рабочих, спрашивая, как, по их мнению, он сможет добиться того, чтобы фабрики продолжали работать? Стивен и женщины воздержались от высказываний на эту тему, да и Берару после того, как он поделился новостью, добавить, похоже, было нечего.
– Да, – произнес он, когда Азер наконец иссяк. – Забастовка красильщиков. Такие вот дела. Такие дела.
Это умозаключение было воспринято всеми, Азером в том числе, как свидетельство того, что тема закрыта.
– Как вы сюда приехали? – спросил Берар.
– Поездом, – ответил Стивен, решив, что вопрос обращен к нему. – Путешествие было долгим.
– А, железной дорогой, – сказал Берар. – Какая замечательная система! У нас здесь большой железнодорожный узел. Поезда на Париж, на Лилль, на Булонь… А скажите, у вас в Англии тоже есть железные дороги?
– Есть.
– И давно ли?
– Сейчас припомню… Около семидесяти лет.
– Но у вас с ними связаны большие затруднения, я полагаю.
– Не уверен. Я ни об одном не слышал.
Берар радостно улыбнулся, отпил коньяку.
– Вот значит как. Нынче и в Англии имеются железные дороги.
Ход разговора определялся Бераром, каковой полагал своей нелегкой обязанностью дирижировать им, вовлекать в него новых участников, а затем резюмировать сказанное каждым.
– И вы в Англии каждый день едите на завтрак мясо, – продолжал он.
– Большинство, я думаю, да, – подтвердил Стивен.
– Вообразите, дорогая мадам Азер, каждый день – жареное мясо на завтрак! – Это Берар предложил высказаться хозяйке дома.
Она предложение отклонила, пробормотав что-то о необходимости открыть окно.
– Возможно, настанет день, когда и мы придем к этому, а, Рене?
– О, сомневаюсь, сомневаюсь, – сказал Азер. – Если, конечно, не настанет день, когда на нас опустится лондонский туман.
– Ну да, вместе с дождем, – усмехнулся Берар. – В Лондоне, сколько я знаю, дождь льет пять дней из шести.
Он снова взглянул на Стивена.
– Я читал в газете, – сказал тот, – что в прошлом году дожди в Лондоне шли несколько реже, чем в Париже, хотя…
– Пять дней из шести, – лучезарно улыбнулся Берар. – Представляете?
– Папа терпеть не может дождь, – сообщила Стивену мадам Берар.
– А как провели этот прекрасный весенний день вы, мадам? – спросил Берар, снова предлагая хозяйке дома вступить в разговор. На сей раз попытка оказалась успешной: мадам Азер заговорила, обращаясь – из вежливости или энтузиазма – непосредственно к нему.
– Утром я выходила в город – по делам. В одном из домов рядом с собором было открыто окно, там кто-то играл на рояле.
Голос мадам Азер был ровным и тихим. Она в нескольких словах описала услышанное и в завершение сказала:
– Прекрасная была музыка, хоть и состояла всего из нескольких нот. Мне захотелось постучаться в дверь дома, спросить, кто играет и что именно.
Месье и мадам Берар последнее напугало. Такого завершения рассказа они определенно не ожидали. Азер спросил – умиротворяющим тоном, к которому прибегал, сталкиваясь с подобного рода причудами:
– И что же это была за мелодия, дорогая?
– Не знаю. Я ее прежде не слышала. Что-то похожее на… на Бетховена или Шопена.
– Сомневаюсь, чтобы вы да не признали Бетховена, мадам, – галантно произнес Берар. – Готов поспорить на что угодно, вы слышали какую-то народную песню.
– Нет, то была совсем другая музыка, – сказала мадам Азер.
– Терпеть не могу народные песни, а их теперь слышишь на каждом шагу, – продолжал Берар. – Во времена моей молодости было по-другому. Впрочем, тогда все было иным.
И он хохотнул с ироническим самоуничижением.
– Но я и сейчас предпочитаю мелодии, сочиненные одним из наших великих композиторов. Дайте мне песню Шуберта или ноктюрн Шопена – что-нибудь, от чего у меня волосы дыбом встают на голове! Назначение музыки в том, чтобы высвобождать чувства, которые мы обычно держим в наших душах под запором. Великие композиторы прошлого умели делать это, а нынешние музыканты довольствуются сочинением четырех нот, сооружая из них песенки, которые потом продают в нотных тетрадках на уличных углах. Гений, дорогая моя мадам Азер, не ищет признания столь легкого!
Стивен смотрел, как мадам Азер медленно поворачивается, чтобы взглянуть в глаза Берара. И увидел, как ее глаза немного расширились, когда она обнаружила на его улыбавшемся лице капельки пота, проступившие в духоте столовой. Господи, подумал Стивен, неужели она – мать ужинавших с нами девочки и мальчика?
– Думаю, нам все же стоит открыть окно, – холодно произнесла мадам Азер и встала, зашуршав шелковой юбкой.
– А вы, Азер, тоже человек музыкальный? – спросил Берар. – Когда в доме звучит музыка, это хорошо для детишек. Мы с мадам Берар поощряем пение наших детей.
Берар говорил и говорил, а в голове Стивена роились мысли. Как величаво оборвала мадам Азер болтовню этого нелепого человека. Конечно, он всего лишь провинциальный фанфарон, но определенно не привыкший, чтобы кто-то ему перечил.
– Я с удовольствием провожу вечера в концертах, – скромно сообщил Азер, – однако назвать себя меломаном не решился бы. Я просто…
– Глупости. Музыка – демократический вид искусства. Не нужны ни деньги, чтобы покупать ее, ни образование, чтобы изучать. Требуется всего лишь пара вот этих приспособлений. – Берар взялся руками за свои большие розовые уши и подергал их. – Ушей. Дарованных вам при рождении Богом. Не стоит стесняться своих предпочтений, Азер. Грех ложной скромности приводит лишь к торжеству низкого вкуса.
Берар откинулся на спинку кресла и покосился на уже открытое окно. Похоже, легкий сквозняк испортил ему удовольствие от сентенции, якобы им и сочиненной.
– Однако простите меня, Рене, – сказал он. – Я перебил вас.
Но Азер уже возился с черной вересковой трубкой, уминая в ней пальцами табак и шумно всасывая через нее воздух. Добившись потребного результата, он чиркнул спичкой, и миг спустя голубая спираль дыма завилась вокруг его лысой головы. В молчании, наступившем перед тем как он ответил другу, все услышали щебет певших в парке птиц.
– Патриотические песни, – произнес Азер. – Вот к чему я питаю особенное пристрастие. Оркестры, игравшие «Марсельезу», когда наша армия уходила сражаться с пруссаками, и тысячи голосов, сливавшихся в единый хор. Какой это был, наверное, день!
– Но, если вы простите мне такие слова, – сказал Берар, – это пример практического применения музыки – попытка возбудить в солдатах боевой дух. Между тем любое искусство, используемое для достижения целей практических, утрачивает присущую ему чистоту. Разве я не прав, мадам Азер?
– Полагаю, что правы, месье. А что думает об этом месье Рейсфорд?
Оцепеневший на миг от ее вопроса, Стивен взглянул на мадам Азер, и глаза их впервые встретились.
– У меня нет на этот счет никакого мнения, мадам, – быстро совладав с собой, ответил он. – Полагаю, впрочем, что если песня трогает сердце человека, она уже хороша.
Берар выбросил вперед руку.
– Капельку коньяку, Азер, – сказал он. – Спасибо. Ну-с. Я собираюсь проделать нечто, способное выставить меня дураком и внушить вам недобрые мысли на мой счет.
Мадам Берар недоверчиво хохотнула.
– Я собираюсь спеть. Да, и отговорить меня вам не удастся. Я намереваюсь спеть песенку, которая была весьма популярной в дни моего детства, а дни эти, смею вас уверить, миновали давным-давно.
Более всего аудиторию удивила быстрота, с какой Берар, сделав свое заявление, приступил к исполнению песни. Вот только что они вели чинную послеобеденную беседу, и вдруг он обратил их в беспомощных слушателей, склонившись вперед в кресле, упершись локтями в стол и запев заливистым баритоном.
Берар неотрывно смотрел на сидевшую напротив него мадам Азер. Она же, не в силах выдерживать его взгляд, потупилась, уставившись в тарелку. Неудобство, ею испытываемое, Берара ничуть не смущало. Азер покручивал в пальцах трубку, Стивен изучал поверх головы певуна стену. Мадам Берар с горделивой улыбкой взирала на мужа, дарившего песню хозяевам дома. Мадам Азер, покраснев, поерзывала в кресле под немигающим взглядом Берара.
Когда Берар поводил подбородком, подчеркивая особенно трогательные места, складки на его шее вздрагивали. То была чувствительная баллада, описывающая различные периоды жизни мужчины. Припев ее был таким: «Я был тогда молод, так зеленела листва, / А ныне окончена жатва и лодочка уплыла».
Завершив очередной куплет, Берар выдерживал эффектную паузу, и Стивен позволял себе быстро взглянуть на него – все, закончил? На миг в жаркой столовой повисала совершенная тишина, но за нею следовал новый глубокий вдох и новый куплет.
- И юноша возвратился с войны,
- И были хлеба высоки, и милая его дождалась…
Исполняя песню, Берар слегка покручивал головой, голос его крепчал от все возраставшего воодушевления, однако взгляд налитых кровью глаз ни на миг не отрывался от лица мадам Азер, как будто голова Берара могла вращаться только на оси этого взгляда. Она же, сделав, по-видимому, усилие над собой, успокоилась и сидела неподвижно, терпеливо снося нескромность его пристального внимания.
– «…и лодочка уплыла-а-а». Ну вот, – сказал он, – выставил, как и обещал, себя дураком.
Все наперебой принялись уверять его, что, напротив, песня была великолепна.
– У папы такой красивый голос, – сказала, зарумянившись от гордости, мадам Берар.
Лицо мадам Азер также зарделось, хоть и от иного чувства. Азер изображал веселье. Стивен чувствовал, как по спине стекает из-под воротника струйка пота. Один лишь Берар никакого стеснения не испытывал.
– Ну что, Азер, не перекинуться ли нам в картишки? Во что будем играть?
– Извини, Рене, – сказала мадам Азер, – у меня немного болит голова. Думаю, мне лучше прилечь. Может быть, месье Рейсфорд согласится сыграть с вами вместо меня?
Стивен встал, мадам Азер поднялась со стула. Последовали протесты и встревоженные расспросы Бераров, однако мадам Азер заверила их, что в остальном чувствует себя превосходно. Берар склонился над ее рукой, мадам Берар поцеловала хозяйку дома во все еще рдевшую щеку. Когда она направилась к двери – высокая, неожиданно обретшая внушительность женщина в кроваво-красной юбке, волочившейся за нею по полу, Стивен заметил на ее голом предплечье несколько веснушек.
– Перейдем в гостиную, – предложил Азер. – Месье, уверен, вы не откажетесь присоединиться к нам за картами.
– Да, конечно, – с натужной улыбкой согласился Стивен.
– Бедная мадам Азер, – сказала мадам Берар, когда все уселись за карточный стол. – Надеюсь, она не простудилась.
Азер усмехнулся:
– Нет-нет. Нервы, не более того. Забудьте об этом. Такое нежное создание, – пробормотал Берар. – Думаю, сдавать первым следует вам, Азер.
– И тем не менее, – сказала мадам Берар, – головная боль может означать начало лихорадки.
– Мадам, – ответил Азер, – уверяю вас, никакой лихорадки у Изабель нет. Она – женщина нервного склада. Ну бывают у нее головные боли и разного рода мелкие недомогания. Но это ничего не значит. Поверьте мне, я хорошо знаю жену и научился мириться с ее маленькими слабостями.
Он бросил на Берара заговорщицкий взгляд, тот хмыкнул.
– Зато у вас, мадам, здоровье, по счастью, крепкое.
– Выходит, она всегда страдала мигренями? – гнула свое мадам Берар.
Губы Азера растянулись в узкой улыбке.
– Такова малая цена, которую приходится платить мужу. Ваш ход, месье.
– Что? – Стивен опустил взгляд на карты. – Простите. Задумался.
На самом деле он вглядывался в улыбку Азера, пытаясь понять, что она может значить.
Берар снова завел с Азером разговор о забастовке, во время которого оба с уверенной быстротой выкладывали карты на стол.
Стивен старался сосредоточиться на игре и одновременно завести разговор с мадам Берар. Но та оставалась безразличной к его вниманию, зато всякий раз, когда к ней обращался муж, лицо ее озарялось внутренним светом.
– Что против этих забастовщиков требуется, – говорил Азер, – так это человек, который не испугается их угроз. Я не желаю видеть, как мое дело приходит в упадок из-за притязаний нескольких бездельников. Кто-то из нас, хозяев, должен собраться с силами и уволить всех до единого.
– Боюсь, это приведет к беспорядкам. Толпа ведь может и разбушеваться, – сказал Берар.
– Только не на голодный желудок.
– Не уверен, Рене, что вам, члену городского совета, стоит участвовать в столкновениях подобного рода.
Берар собрал колоду, стасовал, его толстые пальцы проворно сдали карты. Покончив с этим, он закурил сигару и откинулся в кресле, щеголевато расправив жилет на большом животе.
Вошла служанка – спросить, не нужно ли чего-нибудь господам. Стивен подавил зевок. В дорогу он отправился еще вчера, и теперь ему мила была мысль о скромной комнате с крахмальными простынями и видом на бульвар.
– Нет, спасибо, – сказал Азер. – Ступайте спать, но по дороге зайдите к мадам Азер и скажите, что я загляну к ней попозже, посмотреть, как она.
На миг Стивену показалось, что он заметил, как мужчины снова обменялись заговорщицкими полувзглядами, однако, посмотрев на Берара, он убедился, что тот изучает карты, которые веером держит в руке.
Наконец гости собрались уходить; Стивен попрощался с ними. Он постоял у окна гостиной, глядя на них в свете горевшего на крыльце фонаря. Берар надел цилиндр – точно возвращающийся домой из оперы барон; облаченная в пелерину, раскрасневшаяся мадам Берар взяла мужа под руку. Азер, склонившись к нему, говорил что-то – торопливым шепотом.
Пошел теплый дождь, размывая края каждой уличной колеи, звучно стуча по листьям платанов. Оконное стекло покрылось жирной на вид пленкой, затем на нем стали проступать крупные капли, сбегавшие вниз. Сквозь них в стекле отражалось бледное лицо наблюдавшего за уходом гостей Стивена, его высокая фигура с засунутыми в карманы руками, невозмутимые пристальные глаза, наклон тела, говоривший о юношеском хладнокровии, взращенном силой воли и необходимостью. Лицо Стивена заставляло многих относиться к нему с опаской, ибо не позволяло догадаться, чем может обернуться каждое из его не допускавших однозначного истолкования выражений, – вспышкой гнева или неохотным согласием.
Поднявшись в свою комнату, он некоторое время вслушивался в звуки ночи. Где-то в тиши дома покачивалась на петлях и постукивала по стене незакрепленная ставня. Из глубины парка доносилось уханье совы. Ему вторили нерегулярные хрипы и всхлипы узких водопроводных труб.
Стивен уселся за письменный стол у окна, открыл записную книжку со страницами в голубую линейку. Половина уже была заполнена чернильными строками, которые пучками вырывались из-за отчерченного красным левого поля, перекрывая синеву линий. Записи сопровождались датами – впрочем, между ними имелись пропуски в несколько дней, а то и недель.
Дневник Стивен вел уже пять лет – вняв совету директора классической школы, в которой учился. Часы, потраченные на греческий и латынь, снабдили его ненужными, но крепко засевшими в голове познаниями, которые легли в основу придуманного им шифра. Когда предмет описания становился щекотливым, он менял пол своих персонажей и описывал их поступки и свои реакции на них фразами, которые для случайного читателя никакого смысла не имели.
Он писал и негромко посмеивался. Скрытность была качеством, которое ему пришлось развить в себе, преодолев врожденную прямоту и вспыльчивость. В одиннадцать лет пылкость и обостренное чувство справедливости Стивена приводили в отчаяние его учителей, но постепенно он научился говорить негромко и сохранять спокойствие, не доверять своим порывам, ждать и наблюдать.
Манжеты он расстегнул несколько раньше и теперь, подперев лицо ладонями, смотрел перед собой в пустую стену. Внезапно до него донесся звук, на сей раз производимый не ставней и не водой – более пронзительный, человеческий. Вот он раздался снова, и Стивен, прислушиваясь, пересек комнату. Открыл дверь, осторожно вышел на площадку лестницы, помня, какой шум создавали этим вечером его шаги. Он был почти уверен, что опознал звук – женский голос, раздававшийся этажом ниже.
Сняв туфли, Стивен тихо переступил порог своей комнаты и начал крадучись спускаться по лестнице. В доме стояла совершенная тьма, – должно быть, Азер загасил по дороге к спальне все лампы. Стивен, чувствуя, как пружинят под его ступнями в носках деревянные ступеньки лестницы, придерживался перил, нащупывая их рукой. Страха он не испытывал.
На площадке второго этажа он в нерешительности остановился, с обескураживающей ясностью осознав вдруг и размеры дома, и число направлений, по которым мог прилететь голос. От площадки уходили три коридора: один, снабженный невысокой ступенькой, вел к переднему фасаду дома, два других тянулись в противоположных направлениях параллельно ему, а затем разветвлялись на новые коридоры. На этом этаже располагались комнаты членов семьи и прислуги, не говоря уже о ванных, моечных и кладовках. Он мог ненароком забрести в спальню кухарки или в салон с китайскими безделушками и шелками времен Людовика XVI.
Стивен напряженно вслушался, на миг задержав дыхание. Голос теперь звучал другой, не факт, что женский, низкий, почти рыдающий, – но и он прервался каким-то глухим стуком. Стивен усомнился, стоит ли ему двигаться дальше. Комнату свою он покинул, поддавшись порыву, решив, что в доме творится неладное; теперь ему казалось, что он просто-напросто лезет в чужую жизнь. Впрочем, колебался он недолго, поскольку понимал: что-то здесь происходит.
Он выбрал коридор, уходивший вправо, и пошел по нему с предельной осторожностью, вытянув перед собой одну руку и придерживаясь другой за стену. Коридор привел его к развилке, и Стивен, взглянув влево, увидел узкую полоску света, пробивавшуюся из-под закрытой двери. Он прикинул, как близко может подойти к этой двери. Слишком удаляться от развилки нельзя, иначе он не успеет отскочить в первый коридор и спрятаться, если из комнаты кто-то выйдет.
Он сделал с полдюжины шагов и остановился, прислушиваясь и затаив дыхание, чтобы не пропустить ни звука. Он чувствовал, как в груди колотится сердце и бьется на шее жилка.
Говорила женщина – тихим бесцветным голосом, в котором прорывалась безысходность отчаяния. Она о чем-то просила, хотя слов было не разобрать; впрочем, некоторые из них, выражавшие накал чувств, звучали чуть громче. Стивен уловил: «Рене», «умоляю тебя», «дети». Даже эти скудные свидетельства позволили ему узнать голос мадам Азер, который вскоре снова прервался звуком глухого удара, уже слышанным им раньше. Голос умолк, словно женщина задохнулась, и тут же сменился стоном, вызванным – судя по высоте тона – болью.
Стивен прошел еще немного вперед, уже не держа из осторожности руки перед собой, но прижимая сжатые кулаки к ребрам. Не дойдя до двери пары шагов и подавив поднимавшуюся в душе волну гнева, смешанного с растерянностью, он остановился. И тут ясно услышал мужчину, несколько раз повторившего сломленным, неуверенным голосом одно-единственное слово, перешедшее в рыдание. Затем раздались шаги.
Развернувшись на месте, Стивен ринулся под прикрытие первого коридора, понимая, что преступил предел, который сам себе поставил. Едва свернув за угол, он услышал голос Азера: «Есть здесь кто-нибудь?» Стивен побежал к лестнице, на ходу вспоминая, какие препятствия могут ему встретиться на пути – времени на осторожности не оставалось. От самого основания лестницы, ведущей на третий этаж, он увидел проникавший из-под его двери свет, перескакивая через ступеньки, влетел в комнату, рванулся к настольной лампе и погасил ее, отчего она качнулась, стукнув по столешнице.
Он замер в центре комнаты, прислушиваясь. Шаги достигли лестницы. Если Азер поднимется сюда, то удивится, что гость, полностью одетый, стоит посреди темной комнаты. Стивен бросился к кровати и скользнул под покрывало.
Пролежав минут десять, он решил, что угроза миновала и можно раздеться. Закрыл дверь и ставни маленького окошка и присел, уже в пижаме, за письменный стол. Перечитал написанное им чуть раньше: дорога из Лондона, французский поезд, появление на бульваре дю Канж. Здесь были краткие характеристики Азера и его жены, ловко завуалированные, и изложение впечатления, произведенного на него Азером и обоими его детьми. Однако о том, что поразило его пуще всего, не без удивления обнаружил Стивен, он не написал ни слова.
2
Проснувшись поутру отдохнувшим, с ясной головой, полным интереса к окружающей новизне, Стивен решил не думать о событиях ночи и попросил, чтобы Азер показал ему свою фабрику.
Они покинули фешенебельный бульвар и направились в квартал Сен-Лё, походивший, по мнению Стивена, на средневековую гравюру, – ряды остроконечных домов тянулись над каналами вдоль мощеных булыжником улиц. Бельевые веревки нависали над ними, привязанные к водосточным трубам и вделанным в стены зданий крюкам; оборванные дети играли на мостах в прятки или бегали вдоль железных ограждений, колотя по ним палками. Женщины тащили в ведрах воду, за которой специально приходили в зажиточные кварталы, и несли своим многочисленным отпрыскам – в единственную комнату, дававшую приют всей семье, или – если речь шла о переселенцах из сельской Пикардии, стекавшихся сюда в поисках работы, – в одну из времянок, сооруженных на задних дворах перенаселенных домов. Все здесь полнилось шумом нищеты, производимым уличными сорванцами и их матерями, визгливо выкрикивавшими угрозы и предостережения или сообщавшими знакомым важные новости. Вокруг стоял гомон привычной тесноты, при которой ни у кого нет секретов от соседей; из булочных и лавок доносились громкие голоса; мужчины, толкавшие перед собой тачки или ведшие в поводу запряженных в тележки лошадей, по дюжине раз выкрикивали на каждом углу названия своих товаров.
Азер, проворно лавируя в толпе, вел Стивена под руку, – они перешли по деревянному мосту канал, обогнули грубияна-подростка, яростно поливавшего кого-то отборной бранью, и поднялись по пристроенной к стене большого здания чугунной лестнице, которая привела их в контору на втором этаже, расположенную над фабричным цехом.
– Садитесь. У меня назначен разговор с Меро. Он мой начальник производства и одновременно, в наказание и не знаю уж за какие мои грехи, – глава профсоюза.
Азер указал на кожаное кресло, стоявшее по другую сторону заваленного бумагами стола, а сам спустился по внутренней лестнице в цех, оставив Стивена разглядывать его сквозь стеклянные стены конторы.
Трудились в цехе по преимуществу женщины, сидевшие в дальнем его конце за прядильными станками, хотя были там и мужчины, и мальчики в кожаных кепках, также работавшие за станками или перевозившие в тележках на деревянных колесах пряжу либо рулоны готовой материи. Давно устаревшие прядильные станки издавали размеренный грохот, почти заглушавший крики десятника, краснолицего усача в немного не доходившем до лодыжек сюртуке. В ближнем конце цеха выстроились в несколько рядов швейные машины Зингера, колени управлявших ими рабочих поднимались и опускались, приводя в движение механизм, руки двигались туда-сюда, туда-сюда, словно регулируя напор текущей из огромного крана воды. Стивену, который провел немало часов на таких же предприятиях Англии, здешняя организация работы показалась устаревшей, – примерно так же улицы Сен-Лё представлялись ему принадлежавшими к другому времени, отличному от времени фабричных городов Ланкашира.
Азер вернулся с Меро, приземистым, мясистым мужчиной со спадавшими на лоб густыми темными волосами. Меро производил впечатление честного человека, под гнетом обстоятельств вынужденного проявлять подозрительность и неуступчивость. Он обменялся со Стивеном рукопожатиями, однако бесстрастное выражение его глаз словно бы говорило, что особого значения сей формальности придавать не следует. Когда Азер предложил ему сесть, Меро на миг замялся, но затем решил, по-видимому, что это не обязательно должно выглядеть как капитуляция. Он сидел в кресле, выпрямив спину, показывая, что с занятой позиции его не собьешь, хотя лежавшие на коленях пальцы его быстро двигались, словно сплетая незримые волоконца хлопчатобумажной пряжи.
– Как вам известно, Меро, месье Рейсфорд прибыл к нам из Англии. Человек он молодой и желает побольше узнать о нашем деле.
Меро кивнул. Стивен в ответ улыбнулся. Ему нравилось изображать молодого профана, свободного от ответственности и обязательств. Мысленно он отметил усталость, которая сквозила в повадках обоих мужчин, намного превосходивших его годами.
– Однако, – продолжал Азер, – вам известно и то, что манчестерские соотечественники месье Рейсфорда способны производить такую же ткань, как наша, ровно на треть дешевле. Поскольку компания, в которой он работает, один из главных наших английских покупателей, недурно было бы произвести на него хорошее впечатление. Насколько я понял, ее владелец, человек весьма дальновидный, намерен расширить сотрудничество между нашими странами. Он упоминал о возможности покупки акций нашей компании.
Пальцы Меро задвигались быстрее.
– Еще один Коссера, – пренебрежительно произнес он.
Азер улыбнулся.
– Не надо быть таким подозрительным, мой дорогой Меро. – Он повернулся к Стивену. – Меро вспомнил великого фабриканта Эжена Коссера, который много лет назад привез сюда из Англии рабочих и станки…
– И тем лишил работы немалое число местных жителей.
Азер продолжал, обращаясь к Стивену:
– Правительство хочет, чтобы мы повысили производительность труда, сведя по возможности большее число операций под одну крышу. Желание совершенно разумное, однако его исполнение подразумевает увеличение числа станков и, следовательно, сокращение рабочих мест.