Смута Бахревский Владислав
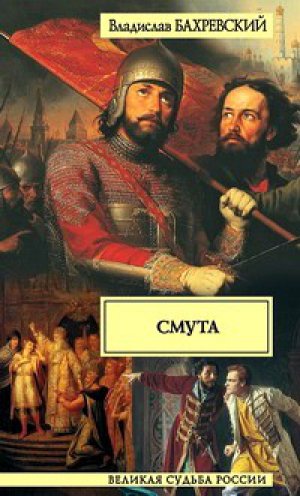
– Задумать просто. Получится ли задуманное?
– Нам, грешным, и ветер-то встречный.
В Тушине властвовал Сапега. Его люди ворошили документы, дознаваясь, куда подевались собранные с городов деньги. Вор стал тих и неприметен. Он шушукался с одним только Рукиным, за стол садился с шутом.
Марина Юрьевна, вдруг всеми забытая, устремилась надеждами к отцу. Она написала ему трогательное, покаянное письмо:
«Я нахожусь в печали, как по причине Вашего отъезда, так и потому, что простилась с Вами не так, как хотелось. Я надеялась услышать из уст Ваших благословение, но, видно, я того недостойна. Слезно и умиленно прошу Вас, если я когда-нибудь, по неосторожности, по глупости, по молодости или по горячности, оскорбила Вас, простите меня и пошлите дочери вашей благословение… Я обещаю Вам исполнить все, что Вы мне поручили, и вести себя так, как Вы мне повелели».
– Боже мой! – жаловалась Марина Юрьевна Барбаре Казановской. – Для кого-то, для сверстниц моих, – балы, свет, замки, залы… А для меня, для царицы, – изба, свеча, снега… Для них, юных благородных полек, – восхитительные речи влюбленных рыцарей, блеск остроумия, сладостная мука сердца. А для меня, девятнадцатилетней, солдатская матерщина и ежечасное ожидание ужасного. Войдут, схватят, задушат или зарежут… Я постоянно думаю, что не больней, быстрей – веревка на шее или ножи? А как я одета? Крестьянки одеваются богаче.
– Государыня, – ответила Казановская, – те дамы, которым вы позавидовали, мотыльки. Вы – человек веков, вы – история. Сегодня вы чужая всем, вы в рубище, вы ютитесь в деревянной избушке, а завтра – вы хозяйка бескрайней земли. У вас еще будут балы, ваше величество. Вы зададите их с той мерой пышности, какая будет вам угодна.
– Барбара, неужели ты этому веришь?
– Верю, ваше величество.
Марина Юрьевна потянулась к уху фрейлины-наперстницы.
– А вы приметили этого?
– Кого, ваше величество?
– Казака.
– Заруцкого?
Марина Юрьевна рассмеялась.
– А спрашиваете кого?.. Ах, как он смотрит! Как поворачивает голову! А походка, походка!
Марина Юрьевна вскочила, прошлась по комнате, изображая Заруцкого.
– Да, Барбара! Да! Нам нельзя унывать! За дело, милая моя, ясновельможная моя панночка! Несите бумагу, перо, чернила. Я вчера попыталась разжалобить отца, но жалобы мои только всколыхнут в нем застарелые обиды. Вернуть отцовское расположение проще и надежнее – делами, и я вовлеку его в мои дела.
Марина Юрьевна сообщила отцу о послах, отправленных войском на сейм и для переговоров с Сигизмундом.
«По случаю этой поездки панов послов в Польшу, – писала Марина Юрьевна, – мне показалось необходимым усиленно просить, чтобы Вы, Ваша милость, мой господин и отец, тем панам послам, которые едут к его величеству королю, соблаговолили оказать всякую помощь советом, чтобы эти дела могли кончиться как можно лучше, ибо это весьма важно как для его царского величества, так и для наших московских дел».
Марина Юрьевна занималась высокой политикой, а у Вора было свое на уме. Выпросил у князя Трубецкого кучера, который хорошо знал местность, сам выбрал санки. Вместе с шутом Кошелевым начинил их всяческим добром. Соболей и меха на дно, под сено, за двойными стенками кузова спрятали серебряную посуду, деньги, под облучок положили мешок овса, а в нем утопили русский речной жемчуг. Вор собственноручно зашил в двойные носки самые дорогие камни, самый крупный морской жемчуг.
Оставалось заложить лошадей и указать вознице, куда ехать.
Было 11 февраля. Сумерек Вор начал ждать, как проснулся. Мыкался по дому, сидел на кухне, мешая повару. Ходил глядеть, как задают корму лошадям. Принимался за царским своим столом ворошить грамоты, но ни в одну так и не заглянул. Наконец за окнами засинело.
– Одевайся! – приказал Вор шуту.
Тот принес шубы, для царя и себя.
– Тулупы неси!
Принес тулупы, спросил:
– Царицу звать?
– Упаси тебя бог! Садись на дорожку, помолчим.
– Садиться надо одетым, – возразил Кошелев.
Надели шубы, шапки, рукавицы. Напялили друг на друга тулупы. Сели.
И тут дверь распахнулась и ввалился с телохранителями их милость пан Сапега.
– Покататься задумали, ваше величество?
– Покататься. Целый день из дома не выходил.
– Зачем же тулупы? На улице не холодно. Снег сырой, с крыш капель.
– Боюсь простуды, ваша милость.
Сапега снял наконец шапку и выразительно поглядел на телохранителей, которые тотчас обнажили украшенные оселедцами головы.
– Здоровье вашего величества есть общая забота всего войска. Погода для прогулок самая дурная. Дорога скользкая. Санки может занести, опрокинуть. – Лицо Сапеги было серьезно и торжественно. – Я вовремя успел, ваше величество. Прошу отложить прогулку. Что вы, сударь, медлите? – прикрикнул он на шута. – Помогите вашему и нашему господину снять эти меховые обузы.
Кошелев выскользнул из-под своего тулупа и не только от шубы – от всей своей одежды освободился, остался в исподнем. Все это завернул в тулуп Вора и сел на узел перед Сапегой.
– Ты пришел, чтобы взять все. Вот и возьми свое все, но оставь нам наше: царю – царское, шуту – шутовское.
– Я ничего не понимаю в иносказаниях, напрасно стараешься, пан шут! – И обратился к Вору: – Ваше величество, ко многим хлопотам, кои мы здесь имеем, прибавилась еще одна. Шведский король Карл IX обещал бывшему мечнику вашего величества князю Скопину-Шуйскому значительную военную помощь.
Вор встал с лавки, сбросил на пол шубу.
– Я готов обсудить с вашей милостью всякое дело, какое вы предложите.
Они ушли в кабинет. Слуга принес свечи.
– Садитесь, ваша милость, – предложил Вор. – Я слушаю.
– Нам не о чем говорить. Не в Москву ли вы собирались убежать?
– А хоть и в Москву. Я не желаю быть заложником! – вскипел Вор.
– Не знаю, сами ли вы избрали свой путь или это рок указал на вас, несите свою ношу достойно, ибо каждый имеет на плечах своих и не ропщет. – Взгляд у Сапеги был покойный, голос ровный. – Я не приставлю к вам стражи, но и вы будьте благоразумны.
– Среди моих слуг – предатели и доносчики! – Вор в ярости смахнул со стола свитки грамот.
Сапега поморщился и вышел, не простившись.
Через день, 13 февраля, Вор все-таки бежал. Он успел отъехать от лагеря добрый десяток верст, но его догнали, вернули.
Часть жалованья войску выплатили, буря улеглась. Оставалось дождаться весны, чтобы воевать с удобством и взять наконец чересчур раздумчивую Москву, которая одинаково не хотела ни Вора, ни Шуйского.
Государь Василий Иванович Шуйский перед Масленицей ходил молиться в храме Николы Явленного. Храм стоял на углу Арбата и Серебряного переулка.
Высокий трехъярусный кокошник окружал подножие позлащенного купола. Солнца в тот день не было, но дивный свет менял цвет золота, притуманивая, набирая ясности, растекаясь струями, вспыхивая звездами.
– Господи! Не ты ли являешь себя? – спросил потихоньку мальчик Васена, арбатский житель.
Васена давно уж глядел на крест и купол. И было ему стыдно перед Богом, перед крестом, перед светом небесным, но кишки в животе словно в веревку сплетались, больно было от голода. Васена еще во сне решил: «Пойду нынче к лавке калачника, налечу, укушу калач, а там пусть хоть убьют».
Страшно было просить у Господа, чтоб своровать помог, но матушка варила одни свекольные листья, больше заправить вареную воду было нечем. Батюшка, псаломщик Аника, еще летом убежал в Тушино. В Тушине, рассказывают, сытно, и Васена ждал отца, может, принесет хлебушка. Долго ждал. Зима на дворе, а его нет как нет.
Быстро, чтоб Господь не очень уж осерчал, перекрестился Васена на золотую луковку в небе, на святой крест и уперся глазами в калачную лавку. Калачи на бечеве висят, как рыбы, но эти от мороза каменные. Горячие калачник на лотке выносит. Дороги калачи! Ужас как дороги! Однако арбатские люди покупают. Муку, коли есть, поберечь надобно. Зима впереди еще долгая, а там весна, лето. Попробуй дотяни до нового хлеба. Да и будет ли конец осаде?
Васена решил калач руками не хватать, калачник треснет по рукам – пропало дело, попусту согрешишь. А вот зубами калач схватить – тут уж чего-нибудь да попадет в живот.
– Эх! – сказал Васена, надвинув колпак на уши, чтоб не сбил калачник. – Чей день завтра, а наш ноне.
Подскочил на месте козой, кинулся со всех ног к заветному лотку. Хвать зубами калач и бегом. Калачник в крик, охотники наказать вора – вот они. Не ведая спасения, метнулся Васена на паперть, за Мину, за блаженного дурака спрятался. Мужики, что гнались за воришкой, Мину отбросили – и взлетел над Васеной кулак, как раз с его голову.
Быстрее птички промелькнула в голове жалобная мысль: «Калач – в зубах, а кусочка так и не сглотнул».
Шарахнулся мальчик от кулака в сторону и попал в самые-то ноги выходящего из храма царя Шуйского. Глянул царь на мальчишечку с калачом в зубах, на разъяренных мужиков, головой покачал.
– Слышь, калачник! – молвил государь, снимая с руки перстень. – Вот тебе золото с яхонтом… И вот тебе мой наказ: корми всякую дитятю, приходящую к тебе, бесплатно во все дни осадного сидения.
Догадливые люди сдернули с Васены колпак, и царь погладил мальчика по вихрам.
– Как зовут тебя?
– Васена.
– Вася, стало быть.
– Вася.
– Тезки мы с тобой. Каждый день ходи к калачнику с братьями своими, с сестрами. Есть братья-сестры?
– Есть! Три братца и три сестры.
– Калачник вас попотчует, а я про то проведаю.
– Государь! – Зеваки стали опускаться на колени. – Дорог хлеб в Москве! Смилуйся, вели купцам скинуть цены. – Будет по-вашему. Не останетесь без блинов на Масленицу. Все будете с блинами, и досыта, – ответил государь. – Вот на том моя рука.
Протянул руку калачнику, и Васена, поразмыслив, разбил их. Он уж навертывал калач, и от хлебушка, от тепла хлебного нос у него оттаял и шмыгал с большим удовольствием.
Вот только на золотой купол, съев калач, забыл Васена поглядеть.
Вернувшись во дворец, Василий Иванович пошел к Марье Петровне и слово в слово рассказал о разговоре с голодным Васей и о своем обещании москвичам.
– Бог наградит нас! – улыбалась бледненькая Марья Петровна, беременность давалась ей тяжело, но ей и недомогания были в радость.
Василий Иванович тут же, при супруге, распорядился послать на Троицкое подворье за келарем Авраамием Палицыным. Московские житницы Троице-Сергиева монастыря были полнехоньки.
– Я уговорю келаря продавать рожь по-прежнему, по два рубля за четверть. – И покручинился: – Ох, купчики, купчики! Друг перед дружкой молятся Христу, а нажиться на горе, на гладе им не грешно, не зазорно.
– Спасибо тебе, государь мой! – Марья Петровна взяла руку Василия Ивановича и прижалась к ней щекою. – Народ к тебе за твое благодеяние потеплеет.
– Потеплеет, – согласился царь, глядя перед собой грустно и просто. – А как докушает калач, так тотчас и отвернется.
Москва на Масленицу без блинов не осталась, но в субботу, что зовется золовкиными посиделками, когда ставят снежные города, берут их с бою и купают воеводу, защитников крепости в проруби, в хороший веселый день, а пришелся он в 1609 году на 17 февраля, на преподобного Федора Молчаливого, на Красной площади поднялся большой шум.
Верховодил бунтовщиками Гришка Сунбулов. Три сотни дворян, обросшие толпой холопов, охотников пограбить, стали клясть царя, обвиняя во всех бедах, грянувших на Россию.
Толпу в Москве испокон веку принимали за народ. «Народ» этот глотками Сунбулова и дружка его Тимошки Грязного потребовал для ответа бояр.
Бояре хоть не все, но явились. На Лобное место поднялись князь Мстиславский Федор Иванович, Романов Иван Никитич, князь Голицын Василий Васильевич.
– Сведите с престола Шуйского! – кричали дворяне. – Вы нам Ваську посадили на шею, вы его и стащите прочь! Он царствует, да дела не делает. Страну погубил и нас всех погубит.
Бояре, ничего не отвечая, сделали вид, что отправились за царем, а сами разбежались кто куда и попрятались.
На площади из сановитых остался один Голицын. Ждал: не выкликнут ли его в цари?
Видя, что царя не ведут, бояре упорхнули, Сунбулов приказал охочим людям бежать в Успенский собор, привести патриарха Гермогена.
Гермоген читал молящимся Евангелие, когда в Успенский собор ворвались взбудораженные гилем, бесшабашные кабацкие людишки.
– Патриарх! Тебя народ ждет!
Гермоген продолжал чтение, но его схватили за руки, потащили вон из собора.
– Что вы делаете?! – завыли от горя женщины. – Безбожники!
Один детина, окруженный такими же лоботрясами, разбрасывая толпу, вернулся, взошел на алтарь и крикнул на баб:
– Цыц! Это мы безбожники? Это мы Гришке Отрепьеву кадили или попы? Это мы в Тушине кадим Вору или Филарет с попами? Бояре посадят нам в цари поляка-латинянина или татарина – попы будут кадить и петь татарам и полякам!
Бабы завыли пуще, детина заматерился, загромыхал непотребными словесами, но кровля на его башку не рухнула.
– Погибли! – тихонько плакала старушечка и все тянулась рукой до иконы Божией Матери, чтоб к ризе прикоснуться, но старушку толкали, и рука ее не достигала спасительной святыни.
Гермоген, изумленный грубостью горожан, разгневался, вырвал руки у тащивших его, оттолкнул бунтовщиков, пошел назад, к собору, но его схватили, потянули, упирающегося, подняли, в воздухе развернули, погнали на Красную площадь тычками в спину, а малые ребята кидали в патриарха замерзшими лошадиными котяхами, а тут еще попалась им куча строительного мусора, бросали песок, глину пригоршнями.
Втащили патриарха на Лобное место растрепанного, в облачении оскверненном, будто служил не в соборе, а на мельнице. На белом клобуке над золотым шестикрылым серафимом грязное пятно, в бороде ком земли, риза заляпана.
Но стал Гермоген перед людьми, и так стал, что смолкли и опустили глаза. Тимошка Грязной, перепугавшись, как бы настроение толпы не переменилось, выскочил на Лобное место и, тыча пальцем чуть не в самое лицо патриарха, заорал:
– Скажи, всю правду скажи! Шуйский избран в цари его похлебцами! Кровь русская рекой льется. А за кого? За него, за блудню, за пьяницу горького, за дурака набитого, за мошенника-казнокрада! Люди, разве я неправду говорю?!
Ожидал одобрительного гула, но услышал звонкий и ясный отклик:
– Врешь! Сажали Шуйского в цари бояре и вы, дворяне-перелеты. Сам собой в цари не сядешь. Пьянства за Василием Ивановичем не знаем. Да если бы и был он, царь, непотребен и неугоден народу, так его одним шумом с престола не сведешь. То дело Боярской думы и собора всех земель!
Пришлось и Сунбулову поспешить на Лобное место.
– Вы орете по глупости своей! Шуйский тайно сажает нас, дворян, на воду, жен и детей наших терзает и побивает.
– Да сколько же вас побито? – спросил Сунбулова Гермоген.
– С две тыщи!
– Побито две тысячи, и никто об этом до сих пор не знает?! – поднял руки Гермоген, призывая народ к вниманию. – Когда убиты люди? Кто? Имена назови!
– Наших людей и сегодня повели сажать на воду! – брал на глотку Сунбулов. – Мы людей наших послали, чтоб их вызволить.
И, чтоб отвлечь народ, велел подьячему из своих читать грамоту. Грамота была написана от имени городов. Обвиняла Шуйского в государственной немощи, уличала в том, что избран он в цари одной Москвой.
– Не люб нам Шуйский! – крикнул Сунбулов. – Чем больше будет сидеть, тем больше крови прольется.
– Другого в цари изберем! – вторил Гришке Тимошка.
– Ни Новгород Великий, ни Казань, ни Псков, ни иные города – никогда государыне Москве не указывали, – сказал Гермоген. – Москва указывала всем своим городам. Государь, царь и великий князь Василий Иоаннович – поставлен на царство Богом, властями царства, христолюбивым народом русским. Василий Иоаннович – царь добрый, возлюбленный, желанный всем народом, всеми землями. Вы, дворяне, забыли крестное целование, восстали на Божьего помазанника. Терпеливый и мудрый царь наш, я знаю, и это вам простит, да не простит Бог!
Патриарх покинул Лобное место, прошел сквозь молчащую толпу.
Заговорщики, обгоняя патриарха, кинулись в Кремль, требуя царя. Шуйский вышел к ним без страха и сомнения. – Вы хотите убить меня? Убейте, я готов принять венец мученика. Но знайте, от царства я не отрекусь, ибо оно держится царем. Без царя Россия разбредется. Хотите иного царя, соберите Земский собор. Ни ваше, ни чье другое своеволие для меня – не указ.
Не имея поддержки в народе, бунтовщики кинулись вон из Кремля, из Москвы – в Тушино.
Гермоген послал бежавшим две грамоты. В первой призвал к раскаянию, ибо «царь милостив, непамятозлобен, вины вам отдал, ваши собственные жены и дети на свободе в своих домах живут». Во второй грамоте воззвал к чувству Родины. «Мы потому к вам пишем, что Господь поставил нас стражами над вами, стеречь нам вас велел, чтобы кого-нибудь из вас Сатана не украл. Отцы ваши не только к Московскому царству врагов своих не припускали, но и сами ходили… в незнаемые страны, как орлы острозрящие и быстролетящие… и все под руку покоряли московскому государю царю».
Часть беженцев, вняв голосу патриарха, вернулась.
От царя вышло напоминание прошлогоднего указа от 25 февраля 1608 года. Холопы, добровольно перешедшие на сторону законного, избранного собором государя, получают волю, а взятые в плен подлежат наказанию и возвращаются к прежним господам, в вечное холопство.
Дворянский бунт обошелся без крови, без казней. Марья Петровна даже не поплакала. Может, напрасно не поплакала, в сердечке страх утопила. На первой неделе поста приключилась с ней болезнь нежданная, жестокая. Выкинула царица. Не стало у нее радости, а у царя не стало опоры.
Легко в книге перелистнуть страницу, миновать в единой строке месяцы, годы. Людям надо те месяцы, те дни и часы прожить, перетерпеть, переголодать, перехолодать, оплакать убитых и умерших, ужаснуться доле родившихся, потерять надежду и обрести надежду.
С грачами, с ветрами принесло в Москву слух: Бог смилостивился, грядет России избавление.
Войско Скопина-Шуйского явило себя победами. Как просохнут дороги, будет Скопин-Шуйский в Москве.
Хорошие слухи крепче двойного вина. Во всех стычках московские дружины брали верх над казаками, над поляками. Шумок пошел по городу: чего Скопина ждать, сами побьем тушинских воров.
Вор ждал от весны, что его войско духом помолодеет, а воспряла на майском тепле Москва.
В Кремле, однако, тихо было.
Царь Василий Иванович словно бы совсем о войне забыл. Сидел за счетными книгами, выкраивал крохи, чтоб заплатить хоть что-то верным людям.
Его заботило не то, быстро ли возрастает войско князя Скопина-Шуйского, а будет ли чем заплатить за службу. Где взять деньги, когда самые богатые города подати платят тушинцам.
Погоревал вслух при Марье Петровне, а она и скажи:
– Царю нанять всех работников невозможно. Работников нанимают хозяева, а строится царство. Само собой. Так и с войском надо сделать.
Шуйский даже всплакнул от чувств.
– Умница! По найму надо казаков в службу брать. Пастухов всем миром нанимают, отчего же казаков не нанять? Дороже станет, если тати в город пожалуют.
Составив указы о наймах северными городами отрядов князя Скопина-Шуйского, государь словно горб с себя скинул. Малые дела щелкал как орешки. Прочитал челобитную от шести сотен казаков, служивших в Гороховце и уже два года не имевших жалованья, тотчас продиктовал указ нижегородскому воеводе Прокудину: «Коли есть деньги в Нижнем, и тебе б однолично дать гороховецким казакам денежек хотя не извелика, да по запасу».
Государь подписывал указ о денежном окладе в сто пятьдесят четвертей перебежавшему от Вора казачьему атаману Макару, когда пришли сказать: патриарх Гермоген пожаловал.
Вздохнул Василий Иванович: тяжелы ему были беседы с владыкой.
– Не слышно тебя, государь, в Москве, не видно, будто тебя вовсе нет! – сурово начал Гермоген.
– Коли враг за стенами, а не в стенах, значит, царь жив-здоров, – ответил, улыбаясь, Василий Иванович. – Правду сказать, удручила меня измена дворецкого моего. Не хотел я этой казни. По сей день плачу.
– Крюк-Колычев замышлял убийство в святой день Вербного воскресенья на глазах всего народа. Тебе ли о нем горевать, государь?
– Горюю, владыко! Я за него просил, да не упросил. Горько мне, горько! Все спрашиваю себя: за что? Откуда такая ко мне ненависть? Убить царя, ведущего под уздцы ослю? Пролить кровь на глазах сидящего на осле, а ведь то не патриарх восседает, то образ Христа, вступающего в Иерусалим! Окровавить на века чистый радостный праздник?!
Гермоген нетерпеливо пристукнул своим пастырским посохом.
– Государь, нельзя думать о вчерашнем, когда столь дорог нынешний день! Москва готова едино подняться и побить тушинцев. Москва смела, и ты будь смел. Надень броню, ступай с мечом в поле. Бойцов у тебя не меньше, чем у Вора. Теперь всем ясно: воровские люди ни в чем не преуспели – ни Троицу взять, ни Россию ополчить на тебя. Города, которые присягали Вору из-за страха, вновь спешат к твоим ногам припасть.
Шуйский кротко глянул на патриарха.
– Что же кровь лить, если все само собой совершается? Правда – она и есть правда.
– Не греши, государь! – Гермоген гневно возвысил голос. – Бог помогает старателю. Иисус Навин воевал с тридцатью одним царем – и победил. Бог послал каменный град на царей ханаанских не потому, что израильтяне ждали от них себе погибели, надеясь на одного Бога, но потому, что били и гнали врага, устлали трупами всю гору Веферонскую.
– Прости, владыко!
– Что прощать? Бога помни! «Не бойся и не ужасайся, – сказал Господь Иисусу Навину, – возьми с собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его».
Шуйский, схватясь за спину, поднялся со скамьи, поклонился Гермогену.
– Спасибо, пастырь, что ведешь меня, укрепляешь словом и молитвой. Но я – робок, владыко, ибо я стар и впереди у меня не свет долгой жизни, а вечная могила. Держава приказывает не поспешать. Легко отправить полки на бой, на смерть, но в полках мужья и сыновья. Страшусь жену оставить вдовой, мать сиротой. Помолись за меня, владыко! Если Москва хочет большой брани, я пойду со всеми… Хотя лучше бы Скопина подождать… князь Михайла со шведами идет… Поляки да казаки при виде его полков сами собой поразбегутся.
– Господи! Царица Небесная! Да ведь и в Тушине, чай, головы есть. Наши, боярские. Уж конечно присоветуют Вору не ждать шведов, а скорее Москву за горло ухватить. И ухватят. А все ли наши полки надежны, я не знаю…
Шуйский поморгал глазами. Он тоже этого не знал: все ли полки надежны.
В Москве государя укреплял патриарх Гермоген, в Тушине таборного царя подвигал на решительное дело некий пан Бобовский, прибывший с несколькими хоругвями литовских авантюристов.
– Неужели войску до сих пор не стало понятно, что Рожинский способен только именоваться гетманом, а не быть им! – восклицал Бобовский, угощая государя чудесным молдавским вином, которое он добыл, ограбив обоз, шедший то ли к Радзивиллу, то ли к литовскому канцлеру Льву Сапеге.
Вор слушал Бобовского благожелательно, хотя знал, сколь несправедлив новосел Тушина к князю. Рожинский только в апреле оправился от тяжелого ранения, и ему сразу пришлось вступить в схватку не с москалями, но со своей войсковой челядью.
Эти скоты, посланные за продовольствием, возомнили себя рыцарями, выбрали из себя ротмистров, полковников, генералов и устроились по малым городкам, не собираясь возвращаться к войску. Именно от грабежей и дичайшего всевластия этих полурабов Россия опамятовалась от своего позорного послушания, вспомнила завет пращуров беречь Родину, имя законного царя вспомнила.
Князь Роман Рожинский вынужден был посылать на обозную прислугу гусарские роты и казачьи сотни.
Нет, пан Бобовский напрасно хаял гетмана, но эта ругань была для Вора как музыка, однако он ответил осторожно:
– Его милость пан гетман отменный… солдат. Может быть, мы и впрямь застоялись под Москвой, но наша ли в том беда? Среди польского рыцарства нет ни одного, кто взял бы на себя смелость пленить Москву.
– Есть один! Есть! – вскричал пан Бобовский. – Дайте мне четыре полка, и Москва уже через день пришлет посольство просить пощады вашего величества.
– Я верю в вас! – вдохновился Вор. – Я дам не четыре полка, а шесть, да еще татарскую конницу. Идите и закончите это затянувшееся дело.
Пан Бобовский напал на слободы Скородума. Здесь были не стены, а земляные валы. Взять и зажечь предместье – чего проще.
Но в Скородуме стояло войско Ивана Ивановича Шуйского. Большое войско, тысяч тридцать. С валов ударили пушки. Из рощицы за спину полкам Бобовского зашли верные царю казаки. Легкомысленное наступление обернулось геройским высвобождением из медвежьих объятий. Бобовский не был пустомелей, полки он от полного уничтожения спас, но треть людей потерял.
Рожинский пригласил Бобовского к себе и сказал ему:
– Я слышал, что вы считаете себя лучше нас. Теперь, однако, вы такой же, как мы. Если у вас не иссякла охота взять Москву, предлагаю вам возглавить отряд и повторить удар в то же самое место через два дня, когда русские будут праздновать Троицу. Ваша задача – завязать дело, выманить на себя как можно больше войска, наша задача – это войско уничтожить.
Марина Юрьевна узнала о готовящемся приступе вечером в Родительскую Троицкую субботу. Она явилась на половину мужа, который снова «забыл» о ее присутствии в лагере.
– Ваше величество, не навлекайте на всех нас Божий гнев, – попросила она Вора, – но более я все-таки боюсь гнева русских людей. Они не простят нам пролития крови в святой для них день.
– Кто это? – спросил Вор шута Кошелева, изображая крайнее опьянение.
– Это есть то, без чего нет вас, – ответил Кошелев.
– Как это нет меня?
– Но это ваша половина! – Шут ухватил себя двумя руками за половину зада.
– Ах, половина! – хохотал Вор, повторяя глупый жест шута.
Марина Юрьевна смотрела на супруга, как на очень больного человека.
– Сегодня ко мне приводили казака, которому было откровение, – сказала царица. – Он видел реку, а на реке двух белых как снег старцев в челне. Челн несло с огромной скоростью, и старцы сказали казаку: «О вы, несчастные! Все так поплывете, ибо не хотите задуматься над собой».
Вор вдруг швырнул бокал под ноги царице.
– Не каркай! Не ворона! – И нарочито захрапел, повалясь головой на стол.
– Кто же тут шут? – Марина Юрьевна забрала со стола вино и ушла к себе.
Пила и писала отцу очередное горестное послание:
«О делах моих не знаю, что и писать… Ни в чем нет соблюдения данного слова, а поведение со мной такое же, как и при Вас, милостивый мой господин и отец, то есть не соответствует обещаниям, которые были сделаны при прощании с Вами, о чем я могла бы многое написать, только господин коморник очень спешит, для того пишу вкратце. Своих людей не могу послать, ибо надобно дать на пищу, а я не имею. Помню, милостивый господин мой батюшка, как мы с Вами кушали лучших лососей и старое вино пить изволили, а здесь того нет, ежели имеете, покорно прошу прислать».
И, допив вино, приписала: «Прошу Вас, милостивый государь мой батюшка, чтобы я, по милости Вашей, могла получить черного бархату узорчатого на летнее платье для поста, двадцать локтей, прошу усиленно».
Вошла Казановская.
– Пан коморник выказывает нетерпение. Лошади поданы, ждут только вашего письма.
Марина Юрьевна тотчас протянула фрейлине лист.
– Запечатайте. Отдайте ему. Что это за шум на улице?
– Звезды падают.
Марина Юрьевна завернулась в шаль, поспешила на крыльцо. По небу, разбрызгивая искры, летела яркая, как фонарь, звезда. Черная земля поглотила ее, и в наступившей тьме стало видно, как небо прочеркивают быстрые полоски бледного света. Вдруг упало сразу три звезды, потом целый сноп звезд, и в замолчавшем от ужаса мраке опять то ли грезились, то ли и впрямь проносились бледные, как семена одуванчиков, полоски. Шел звездный дождь.
– Господи! – Сердце вскипело в груди. – Господи! Это знак? Это знак скорого торжества моего? Знак гибели?
Звезды вспыхивали и гасли, воздух дышал грозой, было тепло. Марина Юрьевна сбросила шаль.
Видение казака, чудо звездного дождя… К победе? К полному краху? Хотят все решить завтра, в день Бога. Будь что будет…
Дрожащей от волнения рукой оперлась на руку Казановской.
– Дева Мария! Что это за страна! Здесь даже звезды не держатся на небе.
Утром Марина Юрьевна молилась в тушинской церкви, где службу служил ради великого праздника сам Филарет. Все знатные русские были в церкви. Никто из них не участвовал в бою. Да им никто и не сказал о предстоящем нападении на Москву.
Пан Бобовский стремительным ударом смешал сторожевой отряд, стремясь ворваться в деревянный город на плечах отступающих. Бегущие, однако, растеклись по сторонам, и гусары Бобовского лицом к лицу оказались перед Передовым полком Дмитрия Ивановича Шуйского, позади которого стоял полк Пуговки Ивана Ивановича.
Русские не только отразили наскок, но и всею массой войска двинулись на само Тушино.
Дубовые гуляй-города, поставленные на возы, выкатились на Ходынское поле и сразились с полками Рожинского и Заруцкого. Эту жесточайшую схватку обозревал облаченный в доспехи шатровый царь.
Москали-стрельцы, призывая на помощь Святую Троицу, палили из бойниц гуляй-городов с такой для себя удачей, что польско-казацкое войско смешалось, бросило Ходынку.
Князь Рожинский остановил, устыдил бегущих:
– Куда стремитесь? Мы же нарочно заманиваем врага, чтоб уничтожить его раз и навсегда.
Он перестроил полки, сам повел их на гуляй-города, и русские, побросав свои ходячие крепостенки, кинулись спасаться бегством.
– Победа! – вскинул над головой саблю, сияя счастьем, Вор.
– Ты опять поторопился и всех насмешил! – сказал за его спиной шут Кошелев.
Со стороны Москвы на польскую армию навалились свежие полки князей Ивана Семеновича Куракина, Андрея Васильевича Голицына, Бориса Михайловича Лыкова. Удар был тяжел и страшен. Вся тушинская пехота легла на Ходынке. Герои-шляхтичи бросали оружие и сдавались. Ходынка и гуляй-города снова были у русских. В Тушине началась паника, но на реке Химке донские казаки атамана Заруцкого потеснили стрельцов, и московские воеводы дальше не пошли, не закончили дела, радуясь победе. Одних пленных взяли больше семисот человек.






