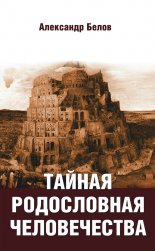Логопед Вотрин Валерий

Одно было приятно — вечером домой его отвезла машина с личным шофером.
На следующее утро Рожнов отправился на встречу с главным речеисправителем. Машину он отпустил у здания коллегии и пошел пешком через весь район. Уже в конце улицы начались бараки. Они были такие старые и прокопченные, словно их топили шпалами. На порогах неподвижно сидели чудовищные бабы. Перед бараками отирались группки вороватого вида, старательно сутулящихся пареньков в черных кепках. При виде логопедской шинели Рожнова они нехотя расступались, но спина отчаянно зудела от их медленных наглых взглядов. В одном месте ему в затылок негромко сказали:
— Цего исесь, цувацок?
Он не обернулся и не ответил. Тогда сзади так же негромко, насмешливо засвистели.
Недобрый, коварный достался ему район.
Речеисправительные курсы помещались в сером здании без вывески, обнесенном высоким глухим забором. На единственных воротах был строгий пропускной пункт. Матерые охранники долго проверяли документы Рожнова, вертели их в руках, вглядывались в фотографию. Недоверчиво косились на шинель. Наконец, пропустили. Он попал в здание.
Насколько был пустынен двор, настолько внутри здания было полно народа. Смирные потерянные люди сидели в коридорах, дожидаясь своей очереди в кабинеты, украшенные маленькими однотипными табличками. На каждой табличке стояла всего одна буква: «Л», «Р», «В», «Ш». Рожнов отметил, что в кабинет с табличкой «Р» очередь была самая длинная. Время от времени в коридоре показывались властные люди в длинных белых халатах, брали кого-нибудь из смирных ожидальцев и куда-то уводили. Бредя за ними, ожидальцы тоскливо оглядывались.
Кабинет главного речеисправителя находился на втором этаже, в конце коридора. Рожнов постучал и, не услышав приглашения, вошел. Перед этим он приосанился, оправил шинель. Цепенюк представлялся ему огромным, лысым, лютым, с громоподобным голосом. Однако в кабинете сидел человек с плоским незапоминающимся лицом, одетый в грязноватый белый халат. Он был похож на ветеринара. Маленькие его глазки с любопытством уставились на Рожнова.
— Иван Тарасович? — немного растерянно осведомился Рожнов.
Человек, поморщившись, кивнул, протянул руку, взял со стола дымящийся стакан с чаем и, не сводя глаз с Рожнова, громко отхлебнул.
Рожнов решил обойтись без вступления.
— Вам, наверно, уже сообщили о моем визите, — продолжил он, присаживаясь у стола.
Цепенюк в ответ утвердительно отхлебнул из стакана.
— Рожнов, Юрий Петрович, — представился Рожнов. Цепенюк без выражения смотрел на него, не отрывая стакана от губ. — Я вот зачем к вам, Иван Тарасович. Чебаков мне тут докладывает, что вы, то есть учреждение ваше, поставило под угрозу районный план призыва кандидатов. Имеются сведения, что никто из направляемых к вам кандидатов курсов не заканчивает, а становится… гм… немтырем. Есть какие-нибудь соображения?
Цепенюк осторожно поставил стакан на стол.
— Это кто говорит? Это партком говорит? — спросил он таким высоким голосом, что Рожнов от неожиданности чуть не подскочил на стуле.
— Партком, — подтвердил он, оправившись от потрясения.
Цепенюк полез в стол, вытащил оттуда какие-то бумаги.
— Вот акты проверок, — произнес он. Нет, такого голоса Рожнов положительно еще не слышал. — Нас регулярно коллегия проверяет. Вы то есть. Последний раз в июле проверка была. Тех самых девяносто семь человек проверили тоже… обоснованность решения по ним… и пришли к соответствующему выводу.
Рожнов придвинул к себе бумаги — то были какие-то написанные корявым почерком протоколы с многочисленными подписями, — поизучал их, ничего в них не понял, отдал обратно Цепенюку.
— И к какому же выводу они пришли? — спросил он.
— Решения по делам кандидатов вынесены правомерно, — заговорил Цепенюк, словно зачитывая протокол. — Речь всех девяноста семи кандидатов не соответствовала принятым нормам. Кандидаты были приняты на курсы, к ним применены известные речеисправительные методики. Сложность данных методик проявилась в первые же недели курсов. Кандидаты испытывали психологические и физические трудности с выполнением некоторых упражнений. Сказывалась выработанная в домашней и уличной среде долголетняя привычка произносить слова неправильно. Многие кандидаты просто не верили в то, что слово надлежит произносить иначе. Их приходилось переубеждать. Это обычная практика в речеисправительных учреждениях — терпеливо и настоятельно переубеждать, демонстрируя наглядные образцы. Необходимо подчеркнуть, что данные образцы не были должным образом восприняты речевым и мыслительным аппаратом кандидатов, что привело к психологическим срывам, умственным шатаниям, постепенному замыканию в себе. В результате мы были вынуждены признать, что кандидаты психологически не готовы к речевой перековке, им необходим отдых. После обследования кандидаты были направлены на лечение.
Рожнов пораженно смотрел на Цепенюка.
— Что, все девяносто семь человек были направлены на лечение? — выдавил он.
— Было принято решение направить на лечение всех замкнувшихся кандидатов, — произнес Цепенюк в ответ.
— Неужели всех? Но там почти сотня человек!
— В нашей практике встречались и более тяжелые случаи. К примеру, два года назад на лечение был направлены сто пятьдесят один человек. Впоследствии двадцать девять из них успешно прошли курсы.
Эта статистика ошеломила Рожнова.
— И вы считаете, что курсы успешно справляются с поставленной задачей? — воскликнул он.
Цепенюк, не дрогнув, ответил:
— В складывающейся ситуации курсы вполне отвечают поставленным перед ними целям.
— Иван Тарасович, — сказал Рожнов, помолчав, — а вы не думали, что это люди? Более того — кадры, призванные Партией?
Цепенюк победно молчал. Кажется, приведенные им цифры воодушевили его так, что ничьих доводов он был просто не в состоянии воспринимать.
— Гм, — сказал Рожнов, видя это. — Ну что ж. Вы мне покажете владения ваши?
Он поднялся. Цепенюк, не вставая, смотрел на него.
— Осмотреть хотите? — спросил он, словно не понимая Рожнова.
— Осмотреть. Осмотр, — подтвердил Рожнов.
— А комиссия? — спросил Цепенюк. Он не вставал.
Рожнов каким-то образом догадался, в чем дело.
— Я — комиссия, — успокаивающим тоном произнес он.
— А протокол составите? — дознавался Цепенюк.
— Протокол будет составлен надлежащим образом, — внушительно сказал Рожнов.
Цепенюк со вздохом поднялся, полез в шкаф, достал связку ключей.
— Ну, пройдемте, — произнес он.
На что нужны были ему эти ключи, Рожнов потом так и не понял. Дверей, запертых на замок, им не встретилось. Они вышли из кабинета, прошли по коридору, поднялись по лестнице на третий этаж и вошли в другой кабинет, где сидел лысый чернобородый человек в очках и тоже пил чай.
— Алексей Никитич, — обратился к нему Цепенюк, — к нам вот комиссия из коллегии. Найдется у вас минутка?
Бородатый укоризненно посмотрел на Рожнова, со вздохом поднялся, достал из шкафа непременную связку ключей и повел гостей по коридору. В конце его толкнул незапертую дверь, и они оказались в большом зале, разделенном невысокими перегородками на несколько помещений. Там стояли столы, стулья, за столами сидели речеисправители в белых халатах, а перед ними горбились измученные люди в похожих на больничные голубовато-серых робах. Негромкие размеренные звуки носились по залу:
— Р-р-р… Ш-шина, ш-шина… Агррраррий, агррарррий… Л-л-лыжи, л-л-лыжи…
Из нескольких углов слышалось упорное щелканье языком, какое-то цоканье, другие плохо различимые звуки. Кто-то, заикаясь, повторял:
— Ч-человек ест ч-чебурек. Ч-чебурек ч-черствый… Д-доктор, я п-правильно п-произношу?
Бородатый Алексей Никитич, не обращая ни на кого внимания, провел их в дальний угол, где на длинной скамье сидели несколько человек в тех же сероватых робах. Лица у этих людей были примерно того же цвета. Сидели они, полузакрыв глаза, и похоже было, что в этом мире их мало что волнует.
— Вот, — глухо произнес Алексей Никитич, ни к кому особенно не обращаясь, — наши отличники. Показали прекрасные результаты. Скоро будут выписаны, получат дипломы и заступят на должности.
Сидящие не обратили на него никакого внимания. Некоторые едва заметно покачивались, словно медитировали.
— Здравствуйте, товарищи, — бодро обратился к ним Рожнов. — Ну, как успехи?
Его слова возымели действие — несколько человек приоткрыли глаза.
— Ста… ра… ем… ся, — по складам выговорил один, а потом повторил уже одним словом: — Стараемся!
— Хорошо, хорошо, — нарочито бодро произнес Рожнов, замирая от ужаса. Он чувствовал себя так, словно попал в психиатрическую клинику. — Ну, а жалобы есть? Жалобы, предложения?
— Жжжалоб нет, — проговорил другой отличник речеисправительной подготовки. — Предложжжений тожжжже.
— Гм, гм, — сказал Рожнов, топчась на месте. — Вот и чудесно. Правда, товарищи?
Отличники никак не отреагировали, зато стоящие рядом Цепенюк и Алексей Никитич сурово кивнули.
— Щебенка. Вещественный. Общаться. Щиница. Ищи-свищи. Щурок. Щекастый. Щемафор, — монотонно перечислял кто-то за перегородкой.
Рожнову едва не стало дурно. Больше здесь делать было нечего. Он торопливо пошел к выходу. Он просто не мог здесь больше находиться. Сзади поспевали недоумевающие речеисправители. У входа Цепенюк его нагнал, заговорил о чем-то, но Рожнов оборвал его:
— Кадры! Кадры!
Он сам не понимал, что говорит. У него вылетали какие-то слова, какие-то фразы, довольно угрожающие:
— Разбазариваете!.. Призыв застопорился!.. Ценнейший материал!..
Алексей Никитич вдруг вступил, сверкая стеклами очков:
— Как вы сказали? Вы по округе походите, посмотрите, что за народ. Сорный народ!
— Вы мне это перестаньте! — вдруг неожиданно для себя фальцетом закричал Рожнов. — Их Партия призвала! Выделила!
Цепенюк хватал его за локоть, пытался вывести из зала в коридор. Рожнов вырывался.
— Это еще надо определить, кто тут сорный материал! — кричал он.
— Протокол! Протокол! — как заклинание повторял Цепенюк. Ему, наконец, удалось вытащить взъерошенного Рожнова в коридор. Там Рожнов вдруг остыл.
— Будет вам протокол, — произнес он, и речеисправители вдруг почувствовали на себе дыхание рока. Это им не понравилось.
— Да вы пройдите в другой зал, — приказным тоном произнес Цепенюк, звеня своими ключами.
— Нет необходимости, — оборвал его Рожнов. — Комиссия уже увидела все, что нужно. Вы будете уведомлены письменно.
— Нельзя же так, товарищ! — глухо произнес Алексей Никитич. — Если осматриваете, осматривайте все. Нам нечего скрывать.
Холодная ярость охватила Рожнова.
— Комиссия уже видела все, что требуется, — процедил он, повернулся и пошел к лестнице. Речеисправители остались стоять в коридоре.
Рожнов шагал по району, не замечая ни бараков, ни баб, ни вороватых пареньков в кепках. Собственно, это шагал по району уже совершенно другой, изменившийся человек. Несокрушимая уверенность владела этим им — он был уверен в том, что ужасное учреждение, которое он только что повидал своими глазами, стоит на пути талантливых выдвиженцев из народа. И другие мысли шевелились в душе этого человека, такие, что он боялся дать им выход. Но они медленно вызревали и всходили в нем. Они искали себе выхода, настоятельно требовали всестороннего обмозгования, не давали спать, и Рожнов сдался. Ночью, ворочаясь в постели, он пришел к выводу, что талантливым выдвиженцам из народа мешает и он сам. Он мешает выдвиженцам, он мешает языку. Да, он мешает Языку. И он больше не будет ему мешать.
Именно с той ночи он стал видеть сны — он играет с буквами, наливает им в блюдце молока и получает ласковый, одобрительный взгляд из темноты. Рожнов знает — это Язык.
Он знает, что гнев Языка его, Рожнова, уже не коснется.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В заключении Заблукаев пробыл недолго — всего пять дней. Как объяснили ему сокамерники-лингвары, это была не самая страшная тюрьма Четвертого департамента, который чаще называли Тайным. На вопрос, какие же бывают страшные, ему отвечали кратко, что те, другие, совсем страшные — казематы. А эта – еще ничего, вегетарианская. И Заблукаев так и не признался им, что эта «нестрашная» тюрьма в первый день здорово напугала его. И лишь после того, как ему разъяснили суть вещей, ее толстые стены, железные двери с глазками, маленькие, забранные решетками окна перестали наводить на Заблукаева ужас и уныние.
Как оказалось, при рейде он чудом выжил. Кроме него, живыми взяли еще двоих. Знакомых среди них не было. Их рассадили по разным камерам, но уже к вечеру Заблукаев знал, что все остальные лингвары погибли. Сам дом был на следующий день, по выселении немногих остававшихся жильцов, взорван. Так ломилиция поступала со всеми пристанищами лингваров.
Лингварами тюрьма была переполнена. В одной камере с Заблукаевым их сидело шестеро. Тогда-то Заблукаев впервые осознал, почему их называют болтунами, — все шестеро одновременно, громко и практически постоянно молились. Уже к вечеру первого дня от их дружной глоссолалии у Заблукаева заболели уши. Утром явились надзиратели и забрали двоих сокамерников Заблукаева. Больше те не возвращались, и он потихоньку возрадовался — шума стало меньше.
Первый допрос с ним проводил логопед V ранга Девель, пухлый, жизнерадостный, в очках. Заблукаев знал, что пятый ранг соответствует званию капитана, и сразу же начал обращаться к Девелю «товарищ капитан». Девель на это реагировал равнодушно — видимо, любовь к военной атрибутике в нем отсутствовала напрочь. Начав с формальностей — выяснения паспортных данных, принадлежности к партии, сословию, — он быстро перешел к сути.
Девель часто улыбался, и Заблукаев вскоре понял, что такова вообще манера разговора этого, по-видимому, незлобивого дружелюбного человека.
— Ну, Заблукаев, — говорил Девель, с улыбкой переворачивая листы дела, — вам, надеюсь, не надо объяснять, почему вы здесь? Или надо? Ну, так я вам скажу. Вот данные надзора. Посмотрим. Ага. Так-так. Нет, надо же, — и он чему-то посмеивался, листая дело. Материалы его видимо забавляли. О допрашиваемом он, кажется, забыл.
Наконец, Заблукаев не выдержал.
— Я не лингвар! — с мукой в голосе вскричал он.
Девель подпрыгнул и перестал улыбаться. На лице его появилась озабоченность.
— Да не волнуйтесь вы так, — произнес он. — Нет, правда, не стоит.
— Я не лингвар, я попал туда по ошибке!
— Успокойтесь, Заблукаев, — прикрикнул Девель и тут же примирительно улыбнулся. — Никто не говорит, что вы лингвар. Нам это отлично известно. Разумеется, вы попали туда по ошибке. Вы вообще человек увлекающийся, любознательный. Нам это прекрасно известно. К тому же вы нам очень помогли — совсем, понимаешь, забыли, что находитесь под надзором.
— Тогда почему я здесь? — уже тише спросил Заблукаев, успокаиваясь.
— Могу сказать, что вы не проходите по обвинению в нарушении орфоэпического законодательства. Вы здесь по другой причине. — Девель сделал паузу. — Обвиняетесь вы в подрыве государственного строя, а это, дорогой мой, куда серьезнее.
Заблукаев без слов обмяк на стуле. Девель ободряюще улыбнулся ему.
— Да погодите вы переживать! Давайте все-таки поговорим. Скажите, сообщники у вас были?
— Сообщники в чем? — запинаясь, спросил Заблукаев.
— Как в чем? Вы же собирались организовать протесты против речеисправительных учреждений. Оружие покупали?
— Я вас не понимаю.
Девель покрутил головой, негромко посмеялся.
— Я, кажется, на правильном языке говорю, — сказал он. — Вы собирали вокруг себя бывших кандидатов. Это очень взрывоопасный элемент. Они обижены на власть, особенно на речеисправителей. Вы ведь хотели их использовать, правда? Кто еще вам помогал?
— Товарищ капитан, у вас неверная информация, — горячо заговорил Заблукаев и вдруг, неожиданно для себя, перескочил на любимую тему: — Я давно этим занимаюсь. Болею душой за язык. Посмотрите вокруг! Враги проникли повсюду, вредители. Эти речеисправительные учреждения, они губят язык. Я хочу бороться, знаю пути улучшения. Собрал папку, представил ее в коллегию. Там рассказы о десятках жертв речеисправительных учреждений. Хотел уведомить, предупредить.
— А где же эта папка?
— Ее у меня отобрали.
— Кто? Лингвары?
— Нет, что вы! Это вы ее забрали, Четвертый департамент.
— Да? Когда же это произошло? Впрочем, неважно. Я, кажется, спрашивал вас, покупали ли вы оружие. Так покупали или нет?
— Товарищ капитан!
— Ну, хорошо. Вижу, сегодня мы не договоримся. Встретимся-ка завтра, с утра. А? — и Девель весело подмигнул, захлопывая пухлую папку с делом Заблукаева.
Но никакого допроса назавтра не было. И на следующий день не было допроса. К тому времени всех сокамерников Заблукаева увели надзиратели. Он не знал, куда их забрали, но установившаяся тишина вдруг стала тягостной. Он начал метаться по камере. Когда допрос? Куда их увели, что с ними стало? К еде он почти не притрагивался. Пустая камера вдруг показалась ему огромной, оставленные сокамерниками койки, казалось, вопиют. Медленные дни тянулись, никак не желая кончаться. А ночи были еще длиннее — без сна ворочался Заблукаев на жесткой узкой койке, прислушиваясь к каждому звуку. Что с ним сделают? Какие еще жуткие нелепые обвинения выдвинут?
На четвертый день его пребывания в тюрьме, утром, дверь его камеры, наконец, распахнулась. Заблукаев, растрепанный, небритый, больной, тяжело поднялся, и его повели куда-то. Все ему виделось словно в тумане. Навалилось тупое равнодушие. Если бы ему сказали, что ведут его на расстрел, он бы никак на это известие не отреагировал.
В кабинете ждал его улыбающийся Девель. Заблукаеву тут же принесли чаю с лимоном, печенье на блюдечке. Заблукаев всего этого не заметил.
— Ну что же, Лев Павлович, — бодро произнес Девель, сверкая стеклами очков, — мы вас не беспокоили, хотели, чтобы вы все хорошенечко обдумали. Да и повода не было. А вот теперь появился.
Заблукаев глядел на него без выражения.
— Мы тут провели небольшое следствие, все проверили, — продолжал Девель. — Между прочим, нашли вашу папочку.
И перед Заблукаевым появилась его папка, которую отобрали у него тогда в коллегии. Он протянул руку, раскрыл ее, медленно полистал: все его листы были на месте. Он поднял взгляд на Девеля.
А тот говорил:
— Вы, наверняка, отметили, с какой быстротой проведено следствие. А все потому, что мы с самого начала ошибались. Вас подозревали в организации заговора, сколачивании преступной группы. От имени всего департамента прошу прощения. Конечно, ничего этого вы не делали.
Девель замолк, ожидая реакции Заблукаева. Тот безразлично слушал.
— Вы делали все в одиночку, — произнес Девель, перестав улыбаться. — У нас есть неопровержимые доказательства. Вы хотели стать логопедом и, вопреки всем установленным правилам, попытались собрать компромат на известных лиц. Вы способный человек, Лев Павлович, способный и очень энергичный. Вы набрали кучу материала. Подтверждаете?
Заблукаев не пошевелился и не ответил. Казалось, он не слышит Девеля.
— Знаете, сколько лет вы под надзором? — задушевно спросил Девель. — Сказать вам? Да вы и так знаете. Материала на вас предостаточно. На две статьи. — он посмеялся над собственной остротой.
Заблукаев хрипло спросил:
— Меня посадят в тюрьму?
— В тюрьму? — живо переспросил Девель. — Этого я не могу вам сказать. Это у нас суд решает. Но я могу вам кое-что предложить.
Он с таинственным видом замолк.
— Что? — тупо спросил Заблукаев.
— Смотрите, — сказал Девель. — У вас, как говорится, есть выбор. Я могу передать дело в прокуратуру, и тогда вас ждет суд и приговор. Но есть и другой выход. Вы добровольно покидаете страну. С собой вы можете взять свое имущество, сбережения — словом, все что угодно. — Заблукаев встрепенулся, и Девель спешно закончил: — При условии, что вы окажете нам одну услугу.
После долгого молчания Заблукаев спросил:
— Какую?
Девель просиял, будто ему сказали комплимент.
— Вы нам поможете! — радостно произнес он. — Нет, не здесь. Там! Я поясню. Вы, наверно, слышали о тарабарах. Это довольно разветвленная преступная организация, ее члены создали подполье практически в каждом крупном городе нашей родины. Мы боремся с ними, и довольно успешно, но руководство этой секты остается для нас недосягаемым. И лишь недавно мы узнали, что руководители секты скрываются за границей. Мы знаем, в какой стране, но точное местоположение нам не известно. Помочь нам выйти на этих людей мы хотели предложить вам.
— Но я никого из них не знаю! — возразил Заблукаев.
— Разумеется. Они сами выйдут на вас, когда узнают, кто прибыл в страну. Знакома ли вам фамилия Гоманов?
— Нет.
— По нашим сведениям, это главный человек в секте. Зовут его Романов, но он картав и предпочитает, чтобы даже те, кто не картавит, звали его именно так. Нам известно, что он очень интересуется так называемыми ревнителями чистоты языка и уже привлек к своему движению нескольких бывших логопедов, бежавших за границу. Их, кстати, тоже хорошо бы разыскать. Он непременно захочет познакомиться с вами.
— Но с какой целью?
— Это нам не известно. Мы бы как раз и хотели выяснить, для чего Гоманов формирует группу из бывших логопедов. Какие-то цеховые тайны он уже узнал. Было бы интересно выяснить какие. В общем, вопросов здесь предостаточно. Кстати, Гоманов объявил себя Дуководителем, то есть Мессией, несущим Царство Истинного Языка. По нашим данным, не все тарабары ему поверили, но многие уже пошли за ним. Он отличный оратор, очень убедительный, прекрасно пишет, у него практически нет конкурентов внутри движения, так что распространение его влияния на всех тарабаров — лишь вопрос времени. Уже сейчас среди них ходят слухи, что за рубежом явился истинный Дуководитель, который скоро придет в нашу страну. Ну, что скажете?
— Я не знаю, — ответил Заблукаев, глядя в пол.
— Даю вам сутки на размышление, — произнес Девель, весело улыбаясь. — Думать будете в вашей камере. У меня создалось впечатление, что она вам пришлась по душе.
Ту ночь Заблукаев не спал. Отупение покинуло его, голова была ясной, спать не хотелось. Да и не мог он спать. То покрывался он испариной, то бил его озноб. Великое возбуждение охватило Заблукаева. Чем больше думал он о предстоящем ему выборе, тем больше склонялся к решению уехать. До этого Заблукаев никогда не думал об эмиграции. Он неплохо знал два иностранных языка, но за границей никогда не был и не ведал, как там устроена жизнь. Главное, не представлял он, как сможет устроиться. И совсем казалась отвратной ему идея работать на логопедов, шпионить, доносить. Вот если бы просто отправили его за границу, без всяческих условий… Нет, не желал Заблукаев идти на поводу у Девеля и ему подобных. И что-то подсказывало ему, что тягостное условие можно будет обойти. Кто станет приглядывать за ним там, за границей? Неужели приставят к нему надзирателя? Вот что необходимо узнать. Главное — ему позволят вывезти с собой имущество, а это значит, его книги и рукописи. Да-да, необходимо узнать подробности, детали.
Он едва дождался рассвета и вскоре уже колотил в дверь камеры. Его без промедления провели в кабинет следователя.
Девель широчайшей улыбкой встретил его согласие. Эта улыбка говорила: «А я, братец, ничего другого не ожидал». Он подвинул к Заблукаеву лист бумаги:
— Подпишите.
Заблукаев подписал. Девель убрал лист в папку, поднялся, протянул руку:
— Очень приятно было познакомиться, Лев Павлович. Остальное вам расскажут.
Следующий час Заблукаев провел еще в одном кабинете, где ему долго, в подробностях объясняли, что и как следует сделать. Заблукаев едва сдерживал нетерпение. Ему хотелось в Европу. Он почти не слышал, что ему говорят.
После инструктажа его посадили в машину и повезли домой. На сборы отводился час, но он управился быстрее. Тяжелее всего было упаковать рукописи — их почему-то не изъяли. Бумаги не умещались в объемистый чемодан, пришлось для верности перевязать его скотчем. Книг у Заблукаева было мало, и он не стал их брать: все прочитанное он держал в голове. Получалось, что, кроме рукописей и кое-какой одежды, другого имущества у него не было. Вот захлопнулась дверь, последний раз повернулся в замке ключ, который один из сопровождающих положил в карман. Вот сел Заблукаев в машину. Вот она тронулась на вокзал. Заблукаев уезжал. Неужели это на самом деле происходит? Он уезжает, навсегда. Стиснув руки, с колотящимся сердцем ехал в машине на вокзал Заблукаев.
В провожатые выделили ему недавнего выпускника Корпуса, молодого неразговорчивого человека по фамилии Пахомов. Для того это было первое задание, и Пахомов, по-видимому, вполне сознавал всю возложенную на него ответственность: он подозрительно оглядывал каждого приближающегося к его подопечному, шарил взглядом по сторонам и, кажется, в любую минуту ожидал нападения заговорщиков, замысливших отбить Заблукаева.
Этот Пахомов сразу понравился Заблукаеву. Они были ровесники, но разделяла их пропасть. Пахомов принадлежал к элитному сословию, касте. Заблукаев был изгой. С нежностью смотрел Заблукаев на Пахомова. Он мог поклясться, что видит того насквозь. Неисчислимые тревоги грызли Пахомова. Что-то там, за границей? На каком языке там говорят? Как добираться до посольства, куда надлежит сдать Заблукаева? Встретят ли их на вокзале — или придется объясняться с таксистами и просто незнакомыми людьми? Опять же, на каком языке? Хватит ли выданных денег? Говорят, цены в Европе высоченные. А суточных хватит ли? Удастся ли побегать по магазинам? И опять же — хватит ли денег?
Заблукаев, едва сдерживая улыбку, оглядывал Пахомова. Он хотел сказать ему: «Не волнуйся, все быстро образуется», — но боялся спугнуть того раньше времени.
Купе у них было двухместное, комфортное. Ехать предстояло чуть больше полутора суток. Заблукаев сунул чемодан под сиденье, устроился у окна — и вдруг мысль о матери обожгла его. Образ ее так явственно встал перед его глазами, что он чуть было не удивился, увидев, что ее нет среди провожающих на перроне. Ему так захотелось, чтобы она там была! Но ведь не пригласили ее, даже не уведомили. Постойте, так она, верно, даже не знает, что он был в тюрьме! Он вскочил, заметался по купе. Пахомов насторожился.
— Что вы? — спросил он.
— Мать… Я хотел, чтобы она… — начал Заблукаев и замолк. Что толку? Это он о ней забыл. Все это время, проведенные в тюрьме, он не вспоминал о ней. А теперь поздно. Поникнув, он опустился на сиденье. Пахомов успокоился.
Поезд медленно тронулся.
Ехали молча. Пахомов читал отечественную прессу, внимательно, тщательно, словно для конспекта. Заблукаев думал. Он думал о будущей жизни. В нем медленно поднималось, зрело веселье. Он воскрешал в памяти слова языка, на котором предстоит говорить, с удивлением осознавал, что помнит многое. Время от времени опускал руку под сиденье, ощупывал чемодан. Ему не верилось, что рукописи выпустили вместе с ним. Им полагалось сгореть, а они вот — едут за границу. На радостях он заказал вина, предложил и Пахомову. Тот подозрительно взглянул на бутылку и заказал водки. Так и выпили каждый в своем углу и каждый за свое. А за что, ни один из них так и не узнал.
К границе подъехали ночью. Заблукаев открыл глаза, встрепенулся — после выпитого он задремал, — и увидел в углу, возле двери, бессонного Пахомова. Водка не брала его обуянного тревогами организма. Дверь была открыта, и Пахомов время от времени наклонялся и выглядывал в коридор. По темным вагонам шел паспортный контроль. Пахомов выпрямился и посмотрел на Заблукаева.
— Гляди у меня, — мрачно предупредил он.
Заблукаев глядел. С самого начала поездки он только и делал, что глядел. Но Пахомов не замечал, что Заблукаев глядит. Ему казалось, что предупреждения будет достаточно.
Таможенники дошли до их купе. Пахомов и Заблукаев предъявили паспорта. После недолгой проверки в этих паспортах появились красивые штемпели с изящными буковками. Им разрешили въезд. Но Пахомова это, казалось, не удовлетворило. Он сорвался с места и в коридоре прилип к окну. Потом побежал к выходу, но и там, видимо, ждало его разочарование, потому что он вернулся поникший и тяжело опустился на сиденье.
Заблукаев с легкой улыбкой следил за ним. Он ожидал этого. Что-то ему подсказывало, что так оно и должно было случиться. Он видел Пахомова насквозь.
Их не встретили. По-видимому, их должны были встретить на границе и сопроводить до места назначения — но не встретили. Мало ли что было этому причиной. Главное — их не встретили. А это значило, что Пахомов должен сопроводить Заблукаева до посольства лично. Заблукаев чуть не рассмеялся. Он постелил себе и лег спать. Пахомов просидел на своем посту у двери до самого утра.
Утром Заблукаев проснулся и увидел у двери дремлющего Пахомова. Поезд медленно подползал к Северному вокзалу. Ночью пошел сильный снег и к утру успел засыпать все окрест.
Поезд остановился. Заблукаев бодро оделся, вытащил из-под сиденья чемодан и повернулся к выходу. Но на пути стоял Пахомов.
— Смотри у меня! — процедил он еще раз.
— Приехали, — сказал Заблукаев.
— Знаю, — сказал Пахомов, с тоской и ненавистью глядя в окно.
— Тогда пошли, — легко сказал Заблукаев. По коридору на выход спешили уже последние пассажиры.
Пахомов отодвинулся, взял свой чемоданишко и сказал, не глядя на Заблукаева:
— Чтоб рядом держался, понял?
— Разумеется, — улыбнулся Заблукаев.
Они вышли из вагона и направились через залитый огнями, красивый вокзал к выходу. Все с какой-то радостной отчетливостью виделось Заблукаеву. Он словно уже бывал здесь когда-то. Вот кафе: видны клетчатые скатерти на столиках, у стойки в ожидании посетителей болтают двое официантов в передниках, на стенах — какие-то цирковые фотографии. И Заблукаеву казалось, что когда-то он уже сиживал в этом кафе, пил ирландский кофе, перекидывался словечком с официантом в переднике. Интересно, возникнет ли у него такое же ощущение в городе? Восхищенно озираясь, он ускорил шаг и тут же почувствовал тычок в бок.
— Тише иди, — прошипел Пахомов.
А ведь Заблукаев уже забыл про него. Пришлось заставить себя скрыть недовольство. Они вышли из вокзала и очутились на большой площади.
— Стой, — приказал Пахомов, вынул из кармана карту и углубился в нее.
Заблукаев в это время оглядывался по сторонам. Они стояли на скрещении трех улиц, сходящихся к вокзальной площади. Улицы были запружены медленно едущими по случаю снегопада машинами.
— Нам сюда, — сказал Пахомов и толкнул перед собой Заблукаева. Они перешли перекресток и пошли по одной из улиц. Пахомов на каждом шагу останавливался и сверялся с картой. Он что-то бормотал себе под нос, и Заблукаев по его раздраженному тону уловил, что идти им еще далеко.
Вскоре перед ними возник очередной небольшой перекресток. Они остановились в ожидании сигнала светофора, и Пахомов опять развернул карту. Рядом сиял отреставрированным фасадом какой-то дом, судя по виду, жилой. Большая арка с воротами виднелась неподалеку, в каких-то десяти метрах. Думал Заблукаев недолго — едва Пахомов углубился в карту, как он уже несся к этим воротам, прижав к животу чемодан. Миг — и он нырнул в арку и оказался во внутреннем дворе, уставленном машинами. Медленный мелкий снег опускался на этот двор и успел покрыть все тут так, что машины казались бесформенными белыми сугробами. Впереди виднелась такая же арка. Заблукаев стремительно добежал до нее, оглянулся и только сейчас заметил, как какая-то темная фигура вбегает во двор. Дальше он уже не видел — его ждал очередной двор, похожий на первый. Этот был засыпан снегом еще больше, даже протоптанных дорожек было не видать. Разметывая глубокий снег, Заблукаев ринулся на выход — и выбежал на ту же улицу, по которой всего несколько минут назад они шли с Пахомовым. В начале ее, он знал, располагается вокзал. Опрометью он бросился по тротуару и скоро оказался на привокзальной площади. Он не знал, бежит ли Пахомов за ним. Лавируя между ползущими на черепашьей скорости машинами, Заблукаев с чемоданом в обнимку перебежал улицу и влетел в здание вокзала. Едва ли он мог связно думать. За каких-то полминуты он промахнул весь вокзал и выскочил из другого выхода. Здесь такой площади не было: через улицу стояли кривые старые дома, обремененные снежными шапками. Прямо перед ним открывалась узкая улица, и Заблукаев нырнул в нее и долго еще бежал, пока не выскочил на какую-то маленькую площадь с темным силуэтом древней церкви. Старые черные деревья окружали церковь. Машин здесь почти не было, людей тоже. Заблукаев остановился, тяжело дыша. Чемодан превратился в неподъемный груз, он поставил его на землю и сам опустился на него.
Никто за ним не гнался. Счастливый, сидел Заблукаев на чемодане с рукописями, зная, что сбежал.
Два дня бродил он по незнакомому городу, стараясь держаться подальше от центра. Денег у него не было, не было и понимания, где их можно раздобыть. Ночевал он в церквях, которые здесь на ночь не запирались. Внутри было холодно. Он ничего не ел. Утром второго дня ему внезапно стало плохо. Вернее, ему стало нестерпимо холодно, он понял, что сейчас упадет в снег. Но он нашел в себе силы и дальше брести по улице, хотя толком не знал куда. Все эти дни он не выпускал чемодана из рук и сейчас из последних сил волочил его по земле. Снег продолжал валить: в Европе выдалась самая снежная зима за последние тридцать лет. Заблукаеву стало дурно, он присел на какие-то ступеньки. У него потемнело в глазах, и вдруг из этой темноты надвинулись на него две громадных фигуры, облаченных в бесформенные шубы. Они остановились подле него, и он понял, что сейчас его либо прирежут, либо ограбят, вырвут из рук бесценный чемодан. Он попытался крикнуть, но потерял сознание.
Двое балканцев, подобравшие его, жили неподалеку в большой бестолковой квартире, где, кроме них, обитали еще с десяток человек. Квартиру снимали всей ватагой. Тут были студенты, разнорабочие, нелегальные иностранцы. Сердобольные балканцы притащили бессознательного Заблукаева вместе с его чемоданом в свою комнату, бросили на лежанку и забросали громадными шубами. Заблукаев полностью скрылся под этими волнами теплого живительного меха. Он пролежал так в забытьи до вечера.
А вечером те же двое вернулись откуда-то, сделав свои неизвестные дела, и откопали Заблукаева. Они очень обрадовались, обнаружив его живым и голодным. Заблукаеву действительно полегчало, могильный озноб почти прошел. Его усадили за стол, напоили душистой сливовицей, накормили горячим мясным супом, и Заблукаеву стало хорошо. Его потянуло в сон. Та же лежанка и те же шубы уже ждали его. Он заснул в этой меховой берлоге глубоким теплым сном.
Наутро его новые друзья растолковали ему, что нужно делать, и показали дорогу к полицейскому участку. За ночь намело монументальных сугробов. Таких Заблукаев не видел даже на родине. Люди двигались по протоптанным узеньким дорожкам, потому что снегоуборочная техника, не приспособленная к таким зимам, вся увязла в снегу. А он, снег, все валил с небес равнодушно и мерно.
В полицейском участке Заблукаева, не удивляясь, выслушали и записали всю его историю. На самом деле полицейские очень удивились — потому что Заблукаев говорил на их языке очень хорошо — однако виду не подали. Ему определили адрес на тот срок, пока факты по его делу будут проверяться. Заблукаева спросили, кто он по профессии.
— Журналист, — ответил он.
Полицейские, не удивляясь, записали и это. На самом деле они очень удивились — потому что никогда не видели журналистов «оттуда» — однако виду не подали. Ему дали адреса учреждений, где можно было оформить временное разрешение на работу, встать на учет и так далее. Отдельно ему записали адрес, который, как прибавили полицейские, «может быть вам интересен». Они пояснили, что это адрес одного издателя, который печатает здесь газеты на родном языке Заблукаева.
— Это совсем недалеко, — добавили полицейские и показали адрес на карте.
Первым делом Заблукаев решил перетащить пожитки в квартиру, которую ему выделили. Он хотел поблагодарить гостеприимных балканцев, но в их громадной бестолковой квартире никого не было — обитатели ее разошлись по каким-то своим неизвестным делам. «Заскочу как-нибудь вечерком», — подумал Заблукаев, стаскивая тяжелый чемодан по длинной лестнице.
Ему выделили крохотную квартиру в старом, скрипучем трехэтажном доме, под самой крышей. Тут была одна комната, туалет и крохотная кухня. Единственное окно выходило на окрестные дома, такие же старые, некрашеные. Внизу был узкий, колодцем, дворик, там стояли две скамейки, по самые спинки занесенные снегом. Мебель в квартирке тоже была очень старой. Особенно выделялся массивный, красного дерева, с завитушками шкаф. На стенах висели картины — репродукции Вермеера. Была и посуда: на кухне он обнаружил пару тарелок, три ложки, нож, вилку, открывалку для бутылок, кастрюли, сковородку. Была даже старая кофеварка. Нечеловеческая радость нахлынула на Заблукаева. Он не верил глазам. У него была своя квартира.
Остаток дня Заблукаев провел в хождениях по учреждениям и социальным службам, а вечером отправился по адресу издателя, который ему дали в полиции. На всякий случай он взял из чемодана целую кипу своих статей. Сначала он хотел отобрать три, но их было так много, и все такие хорошие. Некоторыми он даже гордился. Так, с перевязанной шнурком пачкой бумаги и картой в руках, он отправился на поиски.
Ему пришлось изрядно попетлять, прежде чем он нашел нужный адрес. К тому времени улицы совсем опустели, только празднично светились фонарики у дверей баров. Снег повалил пуще прежнего. Издатель жил в коротком переулке, который состоял всего из трех домов и громко назывался улицей Приснодевы Марии. Здесь было безлюдно. Вдоль другой стороны улицы тянулась низкая белая стена, за которой виднелись заснеженные кресты и надгробия. Три темных дома стояли вплотную друг к другу, как бы плечом к плечу. Номер был только на одном — том, что с дальнего края. Именно этот дом, как оказалось, и нужен был Заблукаеву. Он подошел к двери и увидел кнопки с фамилиями. В полиции ему дали номер квартиры, но на кнопках были только фамилии, без номеров. Заблукаев наудачу толкнул дверь и увидел, что она не заперта. Он стал подниматься по широкой лестнице с толстыми перилами. Пахло кошками. Нужная дверь оказалась на третьем этаже. Он позвонил. Никто долго не открывал ему, и он принялся разглядывать другие двери. Всего на площадке их было три. Он приблизился к одной, чтобы разглядеть фамилию на кнопке звонка.
— Что вам угодно?
В проеме открывшейся двери стоял старик. Он был худ, сутул, совершенно сед, из-под нависших белых бровей смотрели острые глаза, злой рот кривился. Перед Заблукаевым стоял известный Дементий Андреевич Горфинкель, редактор газеты «Правло», один из самых яростных критиков режима логопедов. Юрист по образованию, Горфинкель был вынужден заняться журналистикой, когда тридцать лет назад его выслали с родины. Там Горфинкель, работник юридического департамента министерства культуры, был одним из первых, кто осмелился выступить против поправок к грамматическим нормам. Его статья «Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать», ходившая по рукам в списках, была первой ласточкой в долголетней войне логопедов и министерства образования. Горфинкель и сам не помнил, сколько на его веку усылали в отставку руководство Минобраза , но каждый раз наверху находился кто-то, по чьему указанию все отставники оставались на своих местах. Эти игры продлились бы еще долго, если бы Горфинкель не назвал вещи своими именами.
«Партии косноязыки, — писал он. — Намеренно косноязыки их программы, их председатели, их члены. Партия — любая партия — стремится к тому, чтобы изуродовать язык в своих интересах. Именно так можно придти к власти. Правильной, грамотной речью ничего не добьешься. Необходимо прибегнуть к самому темному, самому путаному, самому сумбурному языку, желательно смешанному с просторечием, чтобы достичь такой противоестественной цели, как власть. И наша Партия прекрасно это понимает. Она заинтересована в использовании искаженного языка, потому что на таком языке говорит народ. Со всеми выпрямителями, исправителями, очистителями языка она борется, потому что выпрямленный, исправленный, очищенный язык ей не понятен. Он не понятен ей потому, что неясно его предназначение. Такого языка не понимает народ, на таком языке пишутся книги, его использует интеллигенция. Этот язык не нужен и вреден. Следовательно, его нужно исподволь, настойчиво, хитроумно и деликатно искоренять. Делать это следует потому, что такой язык — враг народа и власти».
До этой статьи Горфинкеля терпели. В конце концов, он, как и логопеды, выступал за правильную речь. Но после того, как статья в тысячах списках распространилась по стране, его вызвали в центральную коллегию и предложили на выбор — либо сесть, либо уехать. Он пытался аргументированно спорить, и тогда ему объяснили: ты сюда не за проповедь чистоты языка попал. Ты тут за свои лживые измышления о каких-то войнах между Партией и логопедами. Заруби себе на носу — народ, Партия и логопеды едины, и цели у них одни. Нужно только преодолеть некоторые погрешности в языковом развитии. Ты крепко себе это на носу заруби.
Он зарубил. За границей Горфинкель опубликовал эту и множество других статей, основал газету, издательство, труды его были напечатаны в переводах на большинство европейских языков, на них ссылались как на яркое свидетельство борьбы одиночки против режима.
Но ничего из этого Заблукаев не знал.
— Что вам угодно? — повторил Горфинкель, вглядываясь в позднего гостя.
Заблукаев начал сбивчиво говорить что-то о том, что он только что приехал, сбежал из страны, что он журналист и ищет работу, — но острые глаза Горфинкеля уже вонзились в пачку бумаг в заблукаевских руках.