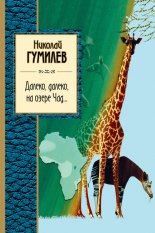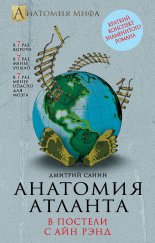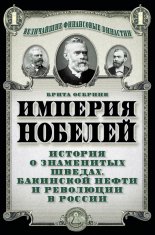Жена декабриста Аромштам Марина
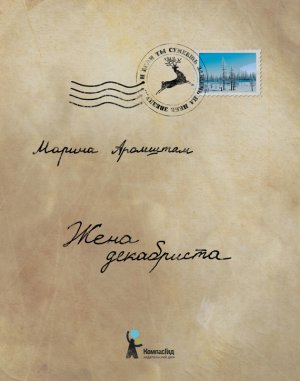
Предисловие
Анамнезис: воспоминания души и история болезни
Марина Аромштам — журналист, писатель и педагог. Ее книга «Мохнатый ребенок» адресована младшим подросткам, книга «Когда отдыхают ангелы» — в первую очередь, старшим подросткам.
Но роман, который вы держите в руках, написан не для детей. Он заставляет сегодняшних родителей вспомнить свое детство, их собственных мам и пап, бабушек и дедушек. Вспомнить, как мы росли, из чего вырастали. Вспомнить тяжелое молчание тех, чья молодость пришлась на тридцатые годы. И судьбу следующего, послевоенного поколения. Этой памятью, или припоминанием, роман, мне кажется, и ценен более всего.
Припоминание — вещь совсем не простая. Потому что только сегодня осознается, что такое советская школа, голос завуча и так называемое «правильное воспитание». Что такое странная романтика походов и геологических экспедиций. Что такое былое диссидентство, канувшие в небытие идеи правильного марксизма, машинописные копии запретной литературы, «Архипелаг ГУЛАГ», передаваемый тайно из рук в руки. Что такое подростковая скованность и неумелость в любви. Неумелость, которая очень часто есть следствие общей закомплексованности, инфантильности. Что такое эта гнетущая, безысходная боль человека, который пытается отстаивать свои права на самые простые чувства, самые обыкновенные человеческие движения. Об этом роман.
И еще о другом. О том, почему дети повторяют ошибки своих родителей, хотя вроде бы пытаются именно этих ошибок избежать. Это роман о любви и том, как трудно истинную любовь распознать. Роман о верности и жертвенности, о хрупкости человеческой души. О том, как легко можно все в своей жизни сломать и как тяжело что-то построить. О том, как один шаг, одна ошибка, даже одна неловкость или неосторожность может оказаться роковой. Эго роман о слепоте, которая может быть равносильной Судьбе. О том, можно ли эту Судьбу исправить. Наконец, это роман о мифах, которые передаются нам от наших дедов и отцов и которые нам приходится изживать на протяжении нашей жизни. Пусть даже у этих мифов такие прекрасные герои, как жены декабристов.
Николай Александров, журналист
Часть первая
Три четверти года тундра покрыта белым-белым снегом. Белизна его не случайна. Снег в тундре — источник света. Он должен бороться с темнотой долгой полярной ночи. Ночь стремится к абсолютной власти, захватывает в плен солнце и всю землю с ее растениями — кислой ягодой клюквой и пупырчатой княженикой, с птичьими гнездами между болотных кочек и лабиринтами мышиных норок. Ночь поражает сердца людей отчаянием, превращая линию жизни в пунктир. Черточки проставлены светом, а пробелы — тьмой и потерями. Только ненцы, дети Севера, рожденные на нартах, знают, как сохранить непрерывность жизни перед лицом полярной ночи…
Глава 1
Иногда, очень редко, бабушка что-нибудь рассказывала. Еще она пела украинские песни. Я запомнила «Дивлюсь я на небо» и еще одну — про «козынятку». Козынятка собиралась утопиться в полынье, а за ней бежал козел, чтобы не дать ей совершить задуманное. Догнал ли он ее? Это оставалось непонятным и потому тревожило. Несмотря на драматическое свое содержание, песня была бойкой, даже задорной. «Бигла, бигла козынятка лёдком», — пела бабушка высоким, но уже жидковатым голосом, дирижировала сама себе, размахивая рукой из стороны в сторону и кивком приглашая меня присоединиться.
«Она бигла топитыси», — я «плавала» по звуковым высотам, пытаясь поймать нужную ноту. Мне казалось, судьба козынятки зависит от того, насколько дружно мы с бабушкой исполним конец песни, и потому, не надеясь на свой музыкальный слух, я переходила на громкий, почти отчаянный речитатив: «Стый, коза, не топися!»
Бабушка недовольно качала головой: песня казалась ей испорченной.
Но отсутствие слуха было не единственным моим недостатком.
— Ну, ты поправь носки-то, — говорила она, приглушая голос, словно кто-то мог ее подслушать и заметить мою неопрятность в одежде. — Подтяни их, чтобы ровненько сидели. А то один у лиси, другой — у стриси.
Этой приговоркой я пользуюсь до сих пор. И до сих пор гадаю, что она значит.
***
Несмотря на «козынятку» и бабушкины истории, я не любила, когда она к нам приезжала.
Все мы — я, брат имама — заранее знали, что будет.
Раздастся звонок, и она войдет в прихожую, где мы все ее встречаем. Она отдаст маме сумку — так подчеркнуто небрежно всунет в руки, мол, вот гостинцы, разбирай, — а потом тут же, почти без перехода, скажет: что-то Витя очень бледный, и не вырос ни капельки. Ну ни капельки не подрос. Надо же быть таким маленьким! Уже во втором классе, а ростом с пятилетнего ребенка. Мальчик-с-пальчик какой-то!
— Мальчик-с-пальчик! Вылитый! — повторяет бабушка и ловит себя на мысли, что пошутила. Бабушка улыбается. Мы тоже. Мы радуемся, что бабушке кажется, будто она пошутила. Может быть, все еще обойдется. А Ася, вставляет Витька, пусть тогда Красная Шапочка — иначе он не согласен. Это бабушке тоже нравится — думать, будто я Красная Шапочка. Она выглядит спокойной и благодушной, и мама, слегка расслабившись, говорит:
— Ну, проходи же, проходи! Скоро обедать будем.
Это тактическая ошибка. Нужно было промолчать про обед. Тогда неприятный момент можно было бы отсрочить. Ведь самое главное — тянуть время. Но теперь — не получится.
— Что у тебя на обед?
— Рыбный суп, — поспешно отвечает мама.
— Рыбный суп? Почему не щи?
— Я решила сварить рыбный суп, это быстрее. И я вчера поздно пришла с работы, не успела купить капусту.
— Быстрее! Куда тебе торопиться — к смерти? У тебя что — в доме нет капусты? Вообще нет капусты? Ты не кормишь детей капустой?
— Мама, я кормлю детей капустой. Капусты нет только сегодня.
— Что значит — сегодня? Вчера у тебя тоже не было капусты.
— Откуда ты знаешь, чего у меня не было?
— Тут нечего знать. У тебя вчера тоже не было капусты. Ты знаешь, что капуста — источник витаминов? Всех витаминов! Неудивительно, что Витька такой маленький. Он не растет, потому что его не кормят!
— Я кормлю…
— Чем ты кормишь? Я вижу, чем ты кормишь! Ты бы врагов так кормила!
Мы с братом тихонько отступаем в комнату, садимся на диван, но не можем не слышать. Маховик бабушкиного негодования набирает обороты. Ее вопросы звучат все громче. Она раскачивает себя, как лодку, грозя черпнуть бортом воду, и наконец переходит на крик. Мы различаем: «мать-чудовище» и «отобрать детей».
— Да что ты кричишь? Перестань сейчас же! — вдруг срывается мама. — Приехала раз в год, чтобы покричать?
— Я сейчас же уеду!
— Вот и уезжай. Чем так приезжать!
— Да как ты смеешь!
Бабушка внезапно смолкает. Она выходит из кухни, садится на диван и смотрит в одну точку пустыми глазами. Она становится старой и опустошенной, похожей на высохший гриб. Нам с братом страшно, и мы стараемся не смотреть в ее сторону.
Через некоторое время мама появляется в комнате.
— Обед на столе. Давайте садиться.
Мы с братом послушно двигаемся в сторону кухни. Бабушка не шевелится.
— Мама, пойдем кушать. Ну, что ты…
— Ты, ты… — бабушка вдруг оживает. — Неблагодарная тварь! — и тут же снова обмякает.
Мы скорее ныряем за дверь, чтобы не слышать. Мама идет за нами.
— Вернитесь. Позовите бабушку с нами обедать.
Почему-то мы не можем ослушаться. Мы возвращаемся и начинаем свой традиционный лицемерный спектакль.
— Бабушка, пожалуйста, пойдем обедать!
— Мы тебя так ждали.
— Мальчик-с-пальчик. — Витьку внезапно озаряет, и он делает верный ход. Я стараюсь не отставать:
— И Красная Шапочка.
От слов во рту становится кисло. Бабушка не двигается. Но мы не сдаемся. Мы пытаемся ее обнять и целуем в щеки. Теперь бабушка кажется чуть менее деревянной.
— Идем, бабушка, идем! — Мы тянем ее за руки в кухню.
Она уступает. И мы рассаживаемся за столом, чтобы съесть суп, приготовленный мамой для врагов. Никто не разговаривает. После обеда бабушка говорит: «Я уезжаю!», но не уезжает, а ждет.
— Ася, иди сюда, — зовет мама и обращается к бабушке. — Бабушка купила для тебя пальто. Ты представляешь?
— Пальто? Какое пальто? — я прикидываюсь папуасом Новой Гвинеи, никогда в жизни не видевшим пальто.
Бабушка взглядывает на меня исподлобья:
— Вроде тот размер. А может — и не тот. Надо мерить.
— Что же делать? — Будто мама не знает, что делать.
— Привози Асю ко мне. Пальто померим. И шубу заодно.
— Шубу? Мама! Ты купила Асе шубу? Что же ты молчала?
— Ну, — говорит бабушка уклончиво. — Я не то чтобы Асе купила. Я просто так купила. Я за пальто знаешь какую очередь отстояла. А тут глядь — еще шубы подвезли. Решила заодно купить.
— Но ведь это очень дорого! — мама почти искренна.
Бабушка довольно молчит.
— Мама, я тебе очень благодарна, что ты нас поддерживаешь. Мы все тебе очень благодарны. Ася, поцелуй бабушку.
Бабушка сама чмокает меня в щеку.
А маму она никогда не целует. Не целует и не обнимает.
Глава 2
В детстве я не любила бабушку, потому что она кричала на маму.
Но потом, лелея свои подростковые женские грезы, я стала думать иначе: я не люблю бабушку, потому что она предала дедушку.
Так было интереснее.
***
Деда посадили в тридцать седьмом. И бабушка подписала отказ: она больше не считает себя его женой — раз он враг народа.
Но это было бы полбеды — если беду можно располовинить.
Бабушка не пустила деда к себе, когда он вернулся «оттуда». А он так хотел увидеть маму!
Дед не видел дочку больше трех лет: маме едва исполнился год, когда его забрали. Но думал, что сможет ее обрадовать: ведь дети любят конфеты. И когда он пришел — туда, где жили мама и бабушка, — у него был полный карман конфет. Мама уже засыпала. И вдруг — он. Стоит рядом с кроваткой и сыпет на нее сверху конфеты. Леденцы. Мама засмеялась и подумала, что случился праздник— День революции, хотя была весна.
Но бабушка сказала:
— Детям вредно есть конфеты. От этого портятся зубы. Уходи, Давид. Не надо тебе здесь быть. Не надо, чтобы тебя здесь видели.
Она боялась, что за ним снова придут, и неизвестно, что тогда будет.
***
Бабушка оказалась права: за ним действительно пришли — в сорок восьмом.
В дверь звонили и стучали — беспорядочно и напористо.
— Открывайте. К Давиду Файману. Ордер на арест.
— Бог мой! — бабушка открыла дверь.
— Где он?
Слова застряли у бабушки внутри, превратив горловые жилы в натянутые веревки.
Гости шагали широко — так широко, как можно шагать по семиметровой комнате, заглядывали под кровать и под стол.
— Ну, так что? — голос звучит с нескрываемой угрозой.
Бабушка с трудом выдавила слова наружу:
— Его нет.
— Где прячется?
— Он не прячется. — Бабушка вдруг замолкла. Но потом сглотнула и добавила: — Он умер.
— Умер, говоришь? А может — в сортире сидит? Со страху в штаны наложил?
Бабушка заставила себя сдвинуться с места, подошла к старому деревянному буфету, вытянула наружу маленький ящичек и стала искать в глубине. Ящичек сопротивлялся и поскрипывал, пытаясь утаить сокровенное. Но рука, наконец, нащупала в ворохе бумажек нужную.
— Пять лет назад. В сорок третьем. Вот похоронка.
Похоронка пришла на чужое имя — ведь во время войны бабушка уже не была дедушкиной женой. Бумагу принесла Маня, двоюродная дедушкина сестра.
— Вера! Давид тебя любил. Оставь это себе.
Тот, что был главным, хмуро взял похоронку и стал читать.
«…рядовой… погиб в сражении под городом Орел при обороне деревни… Похоронен…»
— Эй, прикрепи к делу. — Он сунул бумажку другому, развернулся и направился к выходу, бормоча сквозь зубы: — Жиды чертовы. Умер он!
Остальные двинулись следом. Кто-то мимоходом пнул ногой стул. Бабушка — все так же медленно — подняла его и села. А потом, глядя мимо мамы пустыми глазами, сказала:
— Где бы мы были, останься он жив? Он умер — и это лучшее, что он мог для нас сделать.
Глава 3
— Предала! Предала! Предала!
Я знаю: маме больно это слышать, — и получаю злое удовольствие.
Разговоры о бабушке — это моя подростковая месть. В данный момент — за то, что мама не пустила меня в бассейн. Все девчонки поехали, а я — нет.
Нельзя плавать в бассейне просто так. Бассейн без тренерских групп — опасное место. Там могут облапать.
Она никуда меня не пускает: боится, что я потеряю невинность. Она все время учит меня, как надо себя вести. Как должна вести себя девушка.
И я думаю — с обидой и раздражением: у нее устаревшие взгляды на жизнь.
Разве она может меня учить?
Она даже не сумела удержать рядом с собой отца.
***
Я помню, как уходил отец — не глядя на маму, деловито, без видимой спешки, аккуратно укладывал вещи в рюкзак: на дно — тяжелое, в карман — ложку с миской. Так, чтобы не гремели.
Мама позвала нас с Витькой обедать, а отец все собирался. Она сказала:
— Может, поешь?
— Некогда.
Куда он торопился? Потом заглянул в кухню, кивнул — непонятно кому:
— Все. Пока. Напишу.
И ушел.
Мне было тогда пять лет. Но я это помню.
***
Я вообще хорошо его помню.
Такой большой, веселый, весь в снегу.
Наш дом стоял в овраге. Зимой склоны оврагов превращались в настоящие высокие крутые горки — с ледяными накатами и трамплинами.
Иногда по выходным отец гулял со мной и братом. Он обожал кататься на санках. И всегда выбирал санки без спинки.
— Эй, команда! Налетай! — кричит он, плюхаясь животом на сиденье.
Мы с восторгом устраиваемся на его огромной спине.
— Ну, поехали! — отец объявляет о старте с веселой угрозой и начинает отталкиваться руками, направляя санки к обрыву. Мы тихонько поскуливаем от удовольствия, вцепляясь в его куртку, и пытаемся усесться понадежнее. Санки, достигнув критической точки, вздрагивают и ныряют носом вниз, с каждой минутой разгоняясь все больше. Отец ловко направляет их движение, отталкиваясь то руками, то ногами. Мы уже верещим в голос, и отец, заставив санки подпрыгнуть на трамплине, наконец сбрасывает нас в снег. А сам мчится ' дальше, совершая немыслимые виражи вокруг одиноких берез и продлевая санный путь до рекордной отметки — к восхищению окружающей публики.
Потом мы вваливаемся домой, мокрые, с ног до головы облепленные снегом.
— Это что за три поросенка явились? — с притворным недовольством спрашивает мама. — Нет, два поросенка и белый медведь! Вот я сейчас вас веником!
Она начинает обметать с нас снег, мы увертываемся, а отец под сурдинку норовит сунуть ей за шиворот заготовленный снежок.
— Ой! — взвизгивает мама. — Вот я тебе задам! — и шлепает веником по его плечам и спине. Он легко и весело уклоняется, потом вдруг, ловко перехватив ее руку, прижимает к себе и целует.
А мы кричим:
— Папа! Расскажи, как мама русалкой была. Как ты ее из реки вытащил!
— Как-как? Смотрю — русалка в реке плавает! Ничья. Нырнул, за хвост уцепил, вытащил и высушил. А потом обогрел и обласкал!
Мать при этом всегда заливалась краской.
***
Я представляю, как это было. Как бабушка говорит маме:
— В поход? Ты с ума сошла! Ты хоть понимаешь, что это такое — спать на сырой земле? Хочешь застудить почки? И как ты будешь подмываться в лесу, ты подумала?
Но мама не слушает. Она мечтает сбежать, давно мечтает сбежать от бабушки. От ее вечного крика и поучений. Куда-нибудь, хотя бы на время, где ничего этого не будет, а будут деревья, много воздуха, смелые люди. Людка говорила, там очень красиво: закаты, прозрачная вода. Если мама увидит деревья, их отражение в воде, она сразу поверит в Китеж. Мама хочет поверить.
Тогда бабушка решается на последний аргумент:
— Тебе — что — девушкой быть надоело?
Мама сжимает губы и решает обязательно идти.
***
— Эй, Петрушка! Ты видела, как командир на тебя пялится?
Людка — опытная туристка. Она полжизни проводит в лесах. А мама — новенькая. Она и еще один парень, Ваня. Они со второго курса. Остальные пятеро — старшекурсники, уже обтертые, бывалые. Девушек всего две — мама и Людка. «Командир» — отец. Он инструктор, ведет группу. Это он прозвал маму Петрушкой — за косички. В городе мама носила пучок. Но шпильки по лесным условиям оказались слишком ненадежным «крепежом», и мама стала заплетать две короткие упругие косички, торчавшие в стороны.
— Ты меня слышишь? Будь начеку! Командир, если глаз положит, своего добиваться будет. Поняла?
Маме не до командира. Ей вообще ни до чего. Она почти не видит обещанных Людкой красот: взгляд не имеет сил наслаждаться. Жизнь поедается физическими усилиями. Маме никогда не приходилось столько грести. Или столько идти. И тащить. У нее ноют плечи и руки. И ноги все время мокрые. А ноги должны быть сухими, иначе простудишь женские органы. Внушенный бабушкой страх вдруг оказывается навязчивым, неотступным.
— Эй, там, у Петрушки! Впереди поворот! Будьте внимательны. Заходите последними. Не торопитесь! Не отставайте!
Этот маршрут, он считается легким. И этот поворот реки тоже. Но Ване трудно. Мама ему почти не помогает. Даже мешает. И зачем его только посадили с мамой?
— Будешь плыть аккуратнее, когда с тобой пассажир. А так, с непривычки, лихачить начнешь!
— Ну, ты психолог, командир! — язвит Людка. — И где тебя таким премудростям учили?
— На бороде!
— Оно и видно!
Ваня не лихачит. Он старается быть аккуратным. Но не может все время контролировать маму. И на этом дурацком повороте мама умудряется зацепиться веслом за корягу. Ваня не видит. Он только чувствует,
что лодка отказывается подчиняться. Они застряли. Остальные уже далеко впереди, причалили к берегу.
— Давай, давай! — кричит командир.
Ваня «дает» как-то неправильно — и мир переворачивается вверх ногами, становится холодным и мокрым. Мама перестает соображать. Ваня зацепился за лодку, а ее сильно отбросило в сторону. Она еще худо-бедно удерживается на поверхности, но река швыряет ей в лицо пригоршни воды, и она хлебает, хлебает. Может, она уже тонет?
— Мужики, ловите лодку!
Отец бежит по берегу, на ходу сбрасывая сапоги, и прыгает в воду. Он хорошо плавает, мой будущий отец, — так же хорошо, как катается на санках. Мама чувствует рывок за ворот и короткий приказ:
— Дыши!
Она со звуком втягивает в легкие воздух.
— А теперь греби! Шевели руками! Шевели, говорю! Помогай!
Отец тянет ее к берегу, стараясь удерживать лицо над водой. На берегу их уже ждут: три пары рук помогают отцу с его ношей выбраться из реки.
— Парень в порядке? — коротко спрашивает отец, аккуратно усаживая маму на землю.
— В порядке. Поплевал маленько — и все. А Петрушка?
— Нормально, — отец вертит мамино лицо из стороны в сторону. — Нормально. Ставим лагерь.
— Помочь?
— Сам справлюсь. — И хочет взять маму на руки.
— Пусти, я пойду!
— Ну, давай. Осторожненько. Испугалась?
Мама молча кивает.
— Эй, а ну-ка — не дрожи так.
Отец находит свой рюкзак, вытаскивает одежду— для себя и для мамы, шерстяные штаны и тельник:
— На-ка, переоденься. Пока палатки ставим.
Мамины вещи промокли. Отец мог бы взять вещи у Людки, но хочет видеть маму в своем. Она уходит за кусты и пытается приладить на себя смену. Все ужасно большое. Как и отец. Штаны спадают. К счастью, в кармане находится веревочка, имама подвязывает ее у пояса, закатывает штанины и рукава. Вырез тельника слишком велик и открывает слишком много. Мама зажимает его спереди в горсть и в таком виде появляется у костра. Все на нее оборачиваются. Кто-то присвистывает.
— Ну и декольте, Петрушка! Ты неотразима! Сплошной соблазн. — Мама не понимает, шутит Людка или говорит всерьез.
— На-ка, выпей! — Ей протягивают чашку с горячим.
Маме приходится наклониться вперед, она забывается и протягивает руку. Тельник предательски обвисает. Мама в ужасе прихватывает его и прижимает к груди. Чай разлетается обжигающими брызгами, чашка падает на землю.
Людка хохочет:
— Ну, ты даешь, Петрушка! Прям французское кино. Мужики сейчас спортом побегут заниматься!
Отец цыкает на Людку и говорит, обращаясь к маме:
— Сиди, подам. И сырое повесь на веревку. С ночевкой — рокировка. Ваша с Людкой палатка промокла. Людка пойдет спать к ребятам, а ты — сюда.
Мама думает, что веревка у костра общая, и как же она повесит здесь лифчик. Ведь все увидят. Трусы — ладно. А вот лифчик…
Людка ухмыляется:
— Считаешь добычу законной, командир?
— Молчи у меня.
— Волчище ты серый!
— Завидно?
— Еще чего! Я Ваньку греть пойду. Он тоже тонул, а ему — ноль внимания.
— Вот и сходи.
Людка уходит. На прощанье она делает маме какие-то знаки, но мама думает только про лифчик: как она повесит его на веревку у костра. А если на елку, за палаткой, он же к утру не высохнет. Лифчика не было в списке снаряжения. И она не взяла сменный. Она забыла, что все в рюкзаке промокло.
— Иди, укладывайся, Петрушка.
Мама послушно бредет к указанной палатке. И только заползая в спальник, понимает, что это — палатка отца. Она сворачивается в клубок и начинает дрожать — от пережитого напряжения и того, что надвигается. И так, не в силах унять дрожь, погружается в полудрему. Скоро голоса у костра смолкают, и отец оказывается рядом. Он крепко обхватывает ее поперек живота, прижимает к себе и спрашивает:
— Ну, что ты, девочка? Ведь все в порядке? Правда?
Маме не кажется, что все в порядке, она только сильнее дрожит. А отец еще сильнее прижимает ее к себе и все шепчет:
— Тише, тише! — Как будто ее дрожь способна чему-то помешать.
Рука отца ныряет под тельник и находит мамину грудь. Мама дергается, но маленькая грудь только глубже погружается в его большую ладонь. Пальцы отца умело теребят и выкручивают сосок, и эта часть тела начинает жить своей жизнью, ласкаясь и нежась, прося еще. Мама краем сознания удивляется, что это может быть с нею, и выгибается, откидывая голову. Но не успевает за ним. Он дышит все чаще, рывком поворачивает ее на спину, тяжело наваливается и шарит по бедрам, освобождая от штанов.
— Нет, нет, нет!
— Ну, что ты, что ты! Все хорошо, все хорошо! — и быстро, мелко-мелко целует — снова вшею, и в грудь, заставляя отвлечься. Но мама чувствует, все равно чувствует, как что-то чужое, инородное, совсем неласковое пробивается к ней, грозя ужалить. И боится.
— Нет, пожалуйста, не надо!
Он не хочет остановиться, не может. Потом успокаивается, перестает давить, осторожно целует в закрытые глаза, подбирая губами слезы:
— Ты что — в первый раз? Дурочка моя…
Шарит рукой в углу палатки, находит какую-то тряпку:
— Подложи пока. Пойду воды согрею.
Отец возится у костра, пробует воду пальцем, снимает кан с огня и отправляет маму за кусты — мыться, а сам ждет, чтобы в нужный момент отвести к палатке. Мама тихая, послушная — как после тяжелой болезни. Они залезают в спальник. И отец снова прижимает ее к себе, гладит по голове и дышит в растрепавшиеся волосы. Он впервые называет маму по имени: