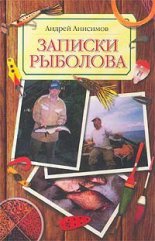Речитатив Постолов Анатолий

Анатолий Постолов
Речитатив
Маме
Часть первая
Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела…
О, с какой неохотой!
Басё
Воскресенье, 12 сентября 2004 года, 2.45 пополудни
Одинокая белая птица возникла в выгоревшем от зноя небе, как меловая метка на полотне. Солнце жгло немилосердно. В птичьем зрачке медленно вращался пересохший ломоть невадской пустыни – ее скудно разбросанная растительность, с последней надеждой прикипевшая к эпителию сухой каменистой почвы. Седая щетина кактусов… Игольчатые кусты юкки… Обветренные, обожженные солнцем солдаты пустыни – они нестройными рядами взбирались на куцые высотки, волоча за собой смятые клочки тени.
Дорога, которая разворачивалась неряшливым шлейфом, перебегая с холма на холм, похоже, стала частью этого колючего пейзажа. Проложили ее в сороковые годы прошлого века от медного месторождения в южном аппендиксе Невады к Боулдер-Сити. Через несколько лет обнаружилась неточность геологических изысканий – запасов медной руды в этом месте явно было недостаточно для долговременных проектов, и тогда городок, возникший рядом с медными копями, обезлюдел, превратившись в очередной город-призрак на этой выжженной земле. В семидесятые годы на скалистом плато построили крупный ретранслятор, но улучшать дорогу никто не собирался. Асфальт на всем ее протяжении растрескался и во многих местах уже был захвачен колючками и пучками сухой травы.
Дуэт
Машина появилась из-за холма, как желвак на вялой анемичной мышце больного. Это был двухдверный ярко-красный «мустанг» со сферическими никелированными колпаками, слегка потускневшими от дорожной пыли. Шустрый бурундучок, перебегавший в этот момент дорогу, так и присел, парализованный видом катящегося на него монстра. Машина притормозила, и клаксон выдал короткую саксофонную руладу. Бурундучка как ветром сдуло с дороги.
Машина стала набирать скорость. В ней сидели двое. Мужчина и женщина. Мужчину звали Юлиан. Он был средних лет. Невысок, крепко сбит. Его обгоревший на солнце круто закатанный лоб с глубокими залысинами сиял непревзойденной гаммой оттенков от палевого к малиновому, чем-то напоминая лбы патриархов и святых на картинах старых мастеров; впрочем, чуть плутоватые светло-серые глаза и постоянная ироничная усмешка в углах губ возвращали этот образ в земное и хорошо обеспеченное лоно. Дипломированный психотерапевт, он уже около десяти лет вел собственную практику в Лос-Анджелесе и на свое сорокапятилетие сделал сам себе отменный подарок – снял новый офис, расположенный в деловом секторе Беверли-Хиллз.
К своей профессии Юлиан относился – как в общем-то ко всему в жизни – без особой привязанности. С течением времени он создал небольшую, но более-менее постоянную клиентуру. Потеря одного-двух клиентов воспринималась им как удачная возможность лишний часок полазить по интернету или заглянуть в книжный магазин по соседству. Он также обожал путешествовать по незнакомым местам. Свое отдаленное будущее он видел именно там: на нехоженой тропе или неезженой дороге где-нибудь в американской глубинке, в перуанских джунглях или еще бог знает где.
Машину тряхнуло. По днищу забарабанили осколки щебня. Женщина, сидевшая рядом с ним, сняла большие солнечные очки и потерла глаза. Она потянулась, похрустывая косточками, опустила боковое стекло и, откинув назад сиденье, выпростала в окно свои смуглые ноги, с удовольствием пошевеливая пальчиками. В машину ворвался горячий воздух пустыни.
– Ты сошла с ума, – произнес мужчина, не поворачивая головы и продолжая следить за дорогой, основательно разбитой на этом участке.
– Жюль, мне надоело сидеть битый час под кондиционером. И потом, я должна поменять позу.
Женщина сказала это без раздражения, но тон ее голоса не оставлял никаких шансов на уступки. Женщину звали Виолой. Свое полное имя «Виолетта» она недолюбливала и пользовалась им только при заполнении документов и еще в тех случаях, когда хотела подчеркнуть дистанцию при знакомстве. Выглядела она лет на десять моложе своего спутника. У нее были темные, очень живые глаза, аккуратно вздернутый носик с изящными ноздрями и чуть приоткрытые губы, очерченные с удивительной природной щедростью. Она почти никогда их не красила. Те мужчины, которыми судьба окружала Виолу в жизни, глядя на нее спящую, часто не могли оторвать глаз от сдвоенного, покрытого нежным пушком бугорка в месте соединения губного желобка с верхней губой. И, если где-то в подлунном мире существует полная волнующих поворотов, заводей и перекатов река по имени Эротика, то у Виолы с этого чувственного бугорка она и начиналась.
Родители дали ей имя в память о бабушке-долгожительнице, но с малых лет все в доме называли ее Викой. Как-то раз в пятом классе учительница спросила: «Так ты, Андреева, у нас кто – Вика или Виолетта?» – «Вилка она!» крикнул двоечник с последней парты… Класс громко заржал. Прозвище прилипло. В начальных классах она была некрасивой угловатой девочкой и свыклась с мыслью, что от «вилки» ей уже никуда не деться. Она стеснялась своей худобы, острых, слегка повернутых внутрь коленок и локотков, похожих на обглоданные куриные косточки. Одно время она пыталась превратиться в толстушку, поглощая невероятное количество булочек с изюмом; булочки округлили ее личико, но никак не хотели участвовать в округлении конечностей. Обидное имя исчезло само собой, когда после летних каникул она появилась в своем восьмом «А» – заметно повзрослевшая, длинноногая с небольшой, но уже четко прорисованной грудью, и мальчик, который за эти два-три месяца подрос разве что на вершок, увидев ее, произнес: «Ну, ты…» – и замолчал, «вилка» застряла в горле. «Что, не узнал меня, Люсик, – засмеялась она. – Это я – Виола».
Тем летом она отдыхала с матерью в Симеизе, и квартирная хозяйка стала называть ее Виолой. «Потому что Виолетта – очень легкомысленное имя для девочки», – объяснила она. К тому времени привычное и одомашненное «Вика» стало восприниматься вроде надоевшей детской игрушки. Зато «Виола» звучало свежо и без слащаво-опереточной нотки, которая ей всегда слышалась в Виолетте. Мальчики из старших классов, знакомясь с ней, стали произносить ее новое имя нараспев, округляя губы и растягивая «о», при этом они очень походили на рыбу вытащенную из воды, что Виолу чрезвычайно смешило. Слегка подретушированное имя определило ее статус, как оказалось, надолго.
Фантомы
Каменистые холмы неожиданно кончились, и впереди открылась пологая равнина с фиолетовыми вкраплениями вереска на серых подушках дюн.
– Мы сейчас испаримся вместе с одеждой, и от нас не останется даже мокрого места, – сказал Юлиан. При этом он бросил тоскливый взгляд на заднее сиденье, где рядом с небольшой пестрой сумкой и потрепанным баулом валялось несколько пустых пластиковых бутылок. Вступать в спор с Виолой он, однако, не решился. Идея проехаться по незнакомым местам целиком принадлежала ему.
На эту практически заброшенную дорогу они попали случайно. Отъехав от заправки, он по ошибке свернул на объездную, и какое-то время они ехали параллельно основной трассе, но через пять-шесть миль объездная стала резко уходить вправо. Юлиан остановился, раскрыл карту, долго водил по ней пальцем, потом тихо ругнулся и сказал:
– Всё, к следующей вылазке покупаю «Навигатор».
Было ясно, что им надо либо возвращаться, либо проехать миль семьдесят по этой узкой и местами полуразрушенной дороге, прежде чем она сольется с основной трассой. Запастись питьевой водой в магазинчике на заправке они не догадались, но приключенческий зуд уже завел Юлиана. В его чуть воспаленных от сухого воздуха и долгой езды глазах появился угрюмый блеск кладоискателя. Втайне он надеялся обнаружить какой-нибудь не отмеченный на карте поселок рударей и, сбив ржавый замок с двери ветхого амбара, войти в загадочный полумрак, где на стенах висит полуистлевшая сбруя, а в углу, высвеченное солнечным лучом, золотится ореховое ложе Винчестера.
Через час пути воображение, одурманенное пейзажами пустыни, начало рисовать и вовсе фантастические картинки, наплывающие одна на другую под звуки тектонической музыки «Звездных войн»; и тогда перед его взором появлялся то полузасыпанный вход в пещеры с золотом Монтесумы, то обгоревшее шасси летающей тарелки с голосующим на обочине космическим пришельцем. Постепенно тяжесть этих фантомов осела в затылке тупой пульсирующей болью, очень хотелось пить, и он уже пожалел о своем упрямстве…
Однако неожиданная выходка Виолы внесла поправку в ход событий. Буквально через несколько минут после ее эпатажного жеста справа от дороги появился покосившийся дорожный знак, сообщавший, что через три мили произойдет слияние с 95-м хайвеем.
– Жизнь скоро станет лучше и, возможно, веселее, – сказал Юлиан. Он улыбнулся и, слегка скосив глаза в сторону женщины, добавил: – Твои пальчики похожи на игральные карты. Покерный набор. Особенно сейчас, когда ты ими шевелишь. Прямо червовый флэш-роял.
– Ты мне когда-то, кажется, говорил, что мои ноги сыграли немаловажную роль в твоем выборе, – взглянув на него мельком, произнесла Виола.
– Солнце мое, ты еще не успела открыть рот на той незабываемой парти «а-ля русские барды в изгнании», как я подумал: «Эту длинноногую нельзя упустить…», после чего с большим напряжением ждал, когда ты скажешь первую фразу. А ты все молчала и молчала. Потом наконец сказала…
– Что же я сказала?
– Ты выступила в защиту летучих мышей…
– А-а, это по поводу той картины с летучей мышью… Я только помню, что она была без рамы и хозяйка все время говорила: «Осторожно, свежее масло… свежее масло…»
– Да, там была изображена маленькая девочка с кукольным личиком и роскошной копной золотых волос, а над ней летучая мышь с короной на голове… У художника явно проглядывали садистские наклонности, но все вокруг ахали и причитали: «Какая кисть! какая кисть!»
– Между прочим, Жюль, изображение летучих мышей, как уверяют китайцы, приносит удачу. А вообще, это удивительно изящные существа, если отбросить в сторону их свирепые мордочки. Они сплетаются в невообразимые гирлянды, их перепончатые крылья многие кутюрье повторяли в своих моделях одежды.
– Ты мне примерно этими же словами объясняла тогда свою странную любовь к перепончатым. А я тебя спросил, не знаешь ли ты романс Вертинского «Я черная моль, я летучая мышь».
– Не думаю, что это Вертинский…
– И вот тут-то, солнце мое, ты сказала такое…
– Что же я сказала?
– Ты сказала «знаю», и я понял, что рыбка клюнула, но как опытный рыбак не торопился подсекать, а попросил тебя спеть, на что ты неосторожно ответила: «Как-нибудь в другой раз…» А это уже был тот неуловимый момент истины, когда женщина чуть ли не подсознательно намекает на то, что продолжение следует…
– И что же последовало?
– Ты задаешь вопросы, как та настырная старушка из романов Агаты Кристи… Можно подумать, что я разговаривал тогда не с тобой…
– Мне просто любопытно услышать твою интерпретацию событий. Прошло-то всего полтора года, а наша встреча уже обрастает новыми интересными деталями. Что там дальше случилось после того, как я попалась на крючок?
– Потом ты разговорилась, удачно шутила, спорила по поводу какого-то фильма, но я уже не вслушивался, потому что подумал: какая шикарная ляля: ноги от ушей, в меру умна и вообще…
– В меру умна? А как же ты определял меру ума, если не слышал, что я говорила, и только размеры снимал, причем не с меня одной – ты ведь был тогда очень озабочен. Три месяца как расстался с женой… Там еще была Рената Гринберг, крашеная блондинка… Помнишь ее?
– Помню.
– Ты, глядя на нее, тоже облизывался, но она, как оказалось, уже была занята, и ты стал ко мне присматриваться, а ноги от ушей – это ты потом придумал.
– Ничего я не придумал, у тебя ноги действительно от ушей, только моих.
– Перестань, Жюльен. У тебя пунктик. Любишь себя бичевать. Поверь, твой рост меня ничуть не смущает, а твои мужские достоинства просто не оставляют мне другого выбора. Ты прекрасный самец, Жюль…
– Притом что на четверть головы короче своей пассии…
– Зато какой головы! – рассмеялась Виола.
Она закрыла глаза, улыбаясь своим мыслям. Юлиан начал насвистывать «Желтую субмарину» и даже причмокнул, когда вскоре по правую сторону от дороги возник брошенный неизвестно кем ржавый контейнер, на гофрированном борту которого с трудом можно было разобрать надпись: «Ресторан «У Карлоса» – 1,5 мили».
– А ты знаешь, я страшно голоден… – он вопросительно посмотрел на Виолу.
– Я просто умираю, хочу чего-нибудь пожевать, – сказала она, сглотнув слюнку.
– Неплохо бы побаловать желудок какой-нибудь неприхотливой жрачкой: гамбургер с жареной картошкой и бутылка коки были бы в самый раз.
– Ах, повторите эти хрустящие слова еще разик, – зажмурилась Виола. Она вернула кресло в прежнее положение и стала нашаривать свои сандалии под сиденьем.
Ключик
Ресторан расположился метрах в пятидесяти от пересечения с основной дорогой. Это было покосившееся бунгало с узкой верандой, на которой стояли два крохотных столика и несколько плетеных крашеных стульев.
Юлиан подъехал почти вплотную к двери, и лицо его вытянулось от досады:
– Черт… неужели закрыто?
– Только что закрылись, – сказала Виола. – Сейчас пять минут четвертого.
– Ключик, – деловито произнес Юлиан, – дверь не на замке, ну-ка сбегай, загляни туда. Если этот Карлос еще не начал свою сиесту, может быть, он позаботится о двух умирающих от голода миссионерах…
– А вдруг это не Карлос, а Карлита?
– Поверь моему чутью – там Карлос, и только ты можешь перевесить чашу весов в нашу пользу. Давай, детка…
Он смотрел, как Виола подошла к двери и, приоткрыв ее, слегка наклонилась вперед, видно, с кем-то разговаривая. При этом она привстала на цыпочки и стала поглаживать стопой правой ноги рельефно напрягшуюся мышцу левой.
Юлиан улыбнулся. Она часто принимала эту позу, когда болтала по телефону с подружкой или где-нибудь на вечеринке, прислонившись к дверному косяку и потягивая вино из высокого бокала. В моторике ее жеста сразу появлялось что-то птичье, какая-то зябкая незащищенность и в тоже время бездна игривого изящества.
Однажды он ей сказал: «Ты этой позой очень напоминаешь скрипичный ключ. Возможно, тот, кто его придумал, нашел эти линии в фигуре своей любовницы. Я тебя буду теперь называть «Ключик». – «Хорошо, что не «Замочек»», – рассмеялась она. Ассоциация со скрипичным ключом оказалась вполне уместной. Виола жила в музыке. Она сама неплохо пела, увлеченно собирала диски с оперными ариями, а в минуты, когда хотелось забыться и погрустить, садилась за пианино, зажигала пахучие индийские палочки и, путая аккорды, пыталась наигрывать любимые мелодии, которые, словно птенцы, неуклюже выпархивали из-под ее тонких пальцев.
Неожиданно Виола громко рассмеялась, кивнула головой и, повернувшись вполоборота, крикнула:
– Кухня уже закрыта, но он может предложить нам по чашке кофе и туна-сэндвич.
– Туна? – Юлиан скривился и пожал плечами. – Ладно, пусть несет свою туну. Передай ему, что он разрушил мою мечту.
Они сели на веранде. Даже в тени одолевала духота. Над столом с монотонным жужжанием кружились мухи.
К ним подошел мужчина в старом застиранном фартуке с подносом в руках. Он совершенно не походил на мексиканца. Скорее нордический тип: белесые прямые волосы, узкие губы, светло-голубые навыкате глаза с красноватыми белками.
– Нет, это не Карлос, – сказал Юлиан, провожая официанта недовольным взглядом и подозрительно принюхиваясь к сэндвичу. – Это какой-нибудь Гуннард или Олаф.
– Его зовут Чак.
– О, ты успела с ним познакомиться?
– У него на фартуке вышито имя.
– Ах так, он и вышивкой занимается!
– Не дури, Жюль. Человек торчит в этой дыре, где кроме редких искателей приключений, вроде нас с тобой, да мексиканских забулдыг, наверно, никого не бывает…
– Поверь, я бы подумал о нем намного лучше, если бы он принес мне кусок жареного мяса… Я бы, возможно, стал называть его братом… А ты знаешь, в Техасе есть такой городок, называется Туна. Представляешь? Жизнь – как в консервной банке. Заходишь в дом – пахнет туной, открываешь холодильник – видишь туну, заглядываешь в спальню – и там туна.
– …Или тунец, – ехидно поправила Виола. – Ты уж соблюдай хоть какое-то равноправие полов…
К ним бесшумно подошел официант.
– Желаете еще чего-нибудь? – спросил он.
– Хорошо бы стейк…
– Кухня уже закрыта.
– Тогда принесите счет. – Он проводил глазами официанта и подмигнул Виоле: – Заметила?
– Что я должна была заметить?
– В продолжение нашего короткого разговора он ни разу не повернул голову в мою сторону, хотя я с ним разговаривал. Смотрел только на тебя.
– Ревнуешь?
– Ничуть. Он ведь гей.
– С чего ты взял?
– Моя профессия – собирать картинку по мозаичным кубикам взгляда, жеста, случайно оброненного слова…
– Ну и почему же он гей?
– Потому что он подчеркнуто был мил с тобой. Он смотрел на тебя и думал: «Как жаль, что она не мужик. А ведь она – окажись это он – совсем в моем вкусе».
– А ты в его вкусе?
– Нет. Я ведь с тобой. То есть в его глазах я как бы узурпировал тебя, хотя в действительности – это ты узурпировала меня. Но для него я – холостой выстрел. А ты при другом раскладе могла оказаться одиноким гомиком и постучаться в его конуру в безоблачный сентябрьский денек сего года…
– Вы неизлечимый фантазер, маэстро…
Официант принес счет и протянул его Юлиану, при этом он улыбнулся женщине какой-то жалкой измученной улыбкой.
– Долейте-ка мне еще кофе, – небрежно бросил Юлиан, глядя на Виолу и кривя губы в усмешке.
Мираж
Несколько минут они сидели молча. Солнце начинало клониться на запад. Тени чуть удлинились, и даже повеял легкий ветерок.
– Посмотри, Жюль, что это за птица, неужели чайка? – тихо спросила Виола.
– Где?
– Там, на столбе…
Он последовал за ее взглядом.
– Вообще, если не присматриваться, так я бы подумал, что это фарфоровый изолятор. Но ты права. Это чайка.
– Откуда она здесь… в пустыне?
Юлиан пожал плечами. Птица сидела на перекладине столба неподвижная, как изваяние, глядя куда-то в сторону холмов, уже подернутых сиреневой дымкой.
– Может быть, она больная…
– Вполне возможно. Я однажды видел птичку, которая влилась в поток машин на фривее и не могла вырваться. Так и летала по синусоиде от одного края дороги к другому. Может, и эта сошла с ума, потеряла ориентиры и теперь думает, что она изолятор.
Виола нахмурилась, тряхнула головой, затем поднялась, подошла к столбу и стала рассматривать птицу более пристально.
– Слушай, Жюльен, подойди-ка поближе, – сказала она… – Посмотри туда, куда смотрит чайка. Там мираж… Как океан, понимаешь? Это марево над дорогой очень похоже на воду.
– А ведь ты права, – согласился Юлиан, подойдя к Виоле и всматриваясь в иллюзорную дрожащую дымку, – типичный влажный мираж пустыни, возникающий нередко в жаркие безветренные дни над дорожным полотном.
– Это значит, она так и перелетает с одного столба на другой, а мираж отодвигается все дальше и дальше… Слушай, – Виола сжала его запястье, – давай ее спасем.
– Как ты это себе представляешь?
– Ну, есть же здесь где-то служба такая, по спасению животных. Они кошек снимают с деревьев. Подбирают брошенных собак. Можно позвонить по срочной линии…
– Виолетта, – насмешливо сказал Юлиан, – ты понимаешь, что городишь? Мы с тобой в пустыне, больше сотни миль от города. Никто в эту глушь не будет тащиться, но, если случится чудо и они приедут, им несчастную птицу надо сначала поймать, а в результате она сдохнет в их душегубке, прежде чем попадет на родной океанский пляж.
И тут, словно услышав его слова, чайка неожиданно расправила крылья и, сделав несколько тяжелых взмахов, полетела в сторону иллюзорного океана.
– Ключик, очнись… Ты ничем ей уже не поможешь. Попить воду она всегда сумеет из какой-нибудь помойной ямы возле придорожного ресторана. И там же съесть остатки гнилой туны… И кроме того, у нее есть одна недостижимая мечта – океан, и значит – бессмысленные попытки его достичь. Всё как у людей. Поехали…
– А мне почему-то грустно… – сказала Виола, когда они сели в машину. – Знаешь, я сейчас вспомнила один рассказ Капоте про хромую ворону. Такая простая житейская история о том, как человек где-то подобрал ворону – хромую, с подбитым крылом и обреченную на смерть. Он принес ее к себе домой и выходил. А в его квартире уже жили собака и кошка. Эта ворона, несмотря на хромоту, стала постепенно вроде главной фигуры в доме. Кошка не хотела с ней связываться, а собака ее даже боялась. Каждый день ворона вспрыгивала на подоконник и рассматривала окружающий мир. Хозяин не беспокоился, что она улетит, так как она и летать-то толком не могла, только прыгала. Но однажды мимо дома проезжал какой-то грузовичок с открытым кузовом, в котором, кроме рогожки да пары лопат, ничего не было, и вдруг эта ворона соскользнула с подоконника и приземлилась прямо в кузов. Так ее и увезли в неизвестность. Понимаешь, она себя обрекла на верную гибель. Но почему? Наверное, этот грузовичок напомнил ей о той жизни, когда она еще не была калекой…
– А может быть, ей просто надоело сидеть на подоконнике, – усмехнулся Юлиан. – Уж коль ты придаешь птицам человеческие привычки, не отступай с полдороги. Тоска заела твою хромую ворону. Ко мне такие пациенты часто приходят. Тоже хотят сигануть с подоконника или удавиться от тоски и однообразия жизни. Ну что ты надулась? Разве я не прав?
– Ты, как всегда, прав, Жюль, а птицу все равно жалко…
Он наклонился к ней, кося глазами в сторону дороги и щекоча губами мочку уха, шепнул:
– Жалко у пчелки…
Виола ничего не сказала, достала из сумки небольшое полотенце и, скатав его валиком, положила под голову.
– Я посплю немного… – грустно улыбнулась она Юлиану.
Он сочувственно кивнул.
– Ты о\'кей вести машину? – спросила она.
– Все нормально, – ответил Юлиан, – отдыхай. Гарантирую доставку домой без новых приключений.
Сон
Он закрыл глаза, и на его веки тяжелыми горячими складками легли солнечные лучи. Небольшое чернильное пятно с желтыми разводами выплыло из глубинного закоулка мозга и улеглось на колючем островке сетчатки, слегка пошевеливая своими бесформенными крыльями. Форма пятна загадочно менялась, и внезапно оно обратилось в траурницу, которая быстро стала вырастать в размере, заполняя пространство вокруг, и он подумал, что сейчас поймает момент погружения в сон; сблизив ладони, он попытался накрыть ими бабочку тьмы, но тьма накрыла его быстрей, и он погрузился в сон, в котором тут же проснулся и начал осторожно осматриваться.
В его глазах медленно фокусировались контуры и силуэты богато убранной театральной ложи. Матовые бра на стенах струили вокруг тусклый холодный свет. Спинки обитых бархатом стульев, казалось, были покрыты инеем. Внезапно он узнал себя в этой ложе. Он был крохотной молью, затаившейся в складках бархата на изгибе бордюра, и из своего уютного укрытия с жадным интересом изучал толпу в партере – нарядных женщин в черных платьях и мужчин в смокингах. Они рассеянно крутили головами, то и дело посматривая в сторону ложи и переговариваясь почти шепотом, и лишь изредка из этого осторожного жужжания вырывался чей-то вежливый смешок или сухой кашель. Постепенно он стал распознавать отдельные звуки, потом слова и затем целые фразы, которые выплывали из людской массы, как на поверхность бокала, наполненного шампанским, выплывают пузырьки воздуха.
– …фюрер должен появиться с минуты на минуту…
– …именно в Парсифале он окончательно…
– …да-да, именно так – окончательное решение…
– …что мне до еврейского бога…
– …гений Вагнера и сегодняшняя Германия как никогда…
– …а кто дирижирует?..
– …где же Фюрер?..
– …имя дирижера не помню, но, надеюсь, не Клемперер…
– …ха-ха-ха… с жидовским засильем в музыке покончено…
Люди, произносящие эти слова, каждые полминуты бросали томительные взгляды в центральную ложу, украшенную по бокам двумя длинными красными полотнищами с черной свастикой на фоне белого круга. В какой-то момент толпа напряженно притихла, когда в ложе бенуара появился обрюзгший генеральский чин.
– Это кажется Геринг… Нет, что вы, Геринг будет с фюрером… Но где же он?
И они опять приподнимались со своих мест и смотрели в затемненное убранство ложи, их речи и жесты становились все громче и резче. Какая-то женщина в длинном крепдешиновом платье с тюрбаном на голове вдруг резко поднялась с места, взвизгнула и буквально выскочив из своего ряда, бросилась к выходу. Мужчина с моноклем, сидевший рядом с ней, пытался схватить ее за руку, она его оттолкнула. Ей преградил дорогу лейтенант внутренней охраны.
– Мне надо в туалет, – сказала женщина.
– Запрещено, – тихо, но твердо произнес лейтенант. – Фюрер должен появиться с минуты на минуту.
– Но мне очень надо, – она сделала резкое движение к выходу.
Офицер, не говоря ни слова, взял ее под локоть и с чуть напряженной улыбкой подвел к мужчине с моноклем.
– Ваша дама… – сказал лейтенант.
– У меня крутит живот, – пробормотал низкорослый толстяк с мучнистым лицом. – Мне надо срочно… позвольте…
– Оставайтесь на месте, – брезгливо бросил охранник. – Всем оставаться на местах до появления фюрера! – крикнул он.
Ропот в зале все нарастал. Стало нестерпимо душно. Женщины с нервно трепещущими веерами и мужчины с мятыми программками напоминали какое-то безысходное, бессмысленное метание птичьей стаи над городом, лишенным деревьев.
– …фюрер… Где он?…
– …Ганс, я сейчас обоссусь…
– …потерпи…Они должны снять блокаду…
– …моей жене надо по нужде…
– …мы уже ждем третий час, черт их возьми…
– …хотелось бы знать, по чьему адресу вы посылаете черта?..
– …это недоразумение…
– …мы будто в душегубке…
– …молчать!..
– …мне нечем дышать…
– …я не могу больше… не могу…
Моль, похожая на остро заточенный карандашный грифель, выбралась из бархатной лощины и бесшумно заметалась в глубине ложи. Внезапно по бордюру быстро пробежала мышка и замерла у самого края красного полотнища. Кончик ее носа повлажнел. Нарастающий запах пота дразнил ее непередаваемо.
– Крыса! – завизжал высокий женский голос.
И еще несколько голосов подхватили:
– Где? где?…
– Там, в ложе фюрера!
В наступившей тишине кто-то процедил:
– Визгливые куклы, им бы домашние водевильчики разыгрывать.
– Ганс, я описалась, я больше не могла… – всхлипнула женщина.
И тут же несколько человек зарыдали, а толстый мужчина, пробормотав «какой ужас», стал нелепо оседать в своем кресле, будто опара сползающая по краю кастрюли. Его соседи, зажимая носы, вскочили со своих мест.
– Всем сидеть! – заорал охранник, передернув затвор карабина.
В этот момент в центральной ложе ярко вспыхнул внутренний свет, и невысокий человек с аккуратно подстриженными усиками подошел к барьеру. На нем была новая, с иголочки темно-серая униформа. Весь партер и бельэтаж как по команде развернулись и замерли. В руке фюрера шевелился живой комок – маленькая пугливая мышка. Поражало ее сходство с вождем. Он, поглаживая мышь, медленно оглядел притихший зал, поморщился и поднял согнутую в локте левую руку. «Зиг хайль!» – как по команде, гаркнул партер. Женщины в вечерних платьях, с потеками краски под глазами, всклокоченные мужчины в смокингах и даже дирижер, который по роду службы должен был повернуться спиной к человеку в центральной ложе, – все они с невыразимым обожанием смотрели на Гитлера. Дирижер первым очнулся от этой эйфории и резко взмахнул рукой, приглашая музыкантов к исполнению гимна. Но почему-то вместо музыки слышался только шелест вееров и программок, хотя оркестр напрягался вовсю, а губы дирижера, высчитывая такты, нашептывали: «Дойчланд, Дойчланд юбер аллее…» Этот шелест накатывал, как прибой, то затихая, то вырастая до какого-то истеричного птичьего клекота, безжалостно бьющего по перепонкам…
Юлиан открыл глаза. Резкий порыв ветра мощным арпеджио промчался по листьям магнолии, раскинувшей тяжелые ветки прямо за окном его офиса. Он посмотрел на часы, было около пяти. Его правая щека, открытая солнцу, сильно нагрелась, а на левой осталась полосатая вмятина от жесткого рубчика диванного валика. Зазвонил телефон.
– Слушаю, – сказал он с хрипотцой в голосе.
– Что с тобой, ты не простудился? – спросила Виола.
– Я спал. Захотелось вздремнуть, и я прилег на диван, куда обычно сажаю пациентов.
– Ты не забыл, что мы сегодня идем в гости? Подарок я уже купила.
– Умница.
Юлиан зевнул, подошел к своему столу, достал из диспенсера влажную салфетку, развернул ее и приложил к лицу.
– Сон… – сказал он, потирая щеки, – сон…Пятно
– Сколько Волику исполняется лет?
– Кажется сорок восемь. Ты идешь без галстука?
– Галстук ни к чему. Он гостей любит встречать в джинсах и сандалиях на босу ногу. Я не хочу выглядеть белой вороной.
– Между прочим, Ирена мне сказала, что у него будет этот целитель, о котором все говорят…
– Целитель?
– Помнишь, я тебе показывала его рекламное объявление на полстраницы в «Вестнике эмигранта»?
– Ах, этот… с польской фамилией.
– Его фамилия Варшавский. Думаю, он еврей, а не поляк.
– Он, кажется, родственник Волика?
– Дядя.
– Мой дядя самых честных… Слушай, Ключик. Я хочу тебе рассказать что-то очень интересное. Мне снился странный сон.
– У тебя пятно от вина на рубашке.
– Это не простое пятно, а даже очень драгоценное – Шато Латур 1982 года. Две тысячи за бутылку.
– Нет, милый, боюсь, что это дешевое каберне. Пять долларов за бутылку.
– Тогда я выброшу рубашку в мусор.
– Не спеши. Рубашка стоит намного дороже вина. Я ее попробую отмыть. Или отскоблить. Снимай. И надень другую. Так о чем ты только что хотел рассказать?
– Я уже не помню…