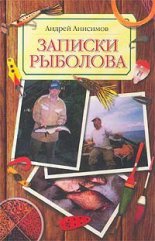Речитатив Постолов Анатолий

Варшавский встал и подошел к окну, вглядываясь в марево вечерних огней и задумчиво потирая указательным пальцем переносицу.
В дверь постучали, и почти сразу в проеме появилось оживленное лицо доктора Левитадзе – владельца клиники, где Варшавский арендовал место. Это был высокий вальяжный мужчина, абсолютно седой, со свекольными подушечками на щеках и чрезвычайно подвижными оливковыми глазами.
– Князь! – с укоризной сказал Левитадзе. – Ты мне что обещал? Забыл? После восьми вечера тебя здесь нет, а я тебя вижу. Дорогой, посмотри на себя: бледный, круги под глазами. Хочешь, медом угощу? Манук называется. Его аборигены собирают где-то в Австралии. А потенции в нем – на двоих хватит! Будешь как Карлсон крутиться. И чай я тебе налью байховый, настоящий – не это американское черт-те что. Булочка с медом и стакан грузинского чая из рук доктора Левитадзе… Знаешь, как это называется? Здоровье плюс долголетие!..
– Георгий, ты же знаешь, я не употребляю сахар…
– Мед – это потенция, князь… У тебя глаза оживут. Ты себя изнуряешь, а тебе не двадцать лет. Америка любит из таких, как ты, соки выжимать.
Левитадзе сел на стул, который под его весом издал каркающий звук, и неодобрительно покачал головой.
– Я, конечно, уважаю твою работоспособность, но ты себя лишаешь того, что делает нашу жизнь сочной, вкусной, красивой, как персик на твоем столе.
– Это яблоко, – поправил его Варшавский.
– Ты шутишь? – Левитадзе выкатил глаза. – Я старею! Представляешь, князь, еще несколько лет назад я мог самые мелкие буквы на таблице окулиста читать. А сегодня – полный швах, как говорит мой массажист Филя. А он бывший автомобильный гонщик – три раза вдребезги разбивался. Ай-ай-ай… Персик перепутать с яблоком. Или наоборот? Уже забыл, кого с кем перепутал. Я сейчас, знаешь, что вспомнил – один духан в Тбилиси. «Лобиани» назывался. Там такой лобио подавали в глиняных горшочках… со специями, с гурийской капустой, зеленью… Ай, какой лобио, пальчики оближешь. И вот, помню, однажды сидим с друзьями – выпиваем, закусываем, анекдоты рассказываем… молодые, веселые, и вдруг вижу старика за соседним столом. Один почему-то. Может быть, друзья разошлись, а может быть, просто зашел посидеть, погрустить. А перед ним на столе стакан кахетинского и рядом персик. И он смотрит на этот персик с такой печалью, знаешь, как будто перед ним его молодость, с которой он прощается. И я сейчас подумал, князь… надо не за копейку себя убивать, а плоды снимать с дерева наслаждений, пока силы есть. Деньги в пыль превращаются, в персике червяки заводятся. А зачем тебе червивый персик? Ты ведь живой человек и тебе надо немножко животных радостей. Хочешь, познакомлю тебя с одной докторшей? Ей сорок лет, она помешана на альтернативной медицине, правда, живет в Сан-Франциско, но я могу ее пригласить на этот уикенд. Прилетит, не задумываясь.
– Георгий, я через два месяца уезжаю. Суди сам: ко мне на прием записываются люди из других штатов. Конечно, я зарабатываю неплохие деньги, но при этом выкладываюсь, как десятиборец на Олимпийских играх. У меня даже не остается времени просто посмотреть на красивую женщину, не говоря о чем-то другом, да и где они, красавицы? Среди моей охающей и стонущей братии я красавиц не замечал. Конечно, по телевизору красотки разгуливают, но в этот ваш ящик я принципиально не заглядываю – ни времени нет, ни особого желания.
– Не говори, дорогой, не говори, – Левитадзе игриво помахал пальчиком. – Я видел у тебя в приемной таких див! По-моему, они к тебе летят, как пчелки на ароматный цветок. Даже позавидовал. Неделю назад из твоего кабинета смотрю – выплывает Ирена. Роскошная женщина. Пышка! Не знаю, что ты ей там делал, но у нее вид был просто цветущий, вся раскраснелась, как роза Гафиза, и тяжело дышала…
– Ты ее давно знаешь, Георгий?
– Я их всех знаю, – снисходительно ответил доктор Левитадзе, и его оливковые глазки пустились в очередной спин. – У меня же здесь принимают главные женские специалисты: гинеколог, диетолог, дерматолог…
– Послушай, Георгий, у тебя ее телефон есть? Мне надо срочно с ней поговорить.
– Что за вопрос, дорогой! В компьютере все есть: телефон-шмелефон, адрес-шмадрес. Но я тебе при одном условии дам ее номер – если ты попробуешь мед-манук. Князь! Свидание с такой женщиной…
– Ладно, неси свой мед…
Пальчики
Ирена внимательно посмотрела на свои руки, сняла кольца и положила их на высокий гранитный бордюр, отделявший мойку от уютного дайнета, [9] после чего достала из кухонного шкафчика пурпурные нитриловые перчатки. Пальцы у Ирены были несколько полноватые, но в идеальном состоянии. Она ими гордилась, следила за дайной ногтей и перламутровой непорочностью маникюра, перед сном втирала в кожу пахнущий цветком сакуры крем Шисейдо, а по утрам производила ту же процедуру, но уже пользуясь кокосовым маслом. Сидя на коврике в позе лотоса, она старалась медитировать, рисовала в своем воображении космические потоки, заполняющие все ее тело белоснежным бурлящим фонтаном молодости. Визуализации она добивалась такой, чтобы струи этого фонтана разливались по всем сосудам и суставам, вынося за собой через пальцы затхлую грязно-серую массу отрицательной энергии «ша», всякие стрессовые переживания и прочую, похожую на пульпу, чертовщину. Однако объемы накопившейся за день грязи почему-то не уменьшались, а напротив – пополнялись с прежней силой, хотя, как казалось Ирене, она вела почти безукоризненный образ жизни: питалась исключительно экологически чистой здоровой пищей, только изредка позволяя себе съесть ломтик-два копченой колбаски, по утрам делала аэробику, по вечерам совершала прогулки дайной в две мили, почти не пила спиртного и выкуривала не больше десяти сигарет в день.
Она приехала в Америку с дочкой после скандального, измотавшего ее донельзя, развода с первым мужем, приехала к тетке, которая через два месяца после ее приезда умерла. Письма от тётки она получала многообещающие, но действительность, как это часто бывает, показала свою непривлекательную сторону. Тетка блефовала, надеясь на старости лет иметь рядом близкого человека, который бы ей помогал. В результате теткины небольшие сбережения полностью ушли на приобретение места на кладбище и похороны. И у Ирены началась добровольная каторга, как она сама окрестила первые три года жизни в стране. Хотя и привезла она из России большие амбиции, напористость и привлекательную внешность, на первых порах эти качества не помогали ей, а напротив – оказались ни к чему, так как специальности у нее фактически не было и работу приходилось хватать любую, какую дадут.
Она вкалывала с утра до позднего вечера то уборщицей в медицинском комплексе, то продавщицей в бутике, то нянькой в доме для престарелых… В короткие минуты отдыха, спрятавшись где-нибудь в закутке и закуривая сигарету, она с отчаяньем рассматривала свои опухшие исцарапанные пальцы, а ночами грызла подушку, орошая ее горючими бабьими слезами, мечтая о чуде, о хорошем мужике, который снял бы с нее этот груз безнадеги и страха перед завтрашним днем.
Но редкие мужские особи из эмигрантского вивария, с которыми она встречалась, на поверку оказывались либо неудачниками и нытиками, либо хитрыми пронырами, озабоченными поиском обеспеченной жены, под крылышком которой можно было бы не спеша поклевывать пирог американской мечты.
Ирена почти отчаялась вырваться из этого замкнутого круга в уютный мир обеспеченной и независимой женщины, когда однажды вечером по дороге домой заглянула в русский деликатесный. Она уже приготовилась расплатиться за буханку бородинского хлеба и пачку сосисок, когда услышала рядом английскую речь. Жовиальный американец в шортах и майке навыпуск что-то объяснял девочке-продавщице, недавно приехавшей и не понимавшей ни бельмеса по-английски.
– Что вы хотите купить? – спросила его Ирена.
– Вот эту копченую рыбу, – он ткнул пальцем на лоснящуюся спинку балыка.
– Но ведь она вам ее сняла с подноса.
– Я хочу не одну, а весь поднос, – добродушно объяснил американец. – У меня парти.
Ирена сделала большие глаза и взглянула на него повнимательнее. Рыба на подносе тянула сотни на три. Американец, в свою очередь, оценивающе просканировал Ирену.
– Меня зовут Джош, – сказал он. – А как ваше имя?.. И-рэ-на? Это, кажется, польский вариант. Мне он нравится больше, чем английский – Айрин. Так вы не из Польши? О, Раша! У меня есть друг, он два года делал бизнес в Питерсбурге. А у вас хороший английский и красивые глаза… Это правда, что русские женщины работают на тяжелых строительных работах и пьют водку залпом, сразу полстакана? Мой друг мне говорил, что невесту надо искать только в Раше. Там все красавицы…
Глаза его в этот момент забуксовали на небольшом, но кокетливо приоткрытом отвороте ее блузки. Он глубоко втянул носом воздух, видимо, обдумывая очередной словесный выверт, но, ничего не придумав, извлек из бумажника свою визитку и пригласил Ирену на парти. А еще через неделю она к нему переехала. Ирена называла его Джошкой. Оглушающие пертурбации в ее жизни казались в первые дни чем-то эфемерным, и Ирена, просыпаясь среди ночи и ущипнув себя за ухо, мысленно спрашивала: а вдруг мне все это только снится?
Медовый месяц они решили провести на Гаваях. Именно там, на каскадных водопадах Мауи, целуя ее пальчики, он сказал, видимо, не в силах забыть образ русской женщины, таскающей кирпичи и от горькой жизни опрокидывающей залпом полстакана водки.
– Тебе больше не придется работать, honey, эти ручки будут только отдыхать, носить золотые кольца и пудрить свое личико….
– Но они еще кое-что умеют, – игриво возражала Ирена, тая от предчувствия, что именно так все и случится…
Через год она осуществила свою давнюю мечту и приобрела маленький бутик, а вместе с ним независимость. Собственно, приобретение было целиком организовано и профинансировано Джошкой. К ней вернулись прежние амбиции, расчетливость и деловая хватка. Бутик быстро превратился в прибыльное предприятие, и вскоре Ирена прикупила к нему комиссионку в дорогом Брентвуде, куда богатые американки нередко сдавали за гроши практически не ношенные наряды. После незначительного подновления к вещи пришивали фирменный ярлычок и ценник, и она уходила в бутик, обретая новую жизнь и новую стоимость.
С Джошкой они прожили вместе немногим больше трех лет, к тому времени окончательно разобравшись в полной несовместимости. Говорили они как будто на похожем языке, но на совершенно разных наречиях: лучше всего звучали в монологах и почти не слышали друг друга в диалогах, а если и слышали, то с трудно устранимыми помехами. Впрочем, отношения у них остались хорошие, и время от времени Джошка приходил к ней за советом, особенно после какой-нибудь бурной ссоры со своей очередной пассией. Ирена полагала себя сивиллой в сердечных делах.
Она вздохнула и начала мыть посуду.
Зазвонил телефон.
Чакры
Ирена, не обращая внимания на звонки, мурлыкала привязчивую мелодию из последнего хита Аллегровой. Включился автоответчик.
Ирена продолжала мурлыкать. Сашка стоял рядом и настойчиво терся об ее ногу, сопровождая трение сиплым урчанием, напоминающим саксофонное фрулято. Перед этим он плотно поужинал кошачьими консервами из куриной печенки да еще получил на десерт кусочек кекса с изюмом… Оно и понятно: хлопья попкорна и банановая кожура при всей их экзотике – не есть достойная пища для породистого сибирского кота, тем паче избалованного на манер дофина при королевском дворе.
Неожиданно столовый нож выпал из рук Ирены и с оглушительным звоном упал на дно раковины. Приметы иногда сбываются самым неожиданным образом. В доме появился мужчина, вернее – его голос.
«…У меня к вам срочное дело, – вещал автоответчик слегка искаженным, но все же узнаваемым баритоном Варшавского. – Я должен немедленно поговорить с Виолой, вы ведь подруги… Я полагаю…»
Ирена ахнула и подскочила к телефону.
– Ленард, как хорошо, что вы позвонили! – выпалила она и тут же подумала, что этого говорить не надо было.
– Ирена… произнес Варшавский с придыханием и сделал долгую паузу, видимо, обдумывая тактический ход в данной ситуации. Не совсем понятная взволнованность в голосе Ирены его насторожила.
– Что же вы пропали, милочка моя? Два визита – слишком мало. Два визита – это только разогрев перед серьезной дистанцией. Я ведь объяснял вам: как минимум семь сеансов – и я приведу вас в почти идеальную форму. Вы делаете упражнения по очистке второй чакры, как я вас учил?
– Да, я стараюсь не пропускать. Просто, иногда не получается… Знаете, работа отнимает столько времени, – она жеманно пожимала плечами и теребила краешек своего передника, слегка млея от его командного баритона.
– Не забывайте, очистка чакр, – отчетливо продолжал разъяснять Варшавский, – это процесс, основанный на медитативной технике, но его важно совмещать с правильно подобранным аудиосопровождением. Я вам давал свой диск по медитативному тренингу?
– Да, то есть нет, – путаясь, пролепетала Ирена.
– Поймите, милочка моя, – с нажимом внушал Варшавский, – внутренняя готовность и собранность – одно из главных условий аутотренинга. Чистить чакры – это не то же самое, что скоблить сковородку или кастрюлю…
«Все видит», – с обожанием и страхом подумала Ирена.
– Я себя чувствую намного лучше, вы просто волшебник, Ленард, – произнесла она с упоением и слабостью в коленках, почти растаяв от резонанса мужского голоса в трубке и от своего собственного грудного воркотания.
Сашка в этот момент с особенным рвением терся об ее ногу.
Варшавский, однако, решил поменять тему, уходя от сближающих полутонов к дистанционно менее опасным терциям:
– Звоню я вам по делу. Мне срочно нужна Виола, а ее мобильный не отвечает. Вы, кажется, близкие подруги…
– Она вообще-то легла отдохнуть, – лихорадочно подыскивая, что бы такое сказать, ляпнула Ирена и во второй раз подумала, что этого говорить не надо было.
– Так она у вас дома? Почему же же вы молчите? Позовите ее к телефону. Я не знаю наверняка, что там у нее с Юлианом произошло, но, кажется, догадываюсь о подоплеке, и поэтому нет смысла играться со мной в прятки. Мне срочно необходимо с ней поговорить, – голос Варшавского неожиданно обрел железные нотки, напоминая вступительные такты марша Радецкого.
Ирена поняла, что сама себя приперла к стенке и, промямлив несколько несуразных междометий, выдавила:
– У нее разболелась голова из-за неприятностей на работе.
– Какие еще неприятности? – тоном следователя спросил Варшавский.
Ирена молчала. Она пыталась снять перчатки, но ей это никак не удавалось, руки под перчатками неожиданно сильно вспотели.
– Послушайте, дорогая моя Ирена, – голос Варшавского виртуозно сменил грубое форте медных духовых на виолончельное адажио. – Я никак не желал бы оказаться незваным гостем или поневоле нарушить ваши планы на сегодняшний вечер, но мне необходимо срочно увидеть Виолу и поговорить с ней… Я могу к вам подъехать?
– Прямо сейчас? – пролепетала Ирена.
– Где вы живете? Продиктуйте-ка мне адресок. Я буду у вас через двадцать минут.
Бабочки
Виола лежала на тахте с книгой в руках, закутавшись в теплое верблюжье одеяло, глаза ее, однако, глядели поверх страниц, а мысли беспорядочно порхали в необъятном пространстве воображения, как бабочки-однодневки над пестрым цветочным ковром. Бабочки играли свои обыденные эпизодические роли, каждая из которых в отдельности могла бы показаться нелепой и несущественной, но необъяснимым образом эти, созданные бабочками лоскутки из смеси небесной синьки, полевых обветренных цветов и колючего чертополоха, складывались в суровое полотнище недавней драмы. И Виола делала то, что делает большинство людей, внезапно переместившихся из налаженной и надежной в своем развитии сердцевины любовного романа в его абсолютно несвоевременную кульминацию; они пытаются вернуться на страницы минувших событий, перекраивая их на новый манер, превращаясь в режиссера и актера одновременно, суфлируя себе и своему визави и меняя декорации, детали, а то и целую сцену – как бы прогоняя на пуантах все эпизоды новой хореографии.
Ирена заглянула в комнату.
– Ты не спишь, киска? Слушай, ты сейчас умрешь. Только что звонил… ты не поверишь… Ленард! Варшавский! И с первых слов… Я чуть не упала… Он заявляет: я знаю, что Виола у вас, и я должен ее немедленно увидеть.
– Ты ему, надеюсь, сказала что я не здесь?
– Ни слова не сказала – он просто видит насквозь. У меня голова кругом пошла. Я, говорит, еду к вам, мне нужна Виола.
– Ну, ты, надеюсь…
– Короче, он будет здесь через пятнадцать минут.
Виола быстро вскочила на ноги.
– Иренка, но ведь, кроме тебя, никто не знает, что я здесь.
– Девочка моя, он же ясновидец, я пыталась соврать, он меня тут же пристыдил.
– С ума сойти, – прошептала Виола. – Он действительно здесь будет через пятнадцать минут? У него же нет машины.
– Его подвезет какой-то субьект, он у Левитадзе подрабатывает массажистом, бывший автогонщик и немного сумасшедший. Я бы с ним рядом в машину не села, так он гоняет.
– Господи, я в таком виде… – Виола глянула в зеркало.
– Ерунда, сполосни лицо, подрумянься чуток – и с тебя довольно – ты же у нас круглый год цветешь.
– Ах, Ирена, ты ему проболталась, что я здесь, да?
– Клянусь, – начала говорить Ирена, кладя руку на грудь, но Виола уже выскочила из комнаты в ванную, прижимая ладони к щекам, слегка разглаживая морщинки под глазами и чувствуя при этом странное щекочущее волнение, будто перед выходом на сцену, где ей, как Нине Заречной, предстоит дебют, который принесет успех или неудачу. Дебют, от которого зависит все ее будущее.
Метаморфозы
Варшавский прошел по присыпанной гравием дорожке к дуплексу Ирены и нажал на кнопку звонка. Звонок сыграл заунывную фугу и, пока вздыхала и опадала звуковая волна, он равнодушно огляделся. Приземистая пальма, опоясанная шишковидным наростом, выглядывала из-за соседнего забора, фамильярно приветствуя гостя растопыренными листьями; справа от крыльца журчал миниатюрный фонтанчик, увенчанный ангелом с надломанным крылом. Взгляд, брошенный Варшавским в сторону тусклого лос-анджелесского неба, тоже не отметил ничего интересного – среди двух-трех неярких звездочек абсолютно не просматривался Меркурий, любимая планета ясновидцев и магов. И только луна, скрытая за вершинами гор, подсвечивала небосклон зыбким ореолом.
Между тем, за стеной дома в этот момент происходило нечто не вполне обычное. Хозяйка дома, услышав звонок, бросилась к двери, но по дороге остановилась и мельком посмотрела в зеркало. В глазах у нее прыгали бесенята, а юбка, краем которой она прикоснулась к овальному столику перед зеркалом, издала сухой, похожий на шипение треск статического разряда. Ирена вскрикнула и, поправляя прическу, понеслась к прихожей.
Полнейшая метаморфоза произошла с Сашкой. Взяв на себя руководящую должность мажордома, он непременно встречал гостей, достойно сидя на ковре посреди комнаты и разглядывал каждого входящего в упор, словно проверял на вшивость. Даже грузчики, люди грубые, занося вещи в дом по обыкновению задом, тем не менее, умудрялись учтиво обходить Сашку стороной; этих, а также пахнущих трубами водопроводчиков и прочий мастеровой люд Сашка провожал презрительным полуповоротом головы. Амплуа всеобщего любимца полностью лишило его иммунитета перед таким малоизученным явлением, как дьявольщина в облике господина приятной наружности, с безукоризненно сопряженными чакрами и просверливающим стены третьим глазом. Услышав звонок и мгновенно учуяв опасность, исходившую от пришельца, Сашка со всех ног бросился в самый дальний угол комнаты, где стояла кушетка с гнутыми ножками и свисающей бахромой шелкового покрывала; там он и затаился в самой глубине, превратившись в серый неодушевленный предмет.
Виола в этот момент сидела на краешке кровати и читала «Дары волхвов». Перед приходом Варшавского ей захотелось отвлечься от мыслей о предстоящем разговоре, и, открыв наугад томик О\'Генри, она с неожиданной легкостью растворилась в неоновых огнях Большого Яблока, ощутила его покалывающие хвойные запахи и сумеречную палитру мокрых мостовых, подкрашенных хрупкими мазками мандариновых корочек и пастозным бурлеском пунцовых листьев пуансетии. Забыв обо всем, она сама окунулась в это чуть слащавое от блеска витрин море Сочельника, в волнах которого кружились судьбы двух молодых людей, готовых пожертвовать очень многим, но любой ценой раздобыть друг для друга рождественские подарки. И читая о том, как героиня рассказа решила остричь свои прекрасные волосы, чтобы продать их и на несколько вырученных долларов купить наручные часы любимому мужу, она вдруг почувствовала, как в носу защекотало и на глазах выступили слезы. «Я превращаюсь в какую-то сентиментальную дуру», – подумала Виола…
В этот момент Варшавский постучал в дверь.
Табу
– Вы поступили совершенно неразумно, по-детски, – произнес он, выслушав несколько сбивчивый рассказ Виолы, состоящий из недомолвок, повторов и не по-женски расточительных пауз, в которых плавала сумятица переполнявших ее чувств.
– Я ваш друг. И если что-либо случается, я тот самый человек, которому можно довериться. О том, что вы потеряли работу, я почему-то узнаю от Ирены. А ваша размолвка с Юлианом… Я догадываюсь, что подноготная этого дела слишком щекотлива, чтобы делиться со мной подробностями. Я это понимаю. Ни на чем не настаиваю. Но, насколько помню, вел я себя самым подобающим образом, и если у Юлиана взыграла ревность, то ему, как психотерапевту, лучше самому разобраться в ее мотивах и немножко поработать над самим собой…
Он замолчал и вопросительно взглянул на Виолу:
– Ну что же вы прячете глаза?
Виола с удивлением посмотрела на Варшавского:
– Леон, разве не вы были тем человеком, который мановением руки снял мою мигрень и рассказывал удивительные вещи о мире, и даже пообещал перемены в моей судьбе. Вы, я помню, говорили о… как бы произнести это слово и не сглазить… Или я уже сглазила, чего-то захотела большего, чем положено. Зато вы это слово повторяли не раз и не два, вы просто сделали из него алые паруса, как принц для своей Ассоль. Это слово… можно я его скажу в скобках: открыла скобку – «счастье» – закрыла скобку. Как за школьной партой. Что-то вроде алгебраической формулы. Главное – не вывести опасное слово за скобки. А то его сразу унесет ветер в неизвестном направлении… Вы ведь просто посмеялись надо мной. Так ведь?
– Ничего подобного! – у Варшавского неожиданно построжело лицо. – Вас проверяют. Понимаете? Обещая счастливые перемены в вашей жизни, я был лишь проводником. Я получил этот месседж для вас – не для себя. Вас направляют высшие силы, но и они же вас испытывают.
– А зачем меня испытывать? Меня что – готовят в разведчицы? Или в космонавты? Может быть, я совершила непростительный проступок, очень нагрешила? Украла? Навредила ближнему? И как мне быть теперь? Вы же ясновидец, ответьте…
Она бросила на него порывистый взгляд, и глаза у нее опять стали чуть влажными, но оттого что она не хотела, чтобы Варшавский это заметил, Виола сделала усилие, сжав и тут же приоткрыв губы, и ее лицо в эту минуту обрело особую волнующую красоту, неожиданный румянец на щеках вспыхнул с какой-то новой силой, словно это резкий порыв зимнего ветра вручил ей, и только ей одной предназначенный дар волхвов…
Варшавский слегка откинулся в кресле, и в глазах его появилась знакомая Виоле растерянность. Впрочем, неожиданный ретрит продолжался буквально несколько секунд, после чего он порывисто вскочил, драматически сложил и потер руки. Затем быстро осмотрелся, и ноздри его затрепетали, видимо впитывая сложные флюиды Ирениной спальни, в которых густо переплелись ароматы изысканных духов, кремов, лосьонов и лаков для ногтей с полусонным томительным ароматом ухоженного женского организма.
На секунду бросив тревожный взгляд наверх, Варшавский кивнул, получив ответ на мучивший его вопрос, и продолжил:
– Знаете, Виола, некоторые люди наивно полагают, что ясновидец предугадывает будущее. Это не так. У ясновидца есть особое чутье… чутье зверя, который чувствует запах беды еще до ее зарождения. До того, как искра зажгла сухой пучок травы на обочине дороги, зверь ощущает приближение огня, в нем нарастает необъяснимая тревога, и он бежит, прячется, ищет защиту от… необъяснимого. С людьми, в принципе, происходит тоже самое. И мы иногда получаем эти неясные толчки из будущего, но редко кому удается окрасить неясные и даже непонятные ощущения в цвет и придать им форму. Нострадамусу такое удавалось, но и он как будто видел события, которые уже свершились, а не события, которые свершатся в данной точке пространства через сколько-то лет. Я понимаю – это звучит странно, ведь время необратимо и стрела его направлена только в будущее. Но существуют непостижимые пути попадания наших ощущений на кончик этой стрелы и передача увиденного назад в место, откуда стрела была запущена. Нострадамус мог увидеть будущее, но не мог влиять на него, как это делают герои фантастических романов. Не пытайтесь задавать вопросы будущему или, что еще хуже, пользоваться услугами гадалок… Будущее обведет вас вокруг пальца и, если даже вам удастся на миг оказаться на кончике стрелы, знайте – стрела эта, скорей всего, принадлежит чужой судьбе и вы можете, не ведая того, прилепиться к чужой планиде, взяв на себя чужую роль… Я хочу сказать… Мы ведь находимся в рамках человеческого понимания и ощущения времени, и лучше не пытаться эти рамки раздвинуть… Хотя иногда я думаю… Если бы я мог поменять что-то и вернуться назад… сместить свое время… Вы… Я смотрю на вас…
Что-то изменилось в его голосе, и Виола почувствовала, будто ее обдало жаром… «Господи, я вся горю…» – подумала она и опустила глаза.
– Боль, которая точит меня уже много лет, вдруг исчезла, отпустила меня… Вы заполнили провалы времени, словно перекинули мостик через пропасть, и мне надо сделать только шаг… один шаг…
Виола подняла голову и с виноватой улыбкой посмотрела на него, губы ее опять приоткрылись, словно искали слова для своей защиты, и она только сказала одно слово «Леон…», за которым складывалось мучительное и беспомощное «не надо», но он сам, будто спохватившись и чувствуя, что она собирается его остановить, громко перебил не столько ее, сколько самого себя:
– Всё! Простите меня… Я нарушил свое же табу. Я не хочу терять вас и Юлиана, вашу дружбу. У меня не совсем обычный эмоциональный срыв, немного загнал себя. Надо опять перевести стрелки на час назад… Не смотрите на меня с удивлением. Я эту фразу часто мысленно повторяю, когда хочу исправить какую-то ошибку, хочу обмануть время… но обманываю только себя… А про часы вспомнил в связи с тем, что на судне, которое находится в открытом океане, даже при пересечении часовых поясов время не меняется и только, если судно прибывает в порт, стрелки часов переводят. Понимаете?
Он сделал паузу и, усевшись в кресло, прикрыл на несколько секунд веки:
– И я думаю, что с точки зрения Бога, время вообще категория неподвижная. Это планеты и все живое на них кружатся вокруг времени, как мотыльки вокруг яркого фонаря. Эту неделимость времени хорошо ощущали провидцы и философы древности; они понимали, что время – это одновременно и настоящее, и прошлое, и будущее. Я когда-то о неподвижности времени прочитал у Чаадаева. Он представлял себе мир, в котором существуют как бы два времени: то, которое меняется, течет – физическое время, и неподвижное, принадлежащее Абсолюту… И сквозь него, как сквозь некий спиральный туннель, проходят наша жизнь и мы сами… Не торопите события, не пытайтесь угадать завтрашний день, потому что он уже произошел, он уже день вчерашний. И в нем я вижу ваше лицо. И читаю ответ на ваш вопрос.
– Что же мне делать?
– Во-первых, помириться с Юлианом, – сказал Варшавский, неожиданно улыбаясь.
– Он зол на меня, на вас… он очень упрямый, и я боюсь…
– Вы можете полностью проигнорировать мои слова, но знайте, не пройдет и дня, как он вам позвонит и протянет ветку мира. Что касается вашей работы… Это особая тема. К сожалению, мои голоса, там на верхах, пока ничего обнадеживающего мне не сообщили. Но у меня возникла одна интересная мысль. Я хочу предложить Юлиану необычный деловой союз. Не знаю, говорил ли он вам, что я обнаружил сильнейшее энергетическое поле, буквально пронизывающее его рабочий кабинет. Это редчайший феномен. Случай один на миллион. Неужели он вам ничего не рассказывал?
– Да-да, он говорил, – смутилась Виола. – Но не успел рассказать подробности, что-то помешало, а потом произошла эта глупая ссора.
– Вот что… – Варшавский встал с кресла. – Давайте не будем заглядывать в завтрашний день, тем более что мы об этом несколько секунд назад говорили как о неблагодарном занятии. Я хочу просить вас об одном. Помирившись с Юлианом, снимите тень подозрения с меня, будьте моим адвокатом, ведь я ничего не совершил плохого, я ложно оклеветан, и мое честное имя зависит от вас, Виола. Только от вас.
Он величественно развернулся и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Пока он спускался по лестнице, Виола слышала воркующий голосок Ирены: «…посидите с нами, мы попьем чаю, у меня есть очень вкусное печенье, домашнее».
– Рад бы, но не могу, милочка моя, – деловито произнес Варшавский. – Как нибудь в другой раз, но сегодня – никак.
Ирена сказала что-то еще, и до Виолы донеслась его, начатая в форте, но постепенно переходящая в пиано, фраза:
– И не забывайте мои инструкции. Работайте над второй чаркой.
«Какая еще чарка?» – подумала Виола, на миг представив себе подтянутого Варшавского в дирижерском фраке и пышнотелую Ирену, маленькими глотками ритмично опрокидывающую в рот наливку из серебряной рюмочки.
Только через час после ухода Варшавского Сашка вылез из-под своего укрытия и, тщательно принюхиваясь, взбежал по ступеням на второй этаж. Там он некоторое время раздумывал, как витязь на распутье, куда направить пушистые лапы свои и, недовольно фыркнув в сторону Ирениной спальни, быстро шмыгнул в комнату дочери Ирены Лики. Лика гостила у подруги, запах чужеземца никак не мог сюда проникнуть, и Сашка, жмурясь, улегся на ворсистое покрывало Ликиной кровати. Над кроватью весело тикали ходики, и в нехитром Сашкином воображении возник аппетитный ломтик кекса, из которого ему подмигивали изюмины-глазки. Это чудесное видение напрочь заслонило сверкнувший, как метеор, образ пришельца.
Сюрприз
– Дождь… слышишь…
– По листикам стучит…
– Я очень соскучилась по дождю, просто физическая тяга выскочить во двор, запрокинуть голову и высунуть язык, чтобы всю себя в дождь окунуть. Я когда была девочкой…
– …Кажется, это первый за полгода…
– …Может быть, как подарок для нас…
– …А на десерт подайте, пожалуйста, дождь в серебристой упаковке…
– …Погладь меня… вот здесь… я очень люблю, когда ты меня здесь гладишь. Просто оттаиваю, как бы за день ни устала…
– А что ты так тяжело вздыхаешь?
– Ужасно не люблю ссориться…
– Давай подпишем перманентное перемирие.
– Про перманентную революцию я помню, а перемирие… Ты, Жюлька, не сможешь очень долго продержаться.
– Я буду стараться.
– Я тебе не верю…
– Правильно делаешь.
– Давай мизинчиками помиримся, как в детстве: мирись, мирись, мирись… и больше не дерись!
– Мир на мизинчиках – неплохая идея. Напоминает сексуальные игры некоторых животных… пауков, например. Самец
там вокруг самки вьется, лапками ее обхаживает так старательно, будто играет первый концерт Чайковского…
– Прижмись ко мне… сильнее…
– …а паучиха его постепенно опутывает паутинкой…
– Ты у меня за эти несколько дней совсем отощал. Уж побалую тебя, сделаю завтра твою любимую баранью ножку.
– Люблю барашка я, но странною любовью… люблю его зажаренного с кровью!
– Это ты у Иртеньева вычитал?
– Сам сочинил.
– Нет, серьезно!
– Ей-богу! После того как подзаправился текилой и двойным дайкири у Гельмана, вышел на бульвар, думаю, надо проветриться, да и желудок пищи требует. Прохожу мимо какого-то ресторана – оттуда мясным духом пахнуло, я аж зашатался, а ресторан, знаешь, как называется? «Адажио»! Я даже глазам своим не поверил. Нет, думаю, какое может быть адажио без моего скрипичного Ключика. Забежал в пиццерию, чтоб только утолить инстинкт голодного зверя. Сижу, уплетаю свой пеперони-энд-чиз, а по телевизору показывают мультик. «Барашек Шон» называется. В пиццерии, кроме меня и пятилетнего мальчика – видимо, хозяйского сына, никого не было, и пока мальчишка этот мультик смотрел, я сочинял кровавую драму про барашка, зажаренного на вертеле. Вот такой я звэрь, кацо…
– Тебе надо почаще голодать, у тебя тогда поэтический талант прорезается.
– С «голодать» ничего в ближайшие пять дней не получится. Я решил поменять наш с тобой образ жизни и…
– Ну что же ты замолчал?
– Вообще-то я планировал это как сюрприз, но, кажется, проболтался. А болтун – находка для шпиона…
– и…
– Короче, в субботу мы летим в столицу мира – город Нью-Йорк. Я уже взял билеты.
– Жюлька! Как здорово!
– И тебе, и мне надо развеяться. Тебе это даже нужнее, чем мне. Но у меня при этом вполне законное желание увидеть маму и брательника. Нам уже готовят прием по первому разряду. Поверишь ли, моя украинская мама делает совершенно потрясающую фаршированную рыбу. За борщ я уже не говорю. А культурную программу обеспечит Яшка. У него есть какие-то связи, он обещал взять билеты в Линкольн-центр и на Бродвей, там сейчас с большим аншлагом идет «Мама миа».
– Жюленыш, ты что, меня на смотрины везешь?
– Очень ты любишь ставить прямолинейные вопросы, Ключик. А мне приходится искать уклончивые ответы.
– Я спросила просто так, без всякого намека…
– Я понимаю. Мне с тобой, солнышко мое, хорошо, и поверь, институт брака сие состояние не поменяет. Это формальность, которая просто придаст нашим отношениям некую условную базу… ну пойми, я пока в стадии ухажера, пусть она продлится какое-то время.
– Ладно, не буду тебя терзать своими притязаниями.
– Ты меня нисколько…
– А как быть с Варшавским? Я думаю, после того, как все недоразумения разъяснились, тебе надо с ним поговорить. Он считает нас своими друзьями, не питает к тебе никакой враждебности и раскрыт для дружеских объятий.
– Обниматься с Командором… бр-р-р…
– Ну перестань… А знаешь, ты ведь оказался прав. Помнишь, ты сказал мне, что Командор – муж донны Анны? А я с тобой поспорила. Представь себе, когда я была у Ирены, от нечего делать стала перебирать ее кинотеку и увидела «Маленькие трагедии Пушкина». Это фильм, сделанный, когда еще Высоцкий был жив. Он там играет Дон Жуана. И вот начала я смотреть, и понимаю по ходу действия, что вроде несуразно получается: Донна Анна приходит на могилу своего супруга, а не отца, как в опере. Тогда я беру у Ирены томик Пушкина, открываю и – представляешь! Пушкин ушел от оперного либретто, сделал Командора мужем донны Анны, и сразу вся сцена превратилась в любовный треугольник.
– Александр Сергеевич приправил легенду, добавил для остроты немного кайенского перцу. А я еще тогда, слушая оперу, подумал, что только ярость ревнивого мужа оправдывала бы действия Командора.
– Но ты же понимаешь, что Варшавский не играл эту роль…
– Я понимаю… Просто несколько суеверное чувство возникло. Знаешь, есть люди, которые с лучшими намерениями к тебе лезут, а результат резонирует совсем неожиданным образом. Это как очистительная буря. Она спасает от засухи, но прибивает градом урожай.
– Но Варшавский не такой, Жюль. И потом, у него какая-то возникла интересная идея, и ему просто не терпится с тобой поделиться. Он тебя очень уважает, твое мнение…
– Ладно. Я ему завтра позвоню с работы. Почему-то я уже заметил, как только возникает тема Варшавского, я тебя начинаю хотеть.
– Так это же хорошо.
– Что хорошо?
– Что начинаешь хотеть.
– А Варшавский вроде пивных дрожжей. Создает брожение.
– Ты опять на нем концентрируешься, Жюль… Ну посмотри, какая женщина рядом с тобой. Горячая… желанная… готовая отдаться по первому зову своему возлюбленному Ромео… Дон Жуану… кого я еще не назвала…
– Двоих, сгоревших от любви, тебе мало, ну ладно, буду третьим…
– Нет… первым, всегда первым…
Паноптикум
Юлиан дважды названивал Варшавскому, но безрезультатно. Автоответчик включался, и голос ясновидца обещал перезвонить в ближайшие пять минут, но, видимо, график приема больных был настолько плотным, что созвониться им удалось только в начале восьмого, после того, как Юлиан отпустил последнего пациента.
– Вы позвонили очень кстати, – голос Варшавского звучал с перебоями и даже с некоторой одышкой. – Как далеко вы от меня? – В пяти минутах езды, – ответил Юлиан.
– Приезжайте и подождите в приемной. У меня пациент. Я делаю массаж. Закончу через полчаса, и тогда мы сможем поговорить.
Вскоре Юлиан припарковался возле двухэтажного здания, на фронтоне которого висела вывеска: «Многопрофильная клиника доктора Левитадзе».
Варшавский снимал помещение на втором этаже. Дверь в приемную была открыта. Юлиан вошел и огляделся. В комнате находилось трое. Невысокий мужчина преклонных лет со слезящимися красными глазами сидел на двух вплотную составленных стульях, как-то по-детски скрестив короткие ножки и напряженно упираясь ладонями в дерматиновую обшивку сидений, от которых он, казалось, готов был отжаться, как спортсмен-разрядник. «Геморрой» – поставил диагноз Юлиан. Рядом с мужчиной, соблюдая дистанцию в один стул, сидела довольно полная, пожилая женщина в платье безнадежно-горчичного цвета. Она держала на коленях большую соломенную сумку с множеством бронзовых нашлепок, из которой выглядывал темно-вишневый стаканчик термоса и уголок русской газеты с крупно набранным заголовком: «Уроки Истории ничему…». Концовка фразы уходила в сумку, но легко угадывалась. «Остеохондроз и гипертония» – подумал Юлиан.
Еще один визитер – лысый мужчина в очках с затемненными стеклами, оккупировал потертый диванчик напротив, и, сцепив на коленях руки, методично вращал один большой палец вокруг другого, меняя направление вращения примерно каждые две секунды. Иногда что-то в этом моторчике заклинивало, тогда мужчина с печальным видом смотрел на свои руки, после чего средним пальцем поправлял сползающие на нос очки. «Вот это мой типаж, – отметил Юлиан. – Бессонница и неврастения».
Появление нового пациента сразу же изменило расположение сил в приемной. Все взоры обратились на Юлиана. Он без промедления был подвергнут перекрестно-примерочному осмотру, что само по себе обычное явление в местах принудительного соприсутствия – таких, как зал ожидания, вагонное купе или приемная врача. Драматические коллизии, в них происходящие, могут ужаснуть до слез или рассмешить до колик случайного свидетеля, а то и сделать его – иногда даже против своей воли – активным участником событий.
Мужчина, сидевший одной задницей на двух стульях, смотрел на вошедшего с полупрезрительным видом бывалого больного, как бы осуждая барскую ипостась подтянутого и загорелого Юлиана. А он, в брюках от Зеньи, в элегантно приталенной рубашке от Ватанабэ и мокасинах от Гуччи, и впрямь выглядел пришельцем с европейского континента, а посему волей-неволей становился весьма уязвим, ибо легко мог попасть под стрелы публичного осуждения. Привычка прибедняться настолько въелась в американский образ жизни, что увидеть прилично одетого мужчину-калифорнийца удается лишь в особых случаях: на деловом рауте, премьере в филармонии или на церемонии вручения какой-нибудь позолоченной статуэтки. Зато на следующий же день он неизменно превращается в нечто среднее между бомжом и нищим студентом.
Пожилая дама тоже участвовала в осмотре. Но под другим углом. Слегка приподняв выщипанные брови, она, похоже, проводила мимолетную ревизию Юлиановых физико-технических данных: сердце, печень, поджелудочная железа, почки, кровеносная система, легкие, гортань, желудок, толстая кишка… Однако в облике Юлиана она ничего желтушного, ушибленного, запущенного, гнойного, бледного, дряблого, пониженно-кислотного и гипертонического не нашла.
Мужчина на диванчике менее других был вовлечен в изучение пришельца. Он разве что на несколько секунд остановил неутомимое вращательное движение своего вхолостую работающего моторчика и, основательно взявшись двумя руками за дужки очков, с решительным видом подвинул свой наблюдательный агрегат поближе к переносице. Очки тут же вернулись на прежнюю позицию.
Юлиан подошел к стопке журналов, лежавших на низком столике, взял потрепанный «Огонек» и начал его рассеянно перелистывать.
– Они одно старье держат, – сокрушенно сказала дама. – Все журналы за прошлый год…
– Жмоты, – поморщился старик, сидевший на двух стульях. – А что это за мебель? – он неопределенно показал рукой в сторону диванчика и скорчил презрительную мину. Я такой диван пару дней назад выбросил на помойку. А они этот хлам подбирают как ни в чем не бывало.
Юлиан мысленно улыбнулся. «Они» составляло излюбленную форму политической некорректности критиков социума. Это личное местоимение как бы переходило в безличную форму и таким образом могло смело охватывать всех без исключения: от дворника до министра и от уборщицы до президента. «Они» то и дело путались под ногами и постоянно мешали бороться с негативными явлениями жизни. Правда, от нелицеприятной критики борцов за справедливость в «их» адрес никому из «них» не становилось ни холодно ни жарко. Зато сам критик оставался доволен своим нетерпимым к «ним» отношением, в глубине души смирившись с инвариантной несправедливостью окружающего мира.
– Молодой человек, – нараспев обратилась дама к Юлиану, – хотите почитать «Курьер», свежий номер, сегодня купила, – она вытащила из сумки газету и развернула ее, показывая товар лицом.
– Благодарю вас, – ответил Юлиан, перелистывая «Огонек». – Я люблю прошлогодние новости, их как-то спокойнее переносишь.
– Хе-хе… – сказал пожилой и, поморщившись, сделал очередную попытку отжаться на обеих руках. Видимо, геморрой давал себя знать.
Дама, тем временем, покрутив газету в руках, начала ею методично обмахиваться. Газета ожесточенно зашуршала, создавая звуковой эффект нашествия саранчи на беззащитную африканскую деревню.
– А памятник ветеранам войны в Пламмер-парке вы видели? – спросил пожилой, видимо, продолжая ранее начатую тему. – Чистое убожество. Я уже не говорю про эту наглую выходку их совета. Сами же себя золотыми буквами вписали в именной список и думают, что обвели общественность вокруг пальца. Меня они записать забыли, понимаете, а Кушнера взяли и записали. А он такой ветеран, как я мотоциклист. Ходит и всем говорит одно и то же: у меня ранение, у меня не сгибается правый указательный палец. Шмок! Он думает, что вокруг одни идиоты. Палец у него, знаете, почему не сгибается?
– Почему? – спросила дама.
– Потому что это тот самый палец, которым на курок нажимают. Он же самострел этот Кушнер, сам себе и прострелил палец, чтобы в тыл отправили. Зато теперь он герой.
На лице говорившего появилось брезгливое выражение. Он полез в боковой карман пиджака, достал потрепанный бумажник, извлек из него фотографию и протянул женщине.
– Вот, смотрите…
– Ой, неужели это вы! – сказала дама, отодвигая фотографию и близоруко щуря глаза. – А рядом с вами какой-то генерал! Вся грудь в орденах… Вы здесь просто красавец.
– Правильно, – смягчая тон, потвердил пожилой. – На этом снимке вы видите меня рядом с командующим Одесским военным округом генералом Бабаджаняном. Эх, трудно поверить… как будто все было вчера. А ведь снимок сделан тридцать пять лет назад.
– Так вы оказывается дослужились до полковника… – дама почтительно посмотрела на мужчину.
– Какого полковника! – оскорбился пожилой. – Вы шо, форму не различаете? Это же белый китель. Я был капитаном первого ранга. А теперь эти сволочи не внесли мое имя на памятник. Шпана! Понимаете, натуральная шпана!