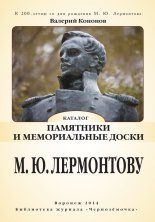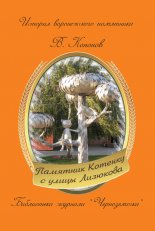Ночной цирк Моргенштерн Эрин
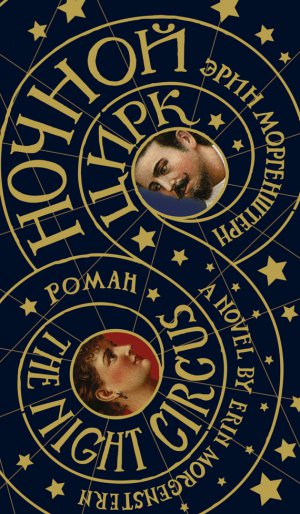
– Я мог бы показать, если хотите, – после минутного раздумья предлагает он.
– Очень хочу, – с готовностью откликается Изобель.
Они допивают вино, и Марко расплачивается с хозяйкой.
Надев котелок, он берет Изобель под руку, и они выходят из теплого кафе под моросящий дождь.
Не доходя до конца квартала, Марко резко останавливается напротив арки, которая ведет в просторный сквер, скрывающийся за коваными воротами. От тротуара до ворот несколько метров.
– Это сгодится, – решает Марко.
Он уводит Изобель с тротуара вглубь арки и ставит спиной к холодной мокрой каменной стене, а сам встает напротив, так близко, что она может разглядеть каждую каплю дождя на полях его шляпы.
– Сгодится для чего? – ее голос дрожит от волнения. Дождь не прекращается, и идти им некуда. В ответ Марко лишь прижимает к губам палец, пытаясь сконцентрировать все свое внимание на дожде и куске стены за ее спиной.
Ему еще ни на ком не доводилось опробовать этот трюк, и он совсем не уверен, что у него что-либо получится.
– Вы доверяете мне, мисс Мартин? – спрашивает он, глядя на нее так же пристально, как в кафе, только на сей раз его глаза находятся в считаных сантиметрах от ее.
– Да, – без колебаний откликается она.
– Хорошо.
Стремительным движением Марко поднимает руку и плотно прижимает ее к глазам Изобель.
От неожиданности Изобель замирает. Из-под его ладони ей ничего не видно, а из ощущений осталось лишь прикосновение намокшей перчатки к коже. Она начинает дрожать, сама не зная точно, холодный дождь тому виной или что-то другое. Возле ее уха Марко едва слышно шепчет какие-то слова, значения которых она не понимает. Потом звук дождя тает в ее ушах, а гладкая стена за спиной внезапно становится неровной. Темнота в глазах как будто постепенно рассеивается, и тогда Марко убирает руку.
Когда глаза немного привыкают к свету, первое, что видит Изобель, – это Марко: он по-прежнему стоит перед ней, однако что-то изменилось. На полях его котелка больше не собираются капли. Дождь кончился, все вокруг залито ярким солнечным светом. Но не это заставляет Изобель ахнуть.
Судорожный вздох вырывается у нее, когда она понимает, что стоит посреди леса, прижавшись спиной к огромному вековому стволу. Обнаженные деревья тянутся черными ветвями в бездонную синеву раскинувшегося над их головами неба. Земля припорошена снегом, и он играет на солнце яркими бликами. Это чудесный зимний день, и на многие мили вокруг не видно ни одного дома, лишь бесконечная череда деревьев на фоне искрящегося снега. Где-то рядом раздается птичья трель, другая вторит ей издалека.
Изобель ошеломлена. Ее щеки согревает солнце, пальцы касаются шершавой коры. Она чувствует, что снег холодный на ощупь, и внезапно обнаруживает, что ее платье уже не мокрое от дождя. Даже морозный воздух, наполняющий ее легкие, ничем не напоминает привычный лондонский смог – это чистейший деревенский воздух. Невероятно, однако это именно так.
– Невозможно, – выдыхает она, вновь оборачиваясь к Марко. Он с улыбкой смотрит на нее, и в его зеленых глазах яркими всполохами отражается зимнее солнце.
– Нет ничего невозможного, – говорит он, и Изобель заливается смехом – беззаботным и радостным, как у ребенка.
Тысячи вопросов роятся у нее в голове, но она не может толком сформулировать ни один из них. В памяти всплывает изображение карты Таро, Маг.
– Ты волшебник, – говорит она.
– Кажется, раньше меня никто так не называл, – отвечает Марко, и Изобель снова смеется. Она все еще продолжает смеяться, когда он наклоняется, чтобы ее поцеловать.
Над их головами кружится пара птиц, легкий ветерок колышет ветви деревьев.
Прохожие, в сгущающихся сумерках спешащие по одной из лондонских улиц, не обращают на них никакого внимания. Они – просто влюбленные, которые целуются под дождем.
Обманщики
Июль – ноябрь 1884 г.
Чародей Просперо расстается с большой сценой без каких-либо объяснений. Впрочем, в последние годы он так мало гастролировал, что его уход замечают немногие.
Чародей Просперо ушел на покой, но Гектор Боуэн не сидит на месте.
Он переезжает из одного города в другой с сеансами, на которых его шестнадцатилетняя дочь выступает в роли медиума.
– Папа, мне это противно, – часто жалуется Селия.
– Если ты можешь придумать лучший способ с пользой провести время, пока не начнется твое испытание, – и не смей говорить о чтении! – я готов тебя выслушать при условии, что этот способ будет приносить те же деньги, что и мой. Не говоря уже о том, что так ты получаешь бесценный опыт публичных выступлений.
– Эти люди просто несносны, – вздыхает Селия, хотя это не совсем то, что она имеет в виду. В их присутствии ей неловко. Из-за того, как они смотрят на нее – умоляющими, заплаканными глазами. Смотрят, как на вещь, как на ниточку, способную, пусть хотя бы ненадолго, соединить их с умершими близкими, по которым они безнадежно тоскуют.
Они говорят о ней так, словно ее нет рядом, словно она столь же бесплотна, как души их любимых. Ей приходится делать над собой усилие, чтобы не поморщиться, когда после сеанса они неизбежно бросаются ей на шею со словами благодарности, перемежающимися с рыданиями.
– Все они ничтожества, – говорит ее отец. – Им даже в голову не приходит задуматься о том, что они видят и слышат на самом деле, им проще слепо верить в общение с загробным миром. Зачем же отказываться от того, что само плывет в руки? Особенно учитывая то, с какой легкостью они готовы расстаться со своими деньгами в обмен на такую ерунду.
Селии кажется, что никакие деньги не стоят ее мучений, но Гектор непоколебим, и они продолжают путешествовать, демонстрируя клиентам поднимающиеся в воздух столы и заставляя их слышать таинственный стук по стенам, оклеенным обоями самых разнообразных расцветок.
Она не перестает удивляться, как неистово их клиенты жаждут общения с умершими. Сама она ни разу не испытала желания встретиться с покойной матерью. К тому же она не уверена, что, даже будь это возможно, мать вообще стала бы с ней разговаривать, да еще таким сомнительным способом.
Ей хочется сказать им: это все обман. Мертвые души не витают вокруг нас, не стучат по чашкам и столешницам и не шепчутся за колышущимися портьерами.
Иногда она разбивает какую-нибудь ценную вещицу и сваливает вину на беспокойных духов.
Они меняют город за городом, и отец придумывает для нее разные имена, но чаще всего называет ее Мирандой – видимо, зная, как она это ненавидит.
После нескольких месяцев таких гастролей она едва держится на ногах, изможденная переездами, постоянным напряжением и голодом. Отец почти не позволяет Селии есть, утверждая, что впалые щеки придают ей убедительности, создают иллюзию близости к загробному миру.
Лишь после того, как во время одного из сеансов она падает в самый настоящий обморок, он соглашается ненадолго вернуться домой в Нью-Йорк.
Как-то за чаем, укоризненно глядя, сколько масла и джема она намазывает на булочку, он сообщает, что договорился о сеансе в следующие выходные. Одна из безутешных городских вдовушек готова раскошелиться и заплатить вдвое больше обычного.
– Я сказал, что ты можешь отдохнуть, – заявляет он в ответ на ее отказ, даже не поднимая глаз от кипы газет, разложенных перед ним на столе. – У тебя было три дня, этого вполне достаточно. Ты отлично выглядишь. Со временем ты затмишь красотой собственную мать.
– Не знала, что ты помнишь, как выглядела моя мать, – огрызается Селия.
– А ты помнишь? – отец бросает на нее быстрый взгляд. Насупившись, она ничего не отвечает, и он продолжает:
– Возможно, я и провел в ее обществе лишь пару-тройку недель, но помню ее гораздо лучше тебя, а ведь ты провела с ней пять лет. Время – странная штука. В конце концов, ты тоже это поймешь.
Он снова утыкается в газету.
– А что насчет испытания, к которому ты меня якобы готовишь? – спрашивает Селия. – Или это просто один из твоих способов обогатиться?
– Селия, дорогая, – вздыхает Гектор. – В твоей жизни грядут значительные события, но когда они произойдут, зависит не от нас. Первый ход должен сделать противник. Нас известят, когда тебе придет пора вступать в игру.
– Тогда какая разница, чем я занята, пока время не пришло?
– Тебе нужно практиковаться.
Склонив голову набок, Селия кладет руки на стол и смотрит на отца. Газеты сами собой начинают складываться в причудливые фигуры: пирамиды, спирали, шуршащих крыльями бумажных голубей.
Отец отрывается от газет, он крайне раздражен. Подняв тяжелый пресс для бумаги, он с размаху опускает его на ее запястье. Слышен хруст ломающихся костей.
Газеты распрямляются и ложатся грудой на стол.
– Тебе нужно практиковаться, – повторяет он. – Твоя концентрация никуда не годится.
Не проронив ни слова, Селия выходит из комнаты, придерживая запястье и глотая слезы.
– И ради всего святого, прекрати реветь! – кричит отец ей вслед.
На то, чтобы вправить и срастить раздробленные кости, у нее уходит почти целый час.
Изобель сидит в обычно пустующем кресле в квартире Марко, безуспешно пытаясь заплести сложную косичку из дюжины шелковых лент, пестрой радугой струящихся между пальцами.
– Чушь какая-то, – бурчит она, с досадой глядя на спутанные ленты.
– Это простейшее волшебство, – отзывается Марко из-за стола, заваленного раскрытыми книгами. – Каждая лента символизирует что-то свое, и у каждого узелка есть смысл и цель. Вроде твоих карт, только те всего лишь раскрывают значение происходящего, а тут каждое переплетение воздействует на реальность. Но без веры у тебя ничего не получится, я же объяснял.
– Видимо, я не в том настроении, чтобы поверить, – говорит Изобель, распуская узелки, и кладет ленты на подлокотник. – Завтра я попробую еще разок.
– Тогда помоги мне, – просит Марко, поднимая голову от книг. – Подумай о чем-нибудь. О каком-то предмете. О важном для тебя предмете, про который я точно ничего не могу знать.
Изобель вздыхает, но послушно закрывает глаза и сосредоточивается.
– Это кольцо, – через мгновение говорит Марко, разглядев мысленный образ так же легко, как если бы она нарисовала его на бумаге. – Золотое кольцо с сапфиром и двумя бриллиантами по краям.
Глаза Изобель широко распахиваются.
– Как ты узнал? – спрашивает она.
Ухмыльнувшись, он уточняет:
– Это обручальное кольцо?
Прижав руку к губам, она изумленно кивает.
– Ты его продала, – продолжает Марко вытягивать из ее памяти обрывки воспоминаний, связанных с кольцом. – В Барселоне. Тебя выдавали замуж, ты сбежала из-под венца и поэтому оказалась в Лондоне. Почему ты мне не сказала?
– Это не самая удачная тема для беседы, – отвечает Изобель. – Между прочим, ты сам почти ничего о себе не говоришь. Может быть, ты тоже сбежал из-под венца.
Глядя на нее, Марко силится найти нужные слова, но Изобель внезапно разражается смехом.
– Наверняка он искал кольцо дольше, чем меня, – говорит она, смотря на свою руку. – Оно было чудесное. Мне ужасно не хотелось с ним расставаться, но денег совсем не осталось, а продать больше было нечего.
Марко уже собирается сказать, что она наверняка выручила за кольцо неплохую сумму, но тут раздается стук в дверь.
– Хозяин квартиры? – шепотом спрашивает Изобель, но Марко качает головой, прижав палец к губам.
Лишь один человек может без предупреждения постучать в его дверь.
Прежде чем открыть, Марко жестом велит Изобель спрятаться в кабинете.
Человек в сером костюме не переступает порога. Он ни разу не заходил в квартиру с того самого дня, как заставил ученика переехать сюда и начать самостоятельную жизнь.
– Ты должен поступить на работу к этому человеку, – сообщает он, не тратя времени на приветствие, и вынимает из кармана потрепанную визитку. – Видимо, тебе понадобится имя.
– Оно у меня уже есть, – говорит Марко.
Человек в сером костюме не спрашивает, что за имя он себе выбрал.
– Тебя ждут на собеседование завтра после обеда, – продолжает он. – В последнее время я вел с месье Лефевром ряд совместных проектов, что позволило дать тебе хорошую рекомендацию, однако ты должен будешь сделать все от тебя зависящее, чтобы получить это место.
– Это означает начало испытания? – спрашивает Марко.
– Пока это просто маневр, который позволит тебе занять более выигрышную позицию.
– А когда начнется само испытание? – Марко вновь задает вопрос, который задавал уже неоднократно, но ни разу не получал четкого ответа.
– Это прояснится со временем, – отвечает человек в сером костюме. – И когда оно начнется, тебе было бы полезно все свое внимание направить именно на него.
Указав взглядом на закрытую дверь кабинета, он добавляет:
– Ни на что не отвлекаясь.
Он поворачивается и уходит прочь, а Марко остается стоять у порога, вновь и вновь перечитывая имя на пожелтевшей визитке.
В конце концов Гектор Боуэн поддается на уговоры дочери остаться в Нью-Йорке, но у него есть на то свои причины.
Изредка напоминая ей о необходимости больше практиковаться, он почти не обращает на нее внимания, подолгу просиживая в одиночестве у себя в кабинете этажом выше.
Селию это устраивает, большую часть времени она проводит за чтением. Она тайком бегает в книжные магазины, дивясь, что отец не задается вопросом, откуда в доме появляются свежеотпечатанные тома.
Кроме того, она много тренируется, разбивая самые разнообразные вещи, чтобы потом воссоздать их в целости и сохранности. Заставляя книги птицами летать по комнате, она засекает, как долго они способны продержаться в воздухе, прежде чем ей придется сделать новое усилие.
Она довольно бойко управляется с тканями – магия позволяет ей изменять свои наряды, чтобы они хорошо сидели на ее округлившихся формах.
Ей приходится напоминать отцу, чтобы тот спустился и поел, но в последнее время он все чаще и чаще отказывается и почти не покидает кабинета.
Сегодня он даже не ответил на ее настойчивый стук в дверь. От раздражения, зная, что он заколдовал замки и даже его ключом ей не удастся их отпереть, она пинает дверь, и, к ее удивлению, дверь распахивается.
Отец стоит возле окна, напряженно разглядывая вытянутую вперед руку. Солнечный свет, проникая сквозь заиндевевшее стекло, играет на его рукаве.
Рука растворяется в воздухе, затем появляется вновь. Он выпрямляет пальцы и морщится, когда слышит хруст суставов. Любопытство побеждает раздражение, и Селия спрашивает:
– Папа, что ты делаешь?
Она никогда не видела, чтобы он делал что-то подобное – ни на сцене, ни во время их уроков.
– Ничего, о чем тебе следовало бы знать, – отвечает отец, опуская закатанный рукав рубашки.
Дверь с грохотом захлопывается у нее перед носом.
Мишень
Лондон, декабрь 1884 г.
На стене кабинета, в окружении высоких стеллажей и картин в золоченых рамах с виньетками, висит мишень для дротиков. Несмотря на яркие цвета, в сумраке она едва различима для глаз, однако при каждом броске клинок снова и снова попадает в цель. Почти в яблочко, прячущееся за приколотой к мишени газетной вырезкой.
Это театральная рецензия, аккуратно вырезанная из London Times. Отзыв хвалебный, даже, можно сказать, восторженный. Тем не менее сейчас его целенаправленно уничтожают, то и дело пронзая кинжалом с серебряной рукоятью. Острие клинка рассекает бумагу и утопает в пробковой основе мишени. Его извлекают лишь для того, чтобы сделать еще один бросок.
Запущенный уверенной рукой, кинжал в полете делает несколько оборотов, чтобы в конце концов острием поразить цель. Этим занят Чандреш Кристоф Лефевр, чье имя значится в вышеупомянутой заметке, отпечатанное четким типографским шрифтом.
Заняться метанием дротика господина Лефевра заставила та самая фраза, в которой упоминается его имя. Одна единственная фраза, и она гласит следующее:
«Месье Чандреш Кристоф Лефевр продолжает раздвигать границы возможного в современном театральном мире и поражать своих зрителей эффектами, кажущимися почти сверхъестественными».
Большинство театральных продюсеров были бы польщены подобной оценкой. Она заняла бы свое место в альбоме с прочими хвалебными отзывами, и на нее ссылались бы при случае.
Но этот продюсер не таков. Нет, месье Чандреш Кристоф Лефевр сосредоточился на предпоследнем слове. Почти. Почти.
Кинжал в очередной раз летит через комнату, проносится над украшенным резными подлокотниками креслом в бархатной обивке, пролетает в опасной близости от хрустального графина с бренди. Несколько плавных оборотов клинка и рукояти, и он вновь вонзается острием в мишень. На сей раз он протыкает истерзанный клочок бумаги между словами «поражать» и «зрителей», так что слово «своих» полностью исчезает из виду.
Чандреш подходит к мишени и уверенным движением выдергивает клинок. Он возвращается на прежнее место, в одной руке кинжал, в другой бокал бренди, разворачивается и делает очередной бросок, целясь в одно ненавистное слово. Почти.
Он что-то упустил, это ясно как божий день. Если его спектакли всего лишь почти сверхъестественные, в то время как до истинно сверхъестественного рукой подать, и оно ждет не дождется, чтобы его достигли, – стало быть, нужно что-то предпринять.
Эти мысли крутятся у него в голове с того самого момента, как рецензия оказалась на его столе, отчеркнутая и вырезанная заботливой рукой секретарши. Она сохранила несколько экземпляров заметки для истории где-то у себя, поскольку вырезки, попадающие Чандрешу на стол, часто встречают столь же безрадостный конец: он болезненно переживает каждое слово.
Чандреш дорожит восхищением зрителей. Настоящим восхищением, а не просто вежливыми аплодисментами. Подчас реакция зала для него важнее самого шоу. В конце концов, шоу без зрителей – это пшик. Именно в том, как публика откликается на происходящее, таится подлинная сила действа.
Ребенком его часто водили на балет, так что он практически вырос в театральной ложе. Поскольку усидчивость не входила в список его достоинств, танцевальные па быстро ему наскучили, и он решил, что куда интереснее смотреть не на сцену, а на зрителей. Он наблюдал, когда они улыбаются или вздрагивают, когда женщины вздыхают, а мужчины начинают клевать носом.
Поэтому неудивительно, что теперь, спустя многие годы, его интерес по-прежнему вызывает не столько представление само по себе, сколько публика. Хотя, чтобы публика пришла в наивысший восторг, представление должно быть поистине зрелищным.
И поскольку невозможно оценить реакцию каждого зрителя во время каждого его шоу (от захватывающих драматических спектаклей до экзотических танцев и нескольких проектов, в которых совмещено и то, и другое), он вынужден полагаться на рецензии.
Впрочем, уже давно не было рецензии, которая задела бы его за живое так, как эта. И уж точно за прошедшие несколько лет ни одна не вынудила его заняться метанием кинжала.
Клинок вновь поражает цель, на сей раз пронзая слово «театральный».
Чандреш отправляется за кинжалом, по пути потягивая бренди. Несколько секунд он разглядывает изодранную в клочья заметку, пытаясь разобрать слова. Потом громко зовет к себе Марко.
Звезды во тьме
Зажав билет в руке, вместе с нескончаемой чередой других зрителей ты входишь в цирк и ждешь начала представления, поглядывая на черно-белый циферблат, размеренно отщелкивающий секунды.
После кассы тебе предложен один-единственный путь – за тяжелую черно-белую портьеру. Один за другим люди проходят за нее и исчезают из виду.
Когда наступает твой черед, ты отодвигаешь рукой ткань, делаешь шаг и оказываешься в непроглядной тьме, как только портьера вновь падает у тебя за спиной.
Через несколько секунд глаза привыкают к темноте, и ты замечаешь, что вокруг тебя на стенах, словно звезды, начинают вспыхивать крошечные огоньки.
И хотя буквально мгновение назад толпа окружала тебя столь тесно, что ты мог дотронуться до любого посетителя цирка, теперь ты обнаруживаешь, что рядом нет ни души, и ты в одиночестве на ощупь пробираешься по темному лабиринту коридора.
Он петляет то в одну сторону, то в другую, и поскольку все освещение – это лишь тусклое мерцание крошечных огоньков, у тебя нет ни малейшего представления, насколько далеко ты продвинулся и в какую сторону идешь.
В конце концов ты вновь упираешься в портьеру. Мягкая бархатистая ткань послушно раздвигается, стоит твоим пальцам ее коснуться.
По другую сторону портьеры тебя ослепляет яркий свет.
Правда или расплата
Конкорд, Массачусетс, сентябрь 1897 г.
Они сидят на ветвях старого дуба, залитого лучами полуденного солнца, все пятеро. На самой верхней ветке – Каролина, потому что она всегда залезает выше всех. Прямо под ней угнездилась ее лучшая подруга Милли. Братья Маккензи, бросающие в белок желудями, примостились еще ниже, но все равно довольно высоко. Сам он всегда садится на нижние ветки. Не потому что боится высоты, а просто такова иерархия в их маленькой компании. Хорошо еще, что они вообще допустили его до игры. В этом смысле то, что он младший брат Каролины, одновременно и удача, и проклятие. Даже когда они изредка позволяют Бейли с ними поиграть, он должен знать свое место.
– Правда или расплата, – объявляет Каролина сверху. Когда ей никто не отвечает, она бросает желудь прямо в голову младшему брату.
– Правда. Или. Расплата. Бейли, – повторяет она.
Бейли, не снимая кепки, потирает голову. Возможно, брошенный желудь заставляет его решиться. Скажешь «правда» – и ты сдался на милость Каролине с ее издевательской фантазией. «Расплата» немногим лучше, но все-таки от него хоть что-то будет зависеть. Пусть он идет у нее на поводу, зато не выглядит трусом.
Да, он сделал правильный выбор. Когда Каролина задумывается, прежде чем ответить, он даже немного горд собой. Сестра сидит на ветке метрах в пяти над его головой. Она покачивает ногой, озирая распростертые вокруг поля, и придумывает для него расплату. Братья Маккензи продолжают издеваться над белками. Наконец лицо Каролины озаряет улыбка, и она откашливается, прежде чем объявить задание.
– Расплата Бейли, – провозглашает она.
То, что она загадала, поручается ему, только ему. Волна страха накатывает на него еще до того, как она сообщает, в чем именно состоит расплата. Театрально выдержав паузу, она объявляет:
– Бейли должен тайком проникнуть в Ночной Цирк.
Милли ахает. Братья Маккензи прекращают кидаться желудями и, запрокинув головы, глядят на нее. До белок им больше нет дела. Каролина сверху смотрит на Бейли, расплывшись в широченной улыбке.
– И принеси нам что-нибудь в доказательство, что ты был там, – продолжает она с нескрываемым триумфом в голосе.
Задание невыполнимое, и каждый из них это знает.
Бейли бросает взгляд на другой конец поля, где шатры цирка возвышаются, словно горы посреди долины. Днем цирк замирает: не сверкают огни, не играет музыка, не бродят толпы людей. Это просто горстка полосатых шатров, которые в полуденном солнце кажутся не черно-белыми, а скорее серо-желтыми. Цирк выглядит странно, даже капельку таинственно, но ничего такого в нем нет. По крайней мере, средь бела дня. Не так уж и страшно, проносится в голове у Бейли.
– Я согласен, – заявляет он. Спрыгнув со своей нижней ветки, он пускается в путь через поле, не дожидаясь реакции остальных и не желая, чтобы Каролина отменила его расплату. Она же наверняка ждала, что он откажется. Мимо его уха со свистом пролетает желудь, но больше ничего не происходит.
Бейли сам толком не понимает, что им движет, но он довольно решительно шагает в сторону цирка.
Все выглядит в точности так же, как в тот раз, когда он увидел цирк впервые. Ему еще не было шести.
Тогда цирк появился на этом же месте, и сейчас кажется, будто он никуда и не уезжал. Словно на протяжении пяти лет, пока поле пустовало, он просто был невидимым.
В прошлый раз его, почти шестилетку, в цирк не пустили. Родители посчитали его слишком маленьким для таких развлечений, так что ему осталось только зачарованно глазеть издалека на шатры и сверкающие огни.
Он надеялся, что цирк задержится до тех пор, пока он не подрастет, но спустя две недели шатры пропали без предупреждения, оставив в сердце слишком маленького Бейли незаживающую рану.
И вот цирк снова здесь.
Он появился всего пару дней тому назад, и все разговоры только об этом. Пройди с момента его появления больше времени, и Каролина наверняка придумала бы другое задание, но появление цирка – главное событие последних дней, а Каролина любит, чтобы ее задания были, как говорится, на злобу дня.
Первое настоящее знакомство Бейли с цирком произошло накануне вечером.
Ничего подобного ему раньше видеть не приходилось. Иллюминация, костюмы – все было другим. Как будто он каким-то чудом вырвался из повседневной жизни и попал в совершенно иной мир.
Он думал, что его ждет представление. Что он сядет в кресло и будет смотреть.
Он сразу понял, что ошибся.
Цирк – это нечто, что нужно исследовать.
И он исследовал все, что только можно, хотя совершенно не был к этому готов. Он не знал, какой из множества шатров ему выбрать, его глаза разбегались от калейдоскопа вывесок, рассказывающих о том, что ждет внутри. И за каждым изгибом черно-белой тропинки его взору открывались новые шатры, новые вывески, новые тайны.
Он наткнулся на шатер, где выступали акробаты, и долго смотрел, запрокинув голову, как они крутят сальто и тулупы, пока не заболела шея. Он побродил по шатру, уставленному зеркалами, из которых на него широко распахнутыми глазами из-под серой кепки таращились сотни и тысячи его отражений.
Даже угощение было невероятным. Яблоки в такой темной карамели, что снаружи казались почти черными, оставаясь при этом внутри свежими и хрустящими. Шоколадные летучие мыши с тонкими до невозможности крыльями. Самый вкусный сидр из тех, что Бейли когда-либо доводилось пробовать.
Там все было волшебным. Волшебным и бесконечным. Ни одна дорожка не приводила в тупик, они извивались, сливались с другими или же поворачивали обратно к главной площади.
Впоследствии у него не нашлось слов, чтобы описать увиденное. Он смог лишь кивнуть, когда мама спросила, понравилось ли ему.
Они ушли раньше, чем ему хотелось. Бейли был готов остаться на всю ночь, если бы родители разрешили; там еще оставалось так много необследованных шатров.
Но всего через несколько часов его увели и отправили домой спать, подкупив обещанием вернуться в следующие выходные, хотя его безмерно тревожили воспоминания о неожиданном исчезновении цирка в прошлый раз. Стоило ему выйти за ворота, как в груди защемило от желания пойти обратно.
Теперь Бейли гадает, не эта ли жажда поскорее вновь оказаться в цирке отчасти заставила его принять вызов.
Около десяти минут у него уходит на то, чтобы пересечь поле, и с каждым шагом, приближающим его к цели, шатры становятся все больше и таинственнее, а его решимость тает.
Он уже начинает раздумывать, что бы такое принести в качестве доказательства, не заходя внутрь, когда наконец оказывается перед воротами.
Ворота высокие, примерно втрое выше его роста. Буквы Le Cirque des Rves наверху почти неразличимы при свете дня, хотя каждая размером с большую тыкву. Металлические вензеля, которыми украшены буквы, напоминают ему тыквенную лозу. Ворота заперты на висячий замок необычной конструкции. Изящная надпись на табличке гласит: «Открываемся после заката, закрываемся на рассвете». А чуть ниже, обычным шрифтом: «Несанкционированное проникновение карается гильотиной».
Бейли не знает, что значит «гильотина», но ему совсем не нравится, как звучит это слово. При дневном свете цирк кажется странным. Тут слишком тихо. Не слышно ни музыки, ни других звуков. Только пение птиц и шелест листьев обступившего поле леса. Кажется, что внутри нет ни души, словно все исчезли, оставив его здесь. Зато запах тот же, что и ночью, только слабее: карамели, попкорна и дыма от факела.
Обернувшись, Бейли бросает взгляд через поле. Остальные все еще сидят на дереве, хотя издалека их фигурки кажутся совсем крошечными. Несомненно, они наблюдают за ним, поэтому он решает обойти вокруг ограды. Он уже совсем не уверен, что по-прежнему хочет попасть внутрь, но, если он все же решится, ему не нужны свидетели.
Большая часть ограды за воротами вплотную примыкает к шатрам, так что пролезть негде. Бейли продолжает обходить цирк вокруг.
Через несколько минут, когда дуб скрывается из виду, он доходит до части ограды, рядом с которой виден небольшой проход между шатрами, крошечная аллейка, огибающая один из них и уводящая за угол. Отличное место, чтобы попытаться проникнуть внутрь.
Внезапно Бейли понимает, что он и впрямь хочет войти. Его толкает не только брошенный ему вызов, но и собственное любопытство. Отчаянное, жгучее любопытство. Кроме желания доказать что-то Каролине и ее шайке, кроме его любопытства, его влечет стремление вернуться в цирк.
Железные прутья толстые и гладкие, и Бейли даже не нужно пробовать, чтобы понять, что вскарабкаться по ним не получится. Во-первых, резные завитушки, на которые можно поставить ногу, заканчиваются на высоте метров полутора, а во-вторых, на самом верху выполненные в форме копий прутья ограды заворачиваются наружу. Не то чтобы они выглядели как-то особенно устрашающе, но напороться на них будет не слишком приятно.
Впрочем, ограда явно не была рассчитана на то, чтобы не дать проходу маленьким десятилетним мальчикам: прутья, пусть и весьма прочные, отстоят друг от друга сантиметров на тридцать. Бейли, с его тщедушной комплекцией, мог бы протиснуться между ними без особого труда.
Он замирает в нерешительности лишь на мгновение, понимая, что, если хотя бы не попытается, никогда себе не простит, – и плевать, что ему за это будет.
Он думал, что, оказавшись внутри, сразу почувствует себя в ином мире, как это было ночью. Однако, протиснувшись через решетку и очутившись в проходе между шатрами, он ощущает себя точно так же, как ощущал снаружи. Если волшебство и при дневном свете все еще царит в цирке, то он этого волшебства не чувствует.
Кажется, в цирке нет ни души: ни работников, ни артистов.
Внутри все тихо, Бейли даже перестает слышать пение птиц. Листья, шуршавшие у него под ногами по ту сторону ограды, остались снаружи, хотя расстояние между прутьями вполне позволяет легкому ветерку перенести их внутрь.
Бейли недоумевает, в какую сторону податься и что можно принести в доказательство, что он выполнил задание. Взять здесь нечего – вокруг только голая земля и полосатые стены шатров. Днем они неожиданно оказываются довольно старыми и потертыми, и Бейли гадает, как долго уже цирк колесит по свету и куда он отправится после этих гастролей. Ему кажется, что цирк должен путешествовать на поезде, но на ближайшей станции никаких цирковых поездов не появлялось и, насколько ему известно, никто вообще никогда его не видел – ни прибывающим, ни отъезжающим.
Дойдя до конца аллеи, Бейли сворачивает направо и оказывается перед чередой шатров; возле входа в каждый имеется вывеска, рассказывающая о том, что ждет посетителя внутри. «Полет фантазии», – гласит одна из них, а другая: «Воздушные загадки». Мимо вывески «Страшные чудовища и неведомые звери» Бейли крадется, затаив дыхание, но изнутри не доносится ни звука. Ему по-прежнему не встречается ничего, что он мог бы забрать с собой, поскольку красть вывеску ему не хочется, а помимо этого на глаза попадаются только обрывки бумаги и раздавленные хлопья попкорна.
В лучах вечернего солнца на высохшую землю ложатся длинные тени от шатров. Дорожки то ли выкрашены, то ли присыпаны белым песком в одних местах и черным в других. После того как по ним прошли сотни пар ног, земля буквально вспахана, и наружу проглядывает ее обычный коричневый цвет. Видимо, им приходится подкрашивать ее каждую ночь, думает Бейли, сворачивая за угол, и, поскольку его взгляд по-прежнему устремлен на дорожку под ногами, чуть не сталкивается с девочкой.
Она стоит в проходе между шатрами – просто стоит, как будто ждет его. На вид она примерно его ровесница; то, что на ней надето, может быть только сценическим костюмом, ибо обычным этот наряд точно не назовешь. Белые сапожки с множеством застежек, белые чулки и белое платье, сшитое из самых разнообразных лоскутков: кусочков кружева, шелка и ситца. Поверх платья накинут короткий белый пиджак военного покроя, на руках – белые перчатки. Вся она, от шеи до кончиков пальцев, одета в белое, и от этого ее огненно-рыжие волосы пылают еще ярче.
– Тебя не должно здесь быть, – тихо говорит рыжеволосая девочка.
В ее голосе не слышно не то что упрека, даже удивления. Бейли какое-то время просто таращится на нее, не в силах вымолвить ни слова.
– Я… ну… я знаю, – выдавливает он наконец, и ему кажется, что сложно было сказать что-либо глупее, но девочка никак не реагирует и просто смотрит на него.
– Простите, что? – продолжает он, и это звучит еще глупее.
– Пожалуй, тебе стоит уйти, пока ты не попался на глаза кому-нибудь другому, – говорит девочка, оглядываясь назад, но Бейли не знает, что она думала там увидеть. – Как ты вошел?
– Там, через… э-э-э… – Бейли крутит головой во все стороны, но не может понять, каким путем он пришел сюда: дорожка делает изгиб, и ему не видно ни одной вывески, мимо которых он проходил.
– Я точно не помню, – признается он.
– Ничего страшного, идем со мной.
Ее пальцы в белой перчатке обхватывают его руку, и девочка тянет Бейли за собой в один из проходов. Они молча идут мимо шатров, но, дойдя до угла, она останавливается, и с минуту они стоят, не двигаясь. Когда он открывает было рот, чтобы спросить, чего они ждут, она только прижимает палец к губам, призывая его не шуметь, а спустя несколько секунд они продолжают путь.
– Ты можешь пролезть через решетку? – спрашивает девочка, и Бейли утвердительно кивает.
Возле одного из шатров она резко сворачивает в узкий проход, которого Бейли сперва даже не заметил, и они неожиданно оказываются прямо перед решеткой, за которой простирается поле.
– Можешь выбраться здесь, – говорит девочка. – Все будет в порядке.
Она помогает Бели протиснуться между прутьями, в этой части решетки расположенными несколько теснее. Оказавшись по ту сторону, он оборачивается к ней.
– Спасибо, – говорит он, ему в голову не приходит ничего другого.
– Пожалуйста, – отвечает девочка. – Но тебе следует быть осторожнее. Сюда нельзя входить днем, это считается несанкционированным проникновением.