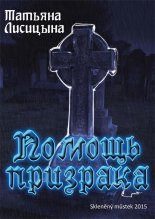Волхв Фаулз Джон
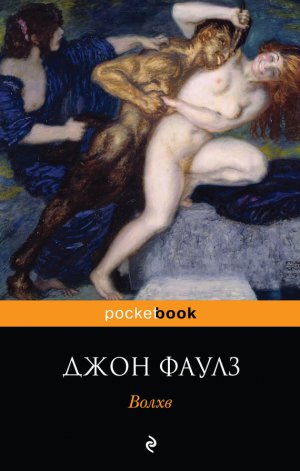
Кто бы ни был этот человек, хазарский или византийский лазутчик, или же один из воинских начальников, задумавший захватить власть в городе, он был очень опасен, и особенно силой своего внушения, которую Мстислав уже испытал на себе, будучи обездвижен.
Надо было найти этого неизвестного, пока он не натворил в замке бед. И более всего князя пугала неизвестность. Он знал, что нужно хазарским и ромейским соглядаям, знал, что от них ждать и что им надо, но от неизвестного можно было ждать буквально всего.
– Сейчас же дополнительную стражу в терем, – проговорил он сам себе вслух, – по всем переходам расставить. Обязательно гада изловим.
Ему почему-то казалось, что неизвестный не все успел прочитать из священной книги и непременно попытается еще раз получить к ней доступ. А значит, надо быть к этому готовым и перехватить его или, по крайней мере, узнать, кто это. Но поиски незнакомца можно было начать прямо сейчас и с самого простого – узнать у воинов, кто последним пришел.
С этими мыслями князь подошел к гриднице, остановился на секунду, чтобы стереть с лица выражение растерянности и тяжких дум и вместо этого изобразить безмятежное довольствие жизнью и беспечное веселье.
Глава 12
Карамея
Отпустив красного от смущения отрока назад к своему учителю, Карамея все же взяла с него обещание, что когда он выполнит свой зарок сопроводить волхва до священного места, то непременно вернется к ней. Зачем ей это было нужно, она и сама еще не знала. Но что-то шевельнулось в душе гордой и своенравной красавицы, когда она смотрела в широко раскрытые глаза юноши, полные необыкновенного сияния той самой первой любви, которая бывает только в юности.
Но если не брать в расчет, что боярыня и безвестный отрок не могли иметь ничего общего, то ученик волхва, конечно же, вполне заслуживал внимания молодой женщины. Ведь Радим имел очень достойный и привлекательный вид, поскольку его наряд, как послушника, постигающего учение Светлых Богов, являл собой великолепное зрелище. Белая одежда, покрытая вышитыми узорами красных и синих свастик и знаками рун, была прежде укрыта от посторонних взглядов возможных врагов длинным серым плащом из грубой ткани, который во время битвы с монахами распахнулся сам собой и был теперь откинут за плечи. Кроме того, юноша был высок ростом, и его широко раскрытые ясные глаза сияли на лице, отличавшемся правильными чертами, которое вполне можно было назвать красивым, если бы не след робкой юношеской неуверенности, придававшей ему легкий оттенок скрытого недостатка.
И все же Карамея, восседая на великолепном белом скакуне, который нес свою драгоценную ношу обратно за стены детинца, к боярскому терему, только теперь поняла, что не знает, зачем позвала Радима, зачем спросила его имя и что она потом будет делать с ним. Молодая боярыня настолько погрузилась в эти странные раздумья, что позабыла убрать лук и ехала, держа его перед собой на седле, словно собиралась выстрелить еще раз.
Очнулась она только тогда, когда стражник у ворот детинца, улыбаясь в вислые седые усы, прогудел зычным голосом:
– Никак, с охоты, боярыня?
– С охоты? – встрепенулась Карамея. – Ах да, с охоты!
Она чуть привстала в стременах, убирая лук в кожаное налучье, украшенное бисером и серебряными бляшками, мерцающими, как капли металлической росы. В тот же момент по лицу ее пробежала тень, и брови ее изогнулись, изображая гнев.
– Рацлав! – крикнула боярыня, останавливая лошадь и оборачиваясь к следовавшим за ней гридям. – Стрелу!
Ехавший позади всех старый воин пришпорил своего коня и вмиг догнал свою госпожу. Его суровое лицо, наискосок перечеркнутое шрамом, обратившись к боярыне, на несколько секунд застыло, словно окаменев, уставившись в глаза женщины таким же немигающим застывшим взглядом, от которого у иного человека пробежал бы холодок. Но Карамея ничуть не смутилась, а, протянув навстречу ему властную, не по-женски крепкую руку, еще раз произнесла:
– Стрелу!
Воин чуть склонил голову в легком поклоне и протянул окровавленную стрелу. Боярыня выхватила ее и, подняв высоко над головой, подъехала к правой створке ворот. Здесь она остановилась и оглянулась вокруг, скользнув горящими глазами по лицу каждого из присутствующих здесь людей, словно приглашая всех, кто был рядом и поймал ее взгляд, принять участие в том, что должно здесь свершиться.
– Муж мой! – вдруг воскликнула она сильным звенящим голосом. – Посмотри из священного Ирия, обрати свой взгляд на землю! Я, Карамея, жена твоя, отомстила за твою смерть. Я сразила одного из твоих убийц. Вот его кровь на этой стреле!
Она с силой воткнула стрелу в дубовую створку ворот и, повернувшись к городу лицом, простерла правую руку с окровавленными пальцами в сторону видневшегося в конце улицы креста:
– Возрадуйтесь Мста и Карна, возрадуйтесь, Светлые Боги, возрадуйтесь, души предков, ибо есть еще Правь на земле, и за каждую смерть сына Светлых Богов сполна будет заплачено кровью!
И знайте, – она погрозила кулаком кресту, – я не отступлюсь, пока не уничтожу вас всех!
Высказав все, что давно наболело на душе, боярыня повернулась и медленно поехала прочь. Она уже миновала надвратную башню, когда страж, словно очнувшись от наваждения, закричал:
– Карамея, Карамея, а что князь скажет, когда увидит твою стрелу на воротах? Может, и не говорить ему, что это твоя стрела?
Молодая воительница остановилась вполоборота и бросила небрежно:
– Нет, скажи, пусть все знают, что Карамея свершила месть, а снимать стрелу захочет только глупец, который не боится Карны и Мсты.
После этих слов она пустила коня вскачь, словно бесповоротно отсекая свершенное и отдавая судьбу свою новой воле богов.
Вихрем промчавшись по узкой улице детинца, она осадила коня перед самым крыльцом красивого терема. Тотчас выбежали два холопа, один из них быстро подхватил коня под узду, а другой низко согнулся, подставляя свою спину под ножку боярыни, чтоб ей удобней было сойти на землю. Карамея птицей слетела с коня, вмиг взбежала по ступеням и, стремительно переступив порог, почти тут же миновала сенцы и, лишь войдя в светлицу терема, остановилась. Только теперь она ощутила, как кровь бешено стучит в висках, как огонь закипает в груди ее, заставляя трепетать женское сердце.
Она прикоснулась тонкими пальцами к вискам, словно пытаясь унять таким образом бьющую в них кровь. Застыв на какое-то время в такой позе с полузакрытыми глазами, боярыня, наконец, пошла мелким и степенным шагом, который говорил о том, что она почти успокоилась. Почти, потому что глаза ее горели по-прежнему, а лихорадочный румянец на щеках, казалось, жег ее изнутри.
Так она дошла до оконца, открытого во внутренний дворик, образованный окружавшими терем хозяйственными постройками. Там под присмотром дворовой девки играл с деревянной лошадкой мальчонка, одетый в чистую белую рубашку, украшенную вышивкой по рукавам, вороту и подолу. На шее ребенка тускло поблескивала витая серебряная гривна.
Только узрев дитя, женщина, наконец, изменилась лицом. Легкая улыбка скользнула по ее тонким губам, сделав ее еще более прекрасной. Она было хотела позвать ребенка, но потом передумала и просто любовалась им издалека, словно боялась вторгаться в маленький мирок беззаботного детского счастья. Но мальчонка, бегая вокруг своей няньки по кругу, сам заметил ее и бросился к окну с криками:
– Матушка, матушка, посмотри, как я научился скакать на лошадке!
Ребенок подбежал к окну совсем близко, и женщина нагнулась к нему, протягивая навстречу руки, как вдруг отпрянула, словно пораженная громом. С лица ее сына на нее смотрели в точности такие же глаза, как глаза отрока, которого она совсем недавно спасла от смерти.
– Не может быть! – вскрикнула она, вскакивая с резной лавки, на которой сидела перед окном. – Светлые Боги, этого не может быть!
Она заметалась по светлице, не зная, что и подумать, как объяснить для себя столь явное и разительное сходство. И вдруг ее поразила одна мысль, которая явилась в ее возбужденное сознание неизвестно откуда и которая настолько ее ошеломила, что она остановилась, сложив руки перед собой, словно собираясь молиться. Только теперь она поняла, что ее заставило позвать к себе отрока, ведь сын ее был необычайно похож на своего отца и ее погибшего мужа, и оттого глаза отрока имели сходство скорее с его глазами. «Конечно же, – подумала она, – это были глаза, которыми семь лет тому назад смотрел на нее ее любимый, ее славный боярин Володарь».
Карамея скрестила руки на груди, словно пытаясь удержать в ней сошедшее с ума сердце. Теперь она понимала, для чего появился этот отрок. Без сомнения, это была земная тень ее погибшего мужа, которая помогла ей свершить задуманную месть. Ведь она так долго мечтала об этой мести, но убить даже одного монаха было невозможно, ибо этих людей охраняла могучая сила церкви, и они были над законом и вне закона. Они могли убить кого угодно, но никто даже и не смел подумать о том, чтобы сразиться с ними. И тут такая удача – она убила монаха на глазах у всех, защищая юношу, а значит, ни церковь, ни город не смогут предъявить ей даже виры.
Конечно же, решила Карамея, в образе этого юноши к ней явилась душа любимого супруга, которого она оплакивала столько лет, по которому она безутешно горевала, взывая к Карне и Желе. И вот Светлые Боги услышали ее голос и помогли ей свершить эту столь желанную месть, чтобы душа ее могла утешиться. Она еще раз припомнила глаза отрока, поразившись тому, как на совершенно другом, непохожем на ее мужа, лице могли быть эти до боли знакомые и любимые очи с тем же неповторимым выражением любви и сияния чистого света.
Осознав все это, боярыня немного успокоилась и вновь села на лавку у окна. Невольно она предалась воспоминаниям того счастья, когда боярин Володарь был жив и, держа ее за руки, смотрел ей прямо в очи. Сердце невольно захолонуло, затрепетало в сладостной истоме, словно ее муж стоял рядом, за ее спиной, и протягивал руки, чтобы обнять ее плечи. На какой-то момент ей даже показалось, что она чувствует тепло этих рук, и она вся напряглась, выпрямляя спину и оборачиваясь, чтобы встретить губами любимые губы, но вокруг по-прежнему была пустота, и только ветерок из окна разметал по плечам легкую ткань ее двурогой кики.
Карамея вздохнула и хотела вновь повернуться к окну, но слезы брызнули из ее глаз, заставив ее торопливо прикрыть лицо ладонью. Никто не должен был видеть, как боярыня страдает, никто не должен был знать, как ей плохо, только властное лицо непреклонной воли должно быть доступно ее слугам. Она задержала дыхание, чтобы не всхлипнуть и не разрыдаться, и вовремя, потому что в следующую секунду скрипнула дверь и в светлице появилась здоровенного роста девица. Она потопталась на месте, видимо чувствуя, что пришла не ко времени, но потом лицо ее приобрело упрямый и непреклонный вид, и она молвила зычным голосом:
– Боярыня, тут эта… нить золотая кончилась, которой вы велели вашу свиту в узоры расшить.
Видя, что госпожа никак не отвечает и словно не слышит ее, девка еще раз переступила с ноги на ногу, и вид ее стал еще более упрямым, а левая бровь сабелькой изогнулась вверх.
– Так послать к ромейским купцам за нитью, что ли… – скривив губы, прогнусавила она противным голосом. Видимо, хорошо зная, что именно такие интонации возымеют на ее госпожу должное действие.
И она не ошиблась.
– Дарина, прекрати сейчас же! – вскричала Карамея, отрывая от лица ладонь.
– Я-то что, – вновь загнусавила девка, – а вот златошвеи жалуются, что заказов у них полно, а они сидят тут у нас без дела.
– Нельзя сейчас идти к купцам ромейским, – вздохнула боярыня, – а если жалуются, то пусть идут себе со двора, насильно держать их не стану.
– А че ж к купцам-то нельзя? – не унималась Дарина, сменив гнусавые интонации на обычный голос.
– Да монаха я ихнего подстрелила, – коротко и нервно хохотнув, отвечала Карамея.
– Ой, боярыня, душенька моя! – чуть не подпрыгнув на месте, вскричала Дарина, сжав кулаки совсем не женского размера и быстро быстро постучав ими друг о друга, – какая ж вы молодец!
Как же, как же вы на такое решились? – Она проскочила светлицу в два огромных прыжка и, очутившись рядом со своей госпожой, сжала ее ладонь в своих огромных ладонях.
Боже ты мой! Что же теперь будет? – Она упала на колени перед Карамеей, заглядывая ей в глаза снизу вверх. – Они же убьют вас непременно. Я же их знаю – это страшные люди.
– Не убьют, – боярыня, чуть улыбнувшись, погладила служанку свободной рукой по голове, – ничего мне не сделают, потому что я его на защите убила при всех.
– Ой, все равно страшно, – не унималась Дарина, – это ж ужасные негодяи, им что защита, что не защита. Они такие мстительные, и поп их страшный такой, все время на меня глаза пялит.
– Ничего не бойся, – усмехнулась Карамея, – ты помнишь, как мы с тобой на Купалу березку защищали. Так вот, так же встанем с тобой, взявшись за руки, и никого не пропустим в терем, а гриди наши помогут нам.
Сказав эти слова, молодая женщина мечтательно улыбнулась, и глаза ее чуть затуманились воспоминанием прошлого. Она все еще смотрела на свою служанку, но словно не видела ее, или видела, но совсем в другое время и в другом месте. Несколько секунд она сидела так молча, не замечая преданного взгляда ее верной девицы, но потом словно тень пробежала по ее лицу, стирая с него и улыбку, и сияние глаз, и она, горестно вздохнув, отвернулась к окну.
Однако для Дарины слова ее госпожи не прошли даром. Плечи ее только что согнутые, словно пришибленные страхом, вдруг распрямились, глаза полыхнули голубоватым огнем, и она – уже больше не замечая происходящих с ее госпожой перемен, произнесла мечтательно:
– Да, какая Купала была! Ай да какая Купала!
<>Она отпустила ладонь госпожи и, подняв вверх свои по-мужски крупные руки, воскликнула нараспев:
– Слава Купале! Слава русским Богам! Гой Купала!
Дарина с сияющими глазами, снова крепко сжав ладонь госпожи в своих ладонях, залепетала громким горячим шепотом:
– Помните, помните, как волхв тогда сказывал – кто не выйдет на Купалу, тот пень-колода, а кто выйдет на Купалу, тот клен-береза! А мы с вами, боярыня, вышли!
Она повела плечами и так задорно тряхнула головой, что толстая русая коса с вплетенной в нее красной лентой, висевшая у нее за спиной, перелетела вперед, описав в воздухе длинную золотисто-красную дугу, похожую на мелькнувший солнечный блик.
– А про березку я-то все помню. Я-то думала, что вы не помните.
– Еще бы не помнить, – усмехнулась Карамея, – ты же тогда всех парней пораскидала и моего жениха чуть не прибила.
– Да уж, – смутилась девка, покраснев, – маленько я тогда разошлась.
– Да не маленько, – сквозь невольный смех отвечала боярыня, – мужики-то, как горох, от тебя во все стороны сыпались. Им бы и не видать березки на тот год, кабы не мой молодец.
– Ой, да уж какой хитрый был! – Дарина мечтательно покачала головой. – Это ж надо такое удумать – связанные пояса мне под ноги кинуть. Я-то, дура, о таком злодействе и думать не могла, хожу себе похаживаю вокруг березки-то нашей, кулак им, значит, показываю, чтоб они дурного ничего не удумали. А они как дернут за пояса, тут и с ног меня долой.
– Глупая ты, – чуть вздрагивая от легкого смеха, проговорила Карамея, – ведь это же забава шутейная, чтоб молодцев потешить да и самим девам потешиться, а ты как взаправду с ними биться стала. Так мужики потом чуть было не разобиделись, говорят, нельзя богатырку Дарину на Купалу звать, мы из-за нее без баб останемся.
– Это как без баб? – нахмурилась служанка.
– Как, как, – рассмеялась боярыня, – что ж ты слов-то волхва не помнишь, что березка есть образ девичьей чести. И пока молодцы ее не добудут и в реке ее не утопят, нельзя им к девам подходить, никак нельзя.
– А как же тогда ваш боярин целовать вас стал до сроку?
– Так мы же с ним случайно поцеловались, – Карамея тихонько вздохнула с грустной улыбкой на устах, – как ты упала, так он к березке кинулся, а я, значит, дорогу ему преградила; вот мы и столкнулись, да так столкнулись, что прямо губы к губам. Так вот и вышел первый наш поцелуй.
– Ах, как же это лепо и дивно вышло, – помолчав, задумчиво произнесла Дарина, – видать, сама Лада держала вас за руки.
– Да и все тогда лепо было! – наконец, совсем перестав хмуриться, воскликнула она и, мечтательно улыбаясь, словно это ей тогда достался поцелуй молодого красавца-боярина, посмотрела на свою госпожу.
– Уж как разрядятся девки в венки купальские, – продолжала она, – краше и не бывает! А как вспомню голос красавицы Клены на купальской песне, так сердце все захолонет… словно мотыльком в груди бьется.
– Мотыльком в груди? – Карамея удивленно посмотрела на служанку.
Ей и в голову не приходило, что эта здоровенная, немного грубоватая девка, с которой не мог сладить ни один парень, способна произносить такие нежные речи, и, глядя на ее крупное и сильное тело, никак не могла вообразить, что там, внутри, у нее бьется мотылек. «Бык, наверное, бешенный скачет», – подумала она про себя с усмешкой.
Меж тем Дарина, все более распаляясь, развела руки в стороны с раскрытыми, как два маленьких солнца, ладонями:
– А как горел огромный костер купальский, как, взявшись за руки, девы и отроки прыгали через огонь…
– Да, и я тогда со своим боярином прыгнула, – грустно вздохнула Карамея, – чтобы Батюшка-Огонь Сварожич очистил наши души и огненной силой своей соединил наши сердца.
– И он соединил, – простодушно откликнулась служанка, – ведь такая у вас любовь была…
– Именно что была, – голос Карамеи дрогнул, – на дне могилы, во сырой земле теперь моя любовь…
Слезы сами собой брызнули из ее глаз, и она резко отвернулась к окну, прикрыв лицо рукой.
– Да, боярыня вы моя, – торопливо затараторила Дарина, – горе это горькое, горше и не бывает. Но вспомните, вспомните, как волхв сказывал.
– Что там сказывал… – переведя дыхание и еле сдерживая новые слезы, отвечала боярыня.
– Сказывал, как скатится купальское огненное колесо с горы, так Отец-Огонь соединится с Матерью-Водой, чтоб родилась новая жизнь, чтобы вечно вращалось Коло Сварога, чтоб рождались новые дети, чтоб никогда не переводился род русский…
– Да, сказывал, – подтвердила Карамея.
– Ну, так вот, – обрадовалась Дарина, – у вас же сынок все равно что ваш боярин снова с вами.
– Да знаю, – согласилась боярыня, – лицом весь в отца, особенно глаза. Но все равно иногда так тяжко и горько бывает, – она вздохнула, – что нет моего милого со мной и никогда уже не будет.
– Тут уж ничего не поделаешь, – тупо согласилась служанка, – прошлого не вернешь.
– Да, не вернешь, – откликнулась Карамея, побледнев лицом и сжимая губы, – а какое было счастье, как все было красиво и весело, пока не пришли эти христиане со своими порядками, пока их монахи не убили нашего боярина.
– Ладно, – немного помолчав, скучным голосом сказала Дарина, которая по причине душевной простоты не умела и не хотела долго предаваться сочувствию чужому горю, – пойду златошвей порадую, а то они, поди, все задницы свои извертели.
Она встала с колен и тяжкими шагами пересекла светлицу, бормоча себе под нос какие-то непонятные слова.
Карамея вновь осталась одна, предоставленная собственным думам и воспоминаниям. Как она в тот роковой день отговаривала своего Володаря идти на последнюю в их жизни Купалу! Но он таки уболтал ее, переупрямил, напоминая их первую ночь любви, когда под ярким светом купальских звезд они упали в росистые травы, как целовал ее и миловал до самой зари, как сплели они два своих венка и, взявшись за руки, пустили их в реку с маленькой огницей, которую дала им купальская дева-жрица.
«Самые лучшие дети зачинаются на купальскую ночь, – говорил он тогда, – посмотри, какой у нас красивый сынок растет. Так роди же мне и красавицу дочку, пошли на Купалу, зачнем дитя, как тогда».
И она не выдержала, глядя в его синие глаза, поддалась на его уговоры сладкие, как мед, хотя сердце-вещун ныло и болело, чуя беду.
Снова и снова в который раз она припоминала все подробности той страшной ночи, пытаясь найти ответ на один мучительный вопрос – можно ли было как-то спасти ее любимого, все ли она сделала, чтобы отвести беду? Вот перед ее мысленным взором всплывают люди в белых расшитых рубахах, которые веселятся и водят хоровод вокруг огромного купальского костра, вот и она красивая и веселая, взяв за руку своего милого, идет вслед за всеми, подпевая красавице Клене. Вот волхв взывает к Купале и всем Светлым Богам и приносит требы, кидая в огонь хлеб и выливая мед. Вот сейчас должно свершиться великое чудо и покатится огненное колесо с горы. Но тут раздается страшный крик, и со всех сторон из темноты появляются люди, одетые в черное. В руках у них дубины и колья, а за ними видны монахи с огромными крестами в руках.
И эти черные люди начинают избивать всех подряд без разбору: и детей, и женщин, и мужиков. Крик, стоны, проклятия слышны со всех сторон. Кто-то бросается к реке, чтобы спастись от страшных людей в черном, кто-то пытается драться с ними, но она вдруг понимает со всей ясностью, что главная цель этих страшных людей – убить их волхва. И это так же ясно понимает ее Володарь. Они смотрят друг другу в глаза, какие-то доли секунды, и она уже знает, что он будет делать.
– За реку! – кричит он. – Скорей! Дарина, спасай госпожу!
Она еще хочет остановить его и хватается пальцами своей руки за ускользающую его руку, но тщетно. Она только успевает увидеть, как ее боярин, схватив факел, отбивает натиск черных людей, прикрывая собою волхва. Тут сильные руки Дарины подхватывают ее и тащат прочь от страшного места. На пути у них встает человек в черном с дубиной, поднятой вверх для удара, но служанка так быстро и с такой яростью бьет его кулаком в лицо, что тот падает навзничь как подкошенный.
В этот момент они останавливаются на доли секунды. Дарина одной рукой подхватывает дубину упавшего, продолжая цепко держать ее другой рукой, а она оборачивается, чтобы в последний раз увидеть своего любимого живым и невредимым.
Она видит, как молодой красавец-боярин, размахивая факелом, отогнал черных людей, и сердце ее переполняется радостью и гордостью. И она уже хочет повернуться и идти за реку, как сказал он, но в последний миг замечает, что к нему со всех сторон бегут монахи с огромными черными крестами. Их становится все больше и больше, и кажется, сама тьма рождает этих страшных людей, чтобы разрушить мир Светлых Богов, ее мир.
– Володарь! – кричит она что есть силы, видя, как над ним взлетает целый лес черных крестов.
Тут Дарина дергает ее за руку и тащит со всей своей дикой силой сквозь ночь за собой.
Утром, когда избитые и окровавленные друзья Володаря принесли и положили перед ней его тело с ужасной раной на голове от удара крестом, она вначале упала без чувств, но потом нашла в себе силы, чтоб пойти к князю требовать суда и мести. Она потом еще не раз будет показывать свою силу, но тогда Мстислав ответил ей с грустью, что сам не волен наказать христиан, потому что разрешение «на пресечение языческих празднеств» дано им от самого Владимира, и тот им покровительствует, а идти против воли отца он не властен.
– Что ж, – сказала тогда Карамея, – я сама им отомщу.
– Отомсти, – подойдя к ней вплотную, шепнул Мстислав, – но только чтоб Владимир и его соглядатаи не знали об этом, а то ведь у тебя растет сын.
Сын растет, – она помнит, как сердце ее сжалось при одной только мысли, что эти страшные люди в черном доберутся и до ее сына.
Сын растет – она не пожалеет никаких денег, чтоб нанять верных гридей, помнящих Светлых Богов и почитающих клятвы Роты превыше всего, и прежде всего превыше заповедей ромейской страшной веры.
Сын растет – со двора до нее долетели веселый смех и радостные крики мальчишки, игравшего с деревянной лошадкой. Теперь он не просто скакал вокруг приглядывающей за ним девки, но и размахивал деревянным мечом, колотя направо и налево воображаемых врагов.
Эти звуки согрели сжавшееся от тоски женское сердце, и Карамея, властно распрямив спину, встала. Гордая и непокорная, она вновь была воплощением силы и власти и тлеющей внутри нее нерастраченной жажды мести. Самую малость этой жажды она утолила, только ощутив сладость напитка по имени Месть, но самое страшное, что она задумала, ей еще предстоит сделать.
Глава 13
Гридница
Князь перешагнул порог гомонящей веселой гридницы и понял, что спрашивать здесь, кто и когда вошел, пустое дело. Всяк здесь в ожидании обещанной медовухи говорил или просто шумел, развлекая себя и своего товарища немудреным, но вполне достойным делом. Отроки – юные воины, сидя на конике[53], играли в кости, другие толкались, пытаясь сбить шапку, третьи мерялись силой рук. Дружинники спорили об оружии пытаясь дамасским кинжалом проколоть кольчугу, положенную на лавку. Невысокого роста, широкогрудый, Борич, подняв вверх жилистую руку с тонким блестящим лезвием, буравил глазами то одного, то другого товарища, приговаривая:
– Ну кто, кто со мной на куну поспорит, что порву я стальное кольцо? Кто?!
Все только махали на него руками, – с тобой, жлобом, спорить – что с козлом бодаться.
– Ну не хотите, как хотите, – Борич крякнул и всадил кинжал в лавку.
Разорванное кольцо со звоном отскочило в сторону.
– А в бою тебе лавочку не подстелят, – покручивая усы, откликнулся на жалобный звон рассудительный Ставр. – Там стеганка спружинит, да и враг свирем[54] уйдет, так что скользнет твой клинок по кольчужке как… – хитрый Ставр ехидно прищурился, – как в бане уд[55] по мыльной подружке.
Дружинники вокруг захохотали, а Борич, покраснев, выругался длинно и зло.
– Колоть надо, непременно, – воин хмурил в досаде густые пшеничные брови, – не кинжалом, так мечом, заточить только острие его, как кинжал[56]…
Но его никто не слушал. Здоровенные ладони хлопали Борича по дюжим плечам, сдабривая дружеские тычки едкими шутками самого похабного свойства.
– Меч тяжелый; от него так просто не отвертишься, – не унимался Борич, – коль кольцо острием ковырнет, то кольчугу тотчас и порвет.
– А я говорю, секирой рубить надо, с оттягом, – уверенным зычным голосом прогудел Ставр, наконец-то переходя на серьезный тон.
Но тут пришла очередь для шуток Борича.
– Хоть ты мылом весь натрешься, а от укола… – он прищелкнул пальцами и сделал выразительное движение бедрами, – не увернешься!
Слушатели вокруг снова радостно захохотали, а Ставр, чертыхаясь, погрозил здоровенным смуглым кулаком.
– Поговори мне, шутник хренов…
– Князь, князь сейчас вас рассудит, – заговорили дружинники, увидев Мстислава.
Ставр, высокий и статный дружинник, откинув ладонью темно-русые волосы, повернулся к князю, заговорил сдержанно и страстно:
– Степняк-то нынче поумнел; все кольчужки поодевали, что печенеги, что хазары, вот мы и думаем – как их сволочей теперь легче достать будет.
– Ежели мечи наострить, как у варягов, кинжальным острием тонким, то колоть надо кольчуги, – встрял в разговор Борич. – Меч на колющем ударе рвет кольчугу точно.
– А секира-то вернее будет, – откликнулся Ставр, – она и кольчугу и дощатый доспех на прямом ударе прорубает, да и щит не всякий перед ней устоит. Секирой бить надо, ее сам Радегаст, сам Бог войны и бранной славы, еще пращурам нашим завещал, как верное оружие победы.
Ставр обвел стоявших вокруг воинов светло-серыми сияющими глазами, словно призывая всех вспомнить мудрость древнего Бога.
– Меч нам священным оружием дан, – не унимался Борич, – его сам Сварог отковал, для сына своего, Перуна, им он и Скипетра зверя сокрушил, и землю очистил от зла. Меч есть любимое оружие Перуна, а он покровитель дружинников русских, а Сварог всем Богам отец и создатель всего. Сварог мудрейший из Богов, ибо весь мир создал и все смыслом наделил великим, потому он и меч ковал, а не топор или секиру. А стало быть, мы тоже должны драться мечом, как завещал нам Сварог и Перун-громовержец.
Борич торжествующе посмотрел на Ставра, а потом на Мстислава:
– Так ведь, княже, будет?
– А вот как будет, мы сейчас поглядим, – Мстислав хитро улыбнулся.
Молодой князь приказал слугам принести со двора деревянный чурбан, старую кольчугу, овчину и стеганку. Потом чурбан нарядили в стеганку и кольчугу, как воина для битвы, а под стеганку подложили сложенную в несколько слоев овчину. Грудь обреченной кольчуги вздыбилась от толстой пачки овчины.
– Ребята, то ж баба получилась, – вздохнул кто-то из отроков, бросивших свои забавы и столпившихся вокруг спорщиков.
Дружинники дружно захохотали:
– Ты что, парень, замечтался? Так ты не горюй; мы тебе ее после отдадим, пользуйся потом сколько хочешь.
– Ставь теперь на лавку, – приказал князь, улыбаясь.
«Бабу» установили на узкую лавку посреди гридницы. Спорщикам принесли оружие. Одному – варяжский меч, широкий у основания, но сходящийся к острию длинным и узким клином; другому – тяжелую секиру с широким лезвием, выгнутым хищным полумесяцем.
– Изготовьтесь, – сказал Мстислав, указывая спорщикам места справа и слева от «бабы», – бить только по моему приказу.
Воины напряглись; Борич чуть отвел назад руку с мечом, Ставр замахнулся секирой, закинув ее на плечо. Все вокруг замерли.
– Бей! – крикнул князь.
В тот же миг меч змеиным жалом метнулся к цели, раздался жалобный лязг металла. Секира тоже рванулась вперед, со свистом описав сверкающую дугу, но вместо страшного удара, которого все ждали с замиранием сердца, ибо хорошо знали, что такое удар боевой секиры, ломающий щиты и пробивающий шлемы, – вместо этого удара оружие смерти только чиркнуло по кольчуге. Но и этого скользящего удара хватило, чтобы кольчужка охнула голосом уставшего металла, разрываемого на части безжалостной сталью. В следующий момент чурбан с кольчугой с грохотом повалился со скамьи на пол. Отроки кинулись поднимать его и ставить на место, так чтобы каждый участник спора мог увидеть результат своего удара. Борич, положив клинок на скамью рядом с пронзенной «бабой», уже торжествующе показывал разорванные кольца там, где ударил его меч. Ставр положил огромную ладонь на обух тяжелой секиры и, упершись рукоятью, как костылем, в широкие скобленые доски дубового пола, тоже неторопливо придвинулся ближе. Он явно был смущен неудавшимся ударом и, видимо, считал спор проигранным, но проворные отроки, обогнав его, уже успели осмотреть след от удара секиры.
– Порвал-таки кольца, порвал! – гомонили они восхищенно.
И точно, тяжелая секира, скользя широким лезвием, рассекла несколько колец. Эти кольца еще держались в железном кружеве кольчуги, цепляясь скрученными краями за целые звенья, но было ясно, что это ненадолго и что при любом неосторожном движении они будут потеряны. Нетрудно было вообразить, что бы случилось, если б Ставру удался прямой удар.
– Так кто ж тогда победил? – спрашивали молодые воины.
– Победил меч, – отвечал задумчиво Мстислав.
– Почему меч-то, ведь секира тоже порвала кольчугу, – не унимались отроки, – просто удар у Ставра не получился, а кабы получился, то точно секира победила бы.
– А знаете, почему удар не получился, – хитро прищурился князь.
– Почему? – дружинная молодь затихла, поглядывая во все глаза то на князя, то на хмурого Ставра.
– А вот пусть Ставр сам и скажет.
– Я знаю почему, – прозвенел молодой голос из толпы отроков.
– Кто такой будешь? – удивился князь.
– Ясуня, сын боярина Люта, – быстро и задорно отвечал совсем юный отрок.
Надо было бы осерчать на юнца за то, что, нарушая обычай, не дал сказать сперва старому дружиннику Ставру, но, глядя на сияющие ясные глаза и светлое улыбчивое лицо отрока, князь сам невольно улыбнулся.
– Меч быстрее ударил, а секира била, когда чурбан уже падал, – тут же выпалил радостно юнец, заметив, что его дерзость сошла ему с рук, а князь вроде и не сердится.
– Ну, шустер пострел, – ворчали дружинники, кто весело, а кто и неодобрительно. – Вперед батьки в печь лезет.
Но уже на помощь сыну, раздвигая плечи воинов, шел тяжелым шагом сам боярин Лют Гориславич.
– Прости, княже, что ввел отрока в гридницу без спросу, мал он еще роту[57] давать, а дома сидеть ему скучно, – загудел боярин виноватым басом, – упросился вот воинский круг послушать.
– Послушать, говоришь, – князь все еще улыбался, но глаза его сразу стали другими.
Слово «послушать» сразу отдалось в мозгу свежим воспоминанием о неизвестном, который пытался подслушать его разговор со старцем и ловко исчез в переходе, когда Искрень пытался изловить согляда. Он вдруг подумал, что паренек вполне мог бы быть там, ловкости ему не занимать, да и соображает быстро. Иначе зачем его Лют привел без спроса. Мстислав поворачивал и так и сяк эту нехорошую мысль, глядя на наивное и светлое лицо отрока, словно примерял к нему нехорошее дело.
«Мог сделать или не мог», – шевелились тяжелые недобрые думы, вытравляя из княжеских глаз последние остатки света.
Но первый боярин опять, словно прочитал все его сомненья. Усталым голосом, каким старый человек в сотый раз говорит одно и то же молодому недотепе, он начал пояснять, что его Ясуня грамоте всякой обучен и книг много читал, а еще слышал, что были и русские древние книги, но пожгли их все христовы слуги. И теперь вот захотелось Ясуне услышать от старых воинов древние легенды русов, чтобы вернуть их в книги для вечного хранения. Боярин говорил негромко и уверенно, и его спокойные серые глаза больше не несли никакой волховской силы, они не были ни мечом ни щитом души бывалого воина.
– Что ж, пусть слушает, – снова улыбнулся Мстислав, но в сердце у него все-таки продолжал шевелиться червячок недоверия, подгрызая хрупкие нити душевного покоя.
Да и какой тут покой может быть. Сколько раз льстивые и коварные византийцы обманывали русичей; клялись в дружбе, а сами печенегов насылали, да именно туда, где высмотрят их христиане-пособники самое слабое место. Сколько раз его пытались обмануть, рассчитывая на его молодость. Слуг его ближайших подкупить пытались. Да чего только не было.
И все-таки, глядя на ясноликого отрока, хотелось верить в хорошее, в то, что Правда всегда будет сильнее Кривды, что не предадут ни его самого, ни его Русь ни этот юнец, ни суровые гриди, стоящие рядом. Пусть алчные и продажные византийцы пытаются всех вокруг сделать такими же, как они сами, приучить и его людей к золоту, к ненасытной жажде этого золота. Но покуда есть русский меч, власть их золота так же призрачна, как и призрачен их темный и жестокий Бог.
Мстислав усилием воли отторгнул от себя последние остатки темных дум и, с облегчением улыбнувшись от души, от самого своего добрейшего сердца, позвал шустрого отрока:
– Иди-ка сюда, Ясуня, расскажи нам всем, что ты еще понял из этой битвы с чурбаном.
Слова про «битву с чурбаном» вызвали смешки среди других отроков. Им показалось, что князь смеется над юношей, и дух соперничества, которым, казалось, был напитан сам воздух воинской жизни дружинников, подсказывал им удобный случай хотя бы так, смехом уколоть своего ровесника. Сын боярина выступил вперед, но тут наконец-то и засмущался, покраснев от множества устремленных на него глаз и несмолкающих смешков товарищей.
– Так что ж ты молчишь? – князь дружески положил ладонь на тонкое, не набравшее еще мужской силы, плечо юноши. – Говори, не томи, что еще удумал. Все хотят знать твои ценные мысли об оружии, ну и вообще, может, ты чему старых воев и поучишь.
Теперь стоявшим вокруг отрокам стало окончательно ясно, что князь смеется над юнцом, и они радостно захохотали, подкалывая его всяк по-своему.
– Тихо вы, молодь, али дела у вас нет, – неожиданно строго оборвал их боярин, – дайте человеку сказать.
Отрок благодарно посмотрел на отца, и боярин, поймав его взгляд, слегка кивнул сыну, мол, не робей. Все-таки Лют Гориславич был необычайной, магической силы человек, ибо хватило лишь одного его короткого взгляда, чтобы юноша совершенно преобразился; гордо и смело поднял голову, с вызовом глядя на других отроков, и быстро заговорил:
– Думаю я, князь, что если сойдутся биться мечник и секирщик, то победит мечник – потому что меч проворней и вертче, хоть и бьет секира сильней.
А еще я думаю, – продолжал отважный отрок под одобрительное хмыканье гридей, – что надобно перековать все мечи на манер варяжских, дабы колоть можно было, а не только рубить.
– Ай да молодца, ай да умница, – радостно воскликнул князь, словно вот этих-то слов он и ждал с нетерпением, – сам давно уж об этом подумывал, но… – он ненадолго замолчал, усиливая воздействие своих слов, и продолжил: – Но не так тут все просто. Форма меча оттачивалась сотни лет, и каждый изгиб клинка не случаен. Так, закругленное острие не застрянет в дощатом доспехе, а подрубит ремешки крепления пластинок. Раньше были умельцы, ковавшие волнообразные клинки. Такой меч легко находил малейшую щель в доспехе. Тогда нашими врагами были византийцы, носившие чешуйчатые брони. Вот на эти-то брони и ковались наши мечи. Ну а сейчас у нас враг другой. Но… – князь опять остановился, подняв вверх указательный палец, – но варяжский меч тоже имеет много недостатков. Он короче русского, и с коня им рубиться неудобно, к тому же вся его тяжесть к крестовине, и из-за этого его рубящий удар очень слаб, и еще им нельзя сделать так. – Мстислав вынул свой меч и крутанул им Перунову мельницу. Потом представил, как силы Светлых Богов истекают с его ладони на острие меча, умножаясь с каждым оборотом стократно, и сделал легкое, едва заметное движение рукой. Сверкающий круг ударил по кольчуге, выбив сразу несколько рассеченных колец.
Вздох восхищения прошелестел среди отроков, как морской ветер в весеннем лесу – весело, легко и восторженно.
Князь остановил вращение клинка и посмотрел на своего юного собеседника:
– Как видишь, старый добрый русский меч тоже неплохо пробивает кольчугу.
Отрок хотел было что-то ответить, но, наткнувшись глазами на взгляд отца, передумал.
– Но ты все равно молодец – соображаешь, – договаривал князь, внимательно глядя на Ясуню, словно пытаясь угадать в нем будущего воина.
«Если не убьют в первой же битве, будет боярин хороший и воевода дельный», – вдруг подумалось ему.
Первая битва была обязательным и, наверное, самым страшным испытанием каждого юноши Древней Руси. Каждый должен был стать воином, и не было иного пути в то суровое время, ибо как сказано в книге Велеса: «Быть может, мы и погибнем, но мы не имеем иных ворот к жизни». В первой битве определялась судьба отрока и было видно, есть ли ему благословение небес, ведут ли его русские Боги и великие пращуры через поле смерти или нет. Берегли русичи своих детей; ставили их позади опытных воинов, но разве может человек все предвидеть, разве дано ему знать, куда завтра ударит стрела вражья и кто уронит меч от смертельной раны. А то взыграет кровь молодецкая в горячке боя, захочет отрок удаль свою показать, кинется на врагов вперед старых воев, да тут и сложит свою голову.
Князь вложил в ножны клинок, все еще поющий печальным и чистым голосом благородной стали, потревоженной хорошим ударом о сталь, и повернулся к боярину с шутливой укоризной:
– Что ж ты такого молодца прячешь, мал, говоришь… а он, видишь, мал, да удал. В общем, приводи его завтра же; пусть роту дает, а мы его в отроки посвятим и жалованье положим хорошее. Пусть служит честь по чести.
И, уже вновь поворачиваясь к Ясуне, добавил:
– А хорош у тебя сынок, Лют Гориславич, ох хорош! Ладный будет воин.
– Старался, – буркнул боярин, довольно ухмыляясь в седые усы.
– Ну а ты что скажешь, – вдруг строго заговорил Мстислав с юношей, – хочешь служить?
Отрок вновь стрельнул глазами в сторону отца и быстро ответил:
– Почту за честь.
– А что ж ты все на отца оглядываешься, – князь хитро прищурился, не меняя серьезного тона, – как служить начнешь, то только на меня оглядываться будешь.
Чуть было остывшие щеки отрока опять полыхнули румянцем смущения.
– С мечом-то ты сам все удумал или отец подсказал? – придерживая отрока за плечи двумя руками, как хрупкую бесценную вещь, продолжал Мстислав, еще раз внимательно вглядываясь в своего юного собеседника.
– Мы с отцом давно уже об этом дома спорили, – слегка замявшись, отвечал Ясуня, – а тут как раз и спор Ставра с Боричем вышел кстати.