Дар Унт Мария
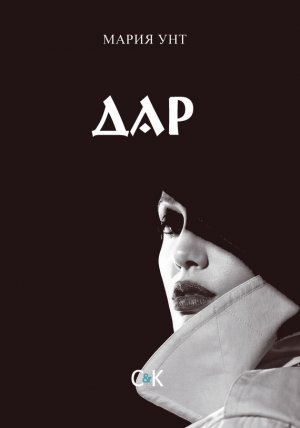
Ведун усмехнулся и побрел напрямки через лес, направляясь в сторону деревни. Не забыв перед этим качнуть ветку, на которой сидел вран. Чуть не свалившись наземь, птица распахнула широкие крылья и сердито раскрыла клюв. Когда ветка успокоилась и перестала раскачиваться, вран взмахнул крыльями и полетел вдогон за ведуном. Пролетев у него над головой, Крарр увернулся от толстой ветки и присел на торчащий на пути ведуна пенек.
– А ты, как я погляжу, колдун, – заметил он, когда ведун приблизился.
– С чего ты взял? – удивился тот.
– Ну как же? Вон сколько выпил – и ни в одном глазу! А я вообще-то думал, что ведуны хмельного в рот не берут.
– Точно, не берут, – согласился ведун, останавливаясь. – Но не потому, что нельзя, а потому что сами не хотят. Как сказал один неглупый человек: пьянство – это добровольное сумасшествие. Кому-то это по нраву, кому-то нет. Каждый выбирает сам.
– А ты что выбираешь?
– Я случай особый. На меня хмельное попросту не действует. Такова уж моя природа и тяжкий рок! – нарочито скорбно закончил он.
– То-то я и смотрю, – негромко проговорила птица. – Ну, а ратники?
– А что ратники?
– Только не говори мне, что они заснули от трех кружек медовухи на брата! – насмешливо проговорил вран. – Этих мужиков и жбаном-то не свалишь. Ясное дело, без колдовства не обошлось!
– А ты видел когда-нибудь, как ласка охотится на зайца? – неожиданно спросил ведун. – Прыгает перед ним, скачет, как полоумная, а тот нет, чтоб от смерти бежать, сидит, как пришибленный, покуда охотница загривок ему не прокусит. Так что, ласка это по-твоему, тоже колдовством берет?
– Что-то не заметил я, чтоб ты перед ними прыгал да скакал, – не скрывая иронии, заметил вран.
– Видимость разная, суть одна, – ответил ведун. – Много есть способов навязать живому существу свою волю. А пьяный в этом смысле будет по-уязвимее многих. Своей-то волей он уже не владеет, вот чужая над ним верх и берет. И, хочешь верь, хочешь нет, а никакого колдовства ты тут не сыщешь. А одна тут только сила в самом человеке заложенная, и правильным научением на свет божий выведенная.
– Интер-ресно, – заметил вран, помолчав. Он склонил голову набок и внимательно глянул на ведуна. – Инте-ресно, чего это ты так передо мной р-разоткр-ровенничался? А вдруг я и правда шпион Сумрака?
– А вдруг я тебе все наврал? – нимало не смутившись, улыбнулся ведун. – Как проверишь-то? Вот то-то и оно! – он обошел пенек и пошел дальше своей дорогой. Вран повернулся и посмотрел ему вслед.
– Да нет, не вр-ранье это, – медленно проговорила птица. – Хотя, может, лучше бы ты и совр-рал…
Глава 8
Побродив до полудня по деревне и насмерть перепугав своим задумчивым видом греющихся на завалинках старух и стариков, ведун зашел на крайний двор и прикупил там нехитрой снеди: свежего хлеба, сыра, сметаны. Подумав, попросил еще нюхательного табаку. Хозяйка рада бы была отдать харч и задаром, лишь бы поскорей спровадить дорогого гостя, но ведун, поблагодарив, сунул ей в руку пару медяков.
Выйдя за околицу, он постоял в раздумье, а потом направился к лесу, прямо на восток, в ту сторону, куда деревенские без лишней нужды ходить все-таки остерегались. Шел он по лесу недолго – меньше чем в двух верстах от деревни начинались такие непроходимые дебри, через которые человеку без топора нипочем было не пробраться.
Зеленоватый сумрак царил под сводами леса, толстый слой палой листвы напрочь скрадывал звуки и без того бесшумных шагов. Где-то наверху весело шелестели листья и бойко пересвистывались птицы. Из чащобы тянуло запахом недалекого болота. Ведун присел на замшелый ствол поваленного дерева, развязав узелок, разложил рядом свое угощенье и стал ждать.
Ждать пришлось довольно долго, но ведун не терял терпенья и не двигался с места. Наконец у него за спиной раздался негромкий шорох.
– Подходи, дедушка, – не оборачиваясь, позвал ведун. – Не побрезгуй угощением.
На пару минут в лесу снова воцарилась тишина, а потом послышалось негромкое кряхтенье, и на ствол рядом с ведуном деловито взобрался лесовичок. Угнездившись поудобнее, он покосился на угощенье и степенно огладил зеленоватую бороду.
Ростом не больше локтя, лесовичок был одет в плетеную из трав рубаху и такие же порты, на ногах – аккуратные лапоточки, на голове – шляпа, наподобие грибной.
– Здравствуй, дедушка, – склонив голову, поприветствовал лесовика ведун. – Как живешь-поживаешь?
– Спасибо, живы пока, – проворчал лесовичок, снизу вверх по-хозяйски глянув на ведуна. – Чего и тебе желаю.
Снова покосившись на угощенье, старичок вдохнул исходящий от снеди аромат и сглотнул слюну.
– А ты зачем же к нам пожаловал, добрый… – лесовичок нерешительно покряхтел. – Человек.
– Дело у меня в здешних краях, – не чинясь, ответил ведун. – Вот и пришел я хозяевам лесным поклониться. Дозволенья испросить на то, чтоб по лесу вашему беспрепятственно гулять, да прямые тропки с кривыми не путать.
– Что пришел, это хорошо, – одобрил лесовичок. – По нынешним временам мало кто к нам, смотрителям лесным, такое уважение имеет. Все самовольно норовят, нахрапом… – старичок осуждающе вздохнул. – А нет бы вот так, по-доброму, да не с пустыми руками…
– Да ты угощайся, дедушка! – перехватив очередной жадный взгляд, повторил приглашение ведун. – Сделай такую милость.
– С собой возьму, – определил после недолгих колебаний лесовичок. – Не один ведь я, чай…
– Домовые-то ныне уж больно жадны стали, – сообщил старичок, сноровисто увязывая узелок с харчем. – Корки сухой у них не выпросишь, даром что мы им родня, хоть и дальняя!
– А дело твое мне ведомо, – сложив ручки под бородой, важно кивнул лесовичок. – Слухами земля-то полниться. Знаем мы тут и о том, что от вашего брата народу лесному вреда никогда не бывало, а потому велено передать: пришел – так делай. Мы тебе препятствий чинить не станем.
– Спасибо на добром слове, дедушка, – поклонился ведун. – А не расскажешь ли мне, как тут у вас житье-бытье протекает? Может, есть что, о чем и мне знать не помешало бы?
– Да житье-то у нас не очень, – чуть помедлив, со вздохом признался лесовичок.
– А что так? – участливо поинтересовался ведун.
– Да как пришли сюда люди, оказались мы промеж двух огней. С заката сородичи твои наступают, лес рубят, силки да капканы ставят, грибы-ягоды без меры рвут, мед, значит, забирают… – лесовичок крякнул и оборвал перечисление людских провинностей, хотя – ведун это чувствовал, – мог бы продолжать еще долго.
– А с рассвета, значит, нежить напирает. Пока вроде и не особо, а против прежнего все ж таки ощутимо. Волколаки вон прям под боком логово себе устроили. Я вот слышал, ты одного-то завалил, – старичок с надеждой глянул на ведуна. – Так хорошо бы и второго туда же. А то житья от этой нежити нету.
– Сделаю, – пообещал ведун. – Вот с главным делом разберусь и сделаю.
– Интересно, – усмехнулся он, подумав. – И люди волколаков нежитью кличут, и вы туда же, хотя вроде живность лесную защищать должны бы.
– А ты нас не учи, чего мы должны, а чего нет! – угрюмо насупившись, буркнул лесовичок. – Мы волколаков потому нежитью зовем, что нежить они и есть. И к зверью лесному никакого касательства они не имеют. Зверь лесной – даже василиск али кроволюб, – тот без нужды жизнь чужую не отнимет, а только ради пропитания и заради защиты. А волколоаки оглашенные рвут все, что на пути им попадется, без разбору, будь то зверь какой, из лесного народа кто, или твой сородич. Волколак, он против жизни самой идет, потому нежить он и есть. Волколак для нас то же самое, что для вас оборотень или упырь, и защищать его нам никакого резону нет.
– Раз уж о том речь зашла, – дождавшись, пока лесовичок немного успокоится, заговорил ведун. – Не известно ли лесному народу, откуда в лес оборотень выходит?
Лесовичок ничего не ответил. Свесив голову на грудь, он замер неподвижно, как обросший мхом пенек. «Уж не уснул ли?» – подумал ведун, подождав немного. Лесовичок поднял голову и посмотрел на человека долгим пристальным взглядом.
– Может, и ведомо, да только тебе я про то не скажу. И ты на меня за то не обижайся, потому как не упрямство это и не зловолие. Не скажу я тебе потому, что не могу. У нас ведь тут худое житье не только из-за людей да нежити. Мы ведь тут последнее время вроде как не в своей воле живем…
– Это как же так? – осторожно уточнил ведун.
– А вот так! Сами понять не можем, с чего, а только озлобился лесной народ так, что порой самих оторопь берет. От людей-то, от них всегда в лесу суматоха да беспорядок, испокон веку так было, а только раньше мы-то на это по-другому глядели. А сейчас увидишь иной раз, как ребятишки малые по грибы идут, шумят почем зря, ветки ломают, мухоморы сшибают… – старичок зябко поежился. – И вдруг как накатит что-то! Тропки запутаешь, в чащу глухую на ночь глядя тех ребят заведешь, а потом слышишь, как плачут они да мамку зовут, и сам понять не можешь, зачем такое сотворил. Будто наваждение какое нашло, али под руку кто толкнул. Кикиморы-то ныне в «аукалки» с девками не играют, гонят их с болота, едва те на кромку ступят. Потому как боятся. Себя боятся: не сотворить бы чего страшного, себя не помня. Домовые уж на что с людьми бок о бок живут, а и то… Порой, говорят, ночью глухой одолевает желание нестерпимое – подкрасться да и передушить хозяев, пока те спят. Пока вроде сдерживаются, но надолго ли их хватит?
– Вот так сказочку ты мне рассказал, дедушка, – нахмурился ведун. – А с чего ж напасть такая с вами приключилась? Догадок никаких не имеете?
Лесовичок нахмурился, засопел, а потом в сердцах махнул рукой:
– Все, добрый человек! За угощение, конечно, спасибо, а разговор наш закончен. Иди, делай свое дело.
– Ну что ж, – ведун вздохнул, потом встал и поклонился лесовичку. – И на том спасибо. Дядьке вашему привет передавай от соростка его из Кривой Балки, что под Илецкой крепью. Пусть к концу лета ждет горлинку с весточкой. Что за весточка, не знаю, но сказано – важная. Здрав будь, дедушка.
– И ты не хворай, – буркнул разом растерявший все дружелюбие лесовичок.
Ведун кивнул и, не говоря больше ни слова, развернулся и пошел обратно к деревне. Лесовичок угрюмо посмотрел ему вслед, а потом вдруг вскочил на ствол и с трудом, будто преодолевая неведомую силу, выкрикнул:
– Да не задерживайся надолго в здешних краях! Добра тут не будет…
Ведун на мгновенье замедлил шаг, кивнул, не оборачиваясь и пошел дальше. Когда он скрылся за деревьями, лесовичок развернулся лицом к чаще и спросил с поклоном:
– Все ли так я сделал, Дядька?
В десяти локтях от него шевельнулся торчащий из земли обломок толстого древесного ствола в полтора человеческих роста вышиной. Покачавшись немного из стороны в сторону, ствол извлек из земли корни, которые оказались подобием толстых кривых ног. Поднявшись в полный рост, лесной Дядька отряхнул приставшую землю и, медленно переступая корявыми ногами, повернулся к лесовичку лицом. Остановив на помощнике взгляд горящих как уголья глаз, Дядька кивнул, со скрипом наклонив верхнюю часть «ствола». Разверзлась укрытая в непролазной моховой бороде щель рта, и лесовичок услышал глухой голос:
– Все правильно сделал, все так.
Лесовичок снова уселся на ствол и, свесив ножки, тяжко вздохнул.
– Так, да не так…
– Ты о чем? – поинтересовался Дядька, подходя ближе.
– Да все о том же. Может, надо было все-таки пересилить себя да сказать ему? Я, чую, смог бы, если б до конца решился. Люди, они, конечно, тоже не подарок, но по мне уж лучше они, чем те, другие…
– Опять ты за свое, – беззлобно проскрипел Дядька. – Уж сто раз тебе говорено: не нашего ума это дело. Мы и до людей жили, и после них жить должны, чтоб за лесом следить, да от напастей его оберегать. Оно, конечно, от ведунов нам отродясь ничего, кроме пользы, не выходило. Опять же и волколака он извел. – Дядька нахмурил корявые наросты бровей. – А потому мешать ему мы не будем. Но и помогать не станем, а то мало ли что… встанем мы сейчас на людскую сторону, так, может, и от нас ничего не останется.
– А так, думаешь, останется? – мрачно осведомился лесовичок.
– Останется, – уверенно заявил Дядька. – Тем, другим, до леса дела нет. У них с людьми счеты. Врать не буду, при них жилось несладко, но специально они нас не изводили – и на том спасибо. Так что уж лучше нам в сторонке оставаться, пока не станет ясно, чем дело закончится.
Дядька расправил суковатыми лапами бородищу, извлек из нее запутавшуюся шишку и отбросил в сторону.
– Оно, конечно, так, – бесцветным голосом проговорил лесовичок. – А только с людьми-то оно как-то веселее.
– Да я разве ж спорю, – уныло проскрипел Дядька. – А только кажется мне, кончается время людское, и кто выжить хочет, тому сейчас лучше держаться от них подальше.
– Что ж, неужто так все и сгинут? – недоверчиво поинтересовался лесовичок.
– Ну, почему все! Люди, они ведь страх какие живучие. Кое, кто уж наверняка сбрежется. Вот такие, как он, например, – Дядька махнул лапой вслед ушедшему ведуну. – Хотя, конечно, он-то и не то, чтобы человек. Ему-то еще неизвестно, при ком лучшее житье будет.
– Ну, это уж ты, Дядька, загнул! – возмутился лесовичок. – Никогда я не поверю, чтоб ведун…
– Да ладно, – отмахнулся замшелой лапой Дядька. – Это я так… Разве ж я сам не понимаю? А только все одно: скажи ты ему сейчас всю правду, и неизвестно еще, чем бы это для него обернулось – добром ли, али худом. Неизвестно ведь доподлинно, какая сила уста-то нам замкнула.
– Может, и так, – лесовичок соскочил со ствола, потянул за собой узелок с угощением. – А только тоскливо мне что-то, невесело.
– Всем нам скоро не до веселья будет, – вздохнул лесной Дядька. – Такие уж времена идут…
Глава 9
Егор сидел на берегу реки и смотрел на медленно текущую мимо него темную воду. Ему и раньше нравилось сидеть вот так, в одиночестве, ни о чем не думая, слушая шелест ветра в ивовых листьях и тихий плеск волны в прибрежных камышах, наблюдая за игрой солнечных зайчиков на поверхности реки. Теперь это стало единственным его развлечением. Егор не жаловался, в глубине души ему даже нравилась такая жизнь.
Раньше, чтобы насладиться тишиной и покоем, ему приходилось выкраивать минутки из бесконечных дел по хозяйству и уходить подальше от деревни, туда, куда не долетали голоса ее двуногих и четвероногих обитателей.
Сейчас нужда в дальних походах отпала. Жизнь в деревне замерла. Охваченные тягостным оцепенением, люди, казалось, потеряли всякий интерес к тому, что творилось вокруг. Смолкли бесконечные разговоры об осенней ярмарке, пересуды о видах на урожай да о том, кто и как подготовился к грядущей зиме. На Егора никто не обращал внимания, и он мог совершенно безнаказанно целыми днями слоняться без дела.
Теперь он не уходил далеко от деревни, а сидел недалеко от мостков в полной уверенности, что его никто не потревожит. Раньше здесь с утра до вечера звучали голоса стирающих белье баб и визг купающейся ребятни. Теперь у мостков было тихо. Запуганные оборотнем люди боялись выходить из деревни даже средь бела дня.
Егор не боялся. С тех пор, как минувшей зимой озверевший шатун растерзал у него на глазах отца, Егор вообще перестал чего-либо бояться. Тот страшный день остался в его памяти каким-то смазанным пятном. Не было четких воспоминаний о том, что и как происходило, хотя произошло все у него на глазах, можно сказать – перед носом. Как Егор ни старался, вспоминались только какие-то обрывки: глухой рев не ко времени разбуженного медведя, густой звериный дух и отцовский нож, который, сверкнув на солнце, отлетает в сторону от удара когтистой лапы. А потом кровь… Неестественно красная, дымящаяся кровь вперемешку с густыми синими тенями на взрытом белом снегу. И еще крик, страшный крик умирающего человека, то ли отцовский, то ли его, Егора, собственный. Но главное, что он запомнил – страх, нестерпимый ужас, от которого душа падала прямиком в пятки, а сердце отказывалось биться в груди. Это был страх, которого Егору до того не приходилось испытывать ни разу в жизни – страх неминуемой смерти. И наступил момент, когда он с радостью принял бы эту смерть, лишь бы избавиться от страха. Но все случилось иначе.
Все изменилось в тот момент, когда он увидел кровь отца на снегу. Кровь и… что-то еще. Пульсирующее, шевелящееся, бессильно цепляющееся за ускользающую жизнь. Такое совсем еще недавно родное, а теперь нестерпимо жалкое и… отвратительное в своей беспомощности.
Положа руку на сердце, надо сказать, что ни в тот день, ни месяцы спустя у Егора в голове не возникало даже намека на столь складные и законченные мысли, и столь ясное понимание того, что произошло с ним тогда в лесу. Понимание пришло гораздо позже, в тот самый точно рассчитанный момент, когда от него уже не могло случиться никакого вреда – лишь мимолетное сожаление и ничего не значащая печаль…
А тогда, уже ощутив на лице медвежье дыхание, он понял вдруг, что больше не боится! Смерть никуда не делась, она по-прежнему стояла рядом, глухо поревывая и злобно скаля клыки, но Егору почему-то вдруг стало на нее наплевать. Может, он даже и плюнул, этого Егор не помнил, но ему почему-то казалось, что такое вполне могло быть – уж больно неожиданным для него был этот переход от смертного ужаса к ледяному презрению. И вслед за этим что-то изменилось уже не в его душе, а в самом окружающем мире. Егор не умер. Озверевший медведь почему-то оставил его в живых.
Егор не помнил, сколько он просидел в снегу, тупо, без единой мысли в голове глядя на изувеченное тело мертвого отца. На то, что еще совсем недавно было его отцом. А у него в душе не было ни горя, ни страха, ни сожаления.
Кажется, его нашли, когда уже стемнело. Были факелы, крики, испуганный собачий лай. Кто-то долго тормошил Егора за плечи, а он никак не мог взять в толк: чего от него хотят? А деревенские хотели одного: понять, почему озверелый шатун растерзал отца и ушел, не оставив ни царапинки на сыне? Егор при всем желании так и не смог помочь им найти ответ на эту загадку. И надо сказать, что соседских симпатий это ему не прибавило.
Впрочем, на семью Егора и без того всегда поглядывали косо. Отец его был из местных, а вот мать привез со стороны. Деревенские с самого начала начали шептаться: и чем это ему свои деревенские девки-то не глянулись? И на кой ляд ему сдалась эта вечно бледная скелетина? Она и на нормальную бабу-то не похожа, не иначе в роду русалки были!
Но отец Егора был мужик упертый и, посмеиваясь в усы, от всей души чихал на шепоты и пересуды соседей с самой высокой березы. Увидев такое полное пренебрежение мнением общества, деревенские кумушки посудачили немного для порядку, да и заткнулись от скуки. Тем более, что мать Егора поводов для сплетен не давала: вела себя всегда вежливо и тихо, с ближними соседками уживалась мирно, работала на совесть да и знахаркой оказалась не из последних, что для заброшенной в глушь деревни, согласитесь, дорогого стоит!
Нашлись, конечно, злые языки, сразу записавшие чужачку в колдуньи. Однако княжеский жрец, регулярно наведывавшийся в деревню с целью проверки правильности исполнения обрядов Богопочитания, несколько раз обстоятельно побеседовал с новой знахаркой, и вопреки, кое-чьим ожиданиям, не сказал о ней ни единого худого слова. Громко сомневаться в мнении жреца не решались даже самые бдительные «борцы» с колдунами, однако же, как ни крути, а в тихом омуте… сами знаете: ничего доброго не водится.
И рождение Егора – по мнению опять таки кое-кого – эту народную мудрость подтвердило в полной мере. Мать-чужачка после родов долго болела, и умерла, когда Егору не было и трех лет, единственным на свете близким родственником для мальчишки стал немногословный отец.
С малолетства Егор был не таким, как остальные мальчишки. Нескладный и неловкий, вечно бледный и болезненно худой, он держался в стороне от ребячьих игр и был серьезен не по годам, как маленький старичок. Поговаривали, что мать «нагуляла» Егора на стороне в одну из своих поездок на ярмарку – уж больно он был не похож на своего якобы родного отца. Однако сам отец Егора сына любил и этого мнения не разделял, а поскольку кулак у него был тяжелый, дальше очень тихим шепотом передаваемых сплетен дело не шло.
Сверстники Егора звали его (не без заслуги в этом взрослых) не иначе как «доходяга» и не упускали случае отвесить оплеуху или дать пинка – просто так, потехи ради. А тут еще поползли слухи, что у доходяги и имени-то тайного, родового нет, а одно только величальное. Ни дать ни взять, как у скотины бессловесной, которой одна только кличка и положена! И без того прохладное отношение к «странному» мальчишке стало еще более холодным.
Жрец, правда, пытался разъяснить деревенским, что ничего такого уж страшного в отсутствии родового имени нет. Дескать, некоторые народы Тридолья считают тайное имя не источником силы, а скорее слабостью, лишним уязвимым местом человека. Жреца слушали, но без особого интереса: мало ли что кто-то там «считает», здесь-то все по-другому! Как бы то ни было, а поводов для оплеух и тумаков, которыми оделяли Егора сверстники, с той поры прибавилось.
Доходяга терпел. Терпел долго, а лет в десять впервые дал сдачи. И пошло-поехало! Дрался Егор люто, не жалея ни себя, ни противника. Мальчишки вдвое крупнее и сильнее не раз позорно бежали от него, размазывая кровавые сопли и сплевывая выбитые зубы. Пару раз ребятня наваливалась на него скопом, но и тут щуплый «доходяга» умудрялся выйти победителем. Егор не гнушался нечестными ударами, не задумываясь, пускал в ход камни, палки и вообще все, что попадалось под руку, в результате дело каждый раз кончалось тем, что чудом не покалеченные обидчики с воплями разбегались в разные стороны.
Устав слушать жалобы соседей, отец, скрепя сердце, для порядка пару раз выпорол Егора, но тот, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания. К счастью, деревенские мальчишки вскоре поняли, что со зверенышем им не сладить, и оставили Егора в покое. Сам он, даром что почувствовал свою силу, без лишней нужды никого не задирал, и жизнь в деревне снова вошла в привычную колею. Все стало по-прежнему, только вот кличка «звереныш» с той поры приклеилась к Егору намертво.
После того, как с отцом случилась беда, Егора взял к себе в дом дальний родич отца – то ли двоюродный кум, то ли троюродный сват, в общем, одно название «родственник». Однако ж попробуй не возьми в дом «племянничка» – вся деревня, включая и тех, кто Егора на дух не переносил, будет потом до скончания века вспоминать, как Антох, Савелов сын, голоса крови не уважил. Такого позора никому не пожелаешь! Вот и пришлось…
Жили дядя Антох и тетка Дарья небогато – у самих семеро по лавкам! – и они, вполне естественно, не обрадовались появлению нового едока. А тут мало того, что седьмая вода на киселе, так еще Боги послали именно «звереныша»! Егор прекрасно понимал, что новой родне он в тягость, хотя и не слышал от них никогда ни единого слова упрека.
Кормили его наравне со своими, а он за это на совесть делал всю поручаемую ему работу, стараясь пореже попадаться на глаза новым родичам. А когда сошел снег, и на дворе потеплело, Егор и вовсе ушел жить из избы на сеновал. После того, как в деревне объявился оборотень, дядя Антох велел Егору переселяться обратно в дом. Егор послушно кивнул, но переносить в избу свои немудреные пожитки не торопился. А дядя Антох, высказав Егору свою волю, казалось, тут же о нем и забыл.
Справедливости ради надо было сказать, что с тех пор, как в округе появился оборотень, дядя Антох, погруженный в свои мысли, вообще мало что замечал вокруг себя. А после неудачного исхода из деревни он вообще почти перестал выходить из дома, коротая время за чаркой бражки в компании хромого Филимона.
Бобыль Филимон был большим докой по части приготовления хмельного, и жил в основном тем, что снабжал зельем страждущих соседей. Чем возиться самим, деревенские предпочитали при надобности обращаться к Филимону. Брал он не дорого, а брага да медовуха у него и правда были отменные. С появлением оборотня спрос на товар Филимона возрос многократно, но он этим не пользовался и цену не ломил, а наоборот, раздавал запасы чуть ли не даром и сам пил горькую со всеми, кто соглашался с ним чокнуться.
Тетка Дарья при встрече смотрела пустыми заплаканными глазами сквозь Егора и в последние дни забывала не только здороваться, но и звать его к обеду. Егор не обижался. Летом прокормиться было не сложно, а зимой…
Еще не известно, останется ли к зиме в их деревне хоть одна живая душа.
Тень от обломанной ивы коснулась плеча Егора. Это был знак, что пора возвращаться в деревню. Он легко поднялся на ноги и потянулся так, что хрустнули суставы. В голове вновь закопошились разлетевшиеся было мысли и воспоминания. Оборотень, пьяный дядька Антох, уснувший, уронивши голову в миску с квашеной капустой, тетка Дарья со скорбно изогнутыми губами.
В душе Егора не было ни тревоги, ни сочувствия, ни страха перед неминуемой близкой смертью. Скука. Равнодушие. Беспросветное равнодушие ко всему на свете, включая свою собственную судьбу.
Егор вздохнул и, последний раз скользнув взглядом по расцвеченной закатными бликами водной глади, отвернулся от реки и, не спеша, побрел в когда-то родную, а теперь донельзя опостылевшую деревню.
Глава 10
На следующий день ведун вышел из своей комнаты до рассвета, надеясь в одиночестве побродить по окрестностям замка и деревни, покуда их обитатели не ломанулись по своим делам в лес. Однако в это утро его планам не суждено было осуществиться.
На выходе из княжеской башни ведуна уже караулил жрец. Точнее, караулил-то он, может, вовсе даже и не ведуна, но встрече все равно обрадовался.
– Доброго дня тебе, ведун, – поприветствовал гостя жрец.
– И тебе того же, – вежливо кивнул гость. – Раненько ты поднялся.
– Да я и не ложился, – признался жрец. – Ночь сегодня была на диво ясная да звездная. В такие ночи мне, старику, жалко тратить время на сон. Так и провел я время с вечера на вершине башни. А теперь вот решил спуститься, поразмять косточки.
– С башни-то с Богами, поди, разговаривал? – предположил ведун. – Повыше забрался, чтоб лучше слышно было? Или Боги по ночам спят?
Жрец попытался не обратить внимания на прозвучавшую в его словах откровенную насмешку, но не смог – слишком уж явно все вышло.
– Зря ты так, ведун, – укорил жрец. – Только глупцу пристало насмехаться над тем, что выше его разумения. Богам не по нраву, когда смертные относятся к Ним без должного почтения.
– Так я не над Богами насмехаюсь, а над тобой, – уточнил ведун.
На мгновение лицо жреца потемнело, но затем снова осветилось мягкой улыбкой.
– Сколько с вами, ведунами, ни сталкиваюсь, а так и не могу до конца привыкнуть к вашему ерничанью. Хоть и знаю, что нет за ним ни злобы, ни издевки, а все ж таки задевает каждый раз за живое.
Ведун усмехнулся и почесал бритый затылок. Этот жрец ему определенно нравился. Конечно, перед тем, как отправить его в замок Рольфа, наставник в общих словах описал ведуну то, с чем ему придется там столкнуться. И отзывы его об Инциусе были на удивление одобрительными. Наставник говорил о княжеском жреце почти без насмешки, и уже одно это дорогого стоило.
И все же одно дело составить мнение о человеке с чужих слов, и совсем другое – столкнувшись с ним лицом к лицу.
В отличие от многих своих сотоварищей по жреческой касте, Инциус не держал себя с людьми так, будто видит всякого встречного-поперечного насквозь, и при этом чужое нутро не вызывает у него ничего, кроме досады на людское несовершенство. Инциус, напротив, держался просто, без жалостливой снисходительности к окружающим. И простота его была самой что ни на есть естественной, а не вымученной, как у некоторых жрецов низших ступеней посвящения, которые не научились еще смотреть на простых людей свысока, не ощущая при этом никакой внутренней неловкости.
При всем при этом Инциус был посвященным пятой ступени из семи существующих в касте жрецов, и слово его на Главном Жреческом Совете весило немало.
Странным было то, что Инциус со всем тем уважением и авторитетом, какими он пользовался в Совете, вот уже почти тридцать лет безвылазно сидел в замке хоть и не обделенного богатством, но далеко не самого родовитого князя в царстве. И даже последовал за ним в добровольное изгнание, на которое ни с того, ни с сего решился вдруг Рольф.
С другой стороны, ведун слышал, что некоторые жрецы даже последней, седьмой ступени, добровольно заточали самих себя на десятки лет в земляные ямы размером чуть больше медвежьей берлоги, надеясь там достичь совершенства в искусстве общения с Богами. Так что у каждого свои странности и ничего с этим не поделаешь. Был бы человек хороший…
Впрочем, наставник рассказал ведуну кое-что и о самом хозяине замка. Немного, но вполне достаточно для того, чтобы заподозрить неладное. Может, как раз в этом и крылась причина того, что Инциус так неотступно опекает семейство Рольфа?
Ведун встретился взглядом со старым жрецом и улыбнулся. Он неспроста ввернул в разговор упоминание о Богах – хотел проверить, как отреагирует Инциус на его слова. Многих жрецов насмешка над ними гневила чуть ли не больше, чем неучтивые слова, сказанные в адрес Богов, волю которых они взялись доносить до простого народа. Инциус, по счастью, был не из таких.
Похоже, он и впрямь искренне считал себя не избранником Богов, а всего лишь их верным слугой. Собственно говоря, об этом постоянно твердили все жрецы, но мало кто из них жил в соответствии с этими, их же собственными, словами.
– Ты куда-то спешишь? – поинтересовался жрец. – А то зашел бы ко мне. У меня есть отличнейший чай. Настоящий, южногорский.
– С чего вдруг такое радушие? – насмешливо удивился ведун.
– Разговор у меня к тебе есть, – признался жрец. – Важный разговор…
– Ну, если важный… – ведун с задумчивым видом потер подбородок. – Тогда, конечно, можно и чайку попить.
– Ну, вот и ладно, – обрадовался жрец. – Я тебя надолго не задержу.
Они прошли коридором и поднялись на второй этаж башни. Комната Инциуса выходила на северную сторону, и оттого в ней, освещенной лишь слабеньким светильничком, царил прохладный полумрак.
У окна стоял массивный стол, заваленный свитками пергамента вперемежку с писчими перьями и листами новомодной и оттого неслыханно дорогой «бумаги». Проникавший сквозь открытое настежь окно легкий ветерок чуть заметно колыхал тяжелые оконные занавеси и наполнял комнату не успевшим еще раствориться в дневном зное запахом влажной ночной свежести.
Кроме стола в комнате жреца были еще два кресла и простая деревянная кровать с тощим матрацем и простыней из грубого холста, застеленной обычным стеганым деревенским одеялом. На одной стене висела полка с книгами, другую украшал гобелен с изображением жреческого знака, вытканного золотым шитьем по голубому полю. Пол был устлан плетеными циновками. В углу приютился небольшой столик, на котором стояло все необходимое для чаепития.
Предложив гостю садиться, жрец ловко разжег небольшую горелку и поставил на нее изящный чайничек явно южногорской работы. «Подгорная кровь», которую люди, отчаявшись разгадать рецепт этого зелья, по-прежнему втридорога покупали у подземников, горела ровным прозрачно-зеленым пламенем.
Вода в чайнике вскипела почти мгновенно. Жрец бросил в нее щепотку сухого чая и тут же снял чайник с огня. По комнате поплыли ароматы горных лугов с примесью душистого можжевелового дымка и еще чего-то, чему трудно было подобрать название, и что неизменно наводило ведуна на воспоминания о почти уже забытом родном доме и неимоверно далеком детстве.
Жрец разлил чай по маленьким бокалам и, передав один ведуну, опустился в кресло напротив. Ведун понюхал, попробовал и, поджав губы, одобрительно покивал: чай у жреца и впрямь был выше всяческих похвал.
Попивая маленькими глотками драгоценный напиток, жрец молчал, время от времени бросая на ведуна короткие взгляды. Он то ли никак не мог собраться с мыслями, то ли просто не знал, с чего начать свой «важный разговор». А может, специально тянул время, ожидая, что гость начнет первым.
– Так о чем ты хотел со мной поговорить? – нарушил молчание ведун, которому надоела игра в молчанку.
– О чем? – жрец посмотрел ведуну в глаза долгим оценивающим взглядом. – Прости, что спрашиваю, но… что у тебя с лицом? Если не хочешь…
– А что у меня с лицом? – ведун казался искренне удивленным, подняв руку, он провел кончиками пальцев по своей изуродованной шрамами щеке. – Ах ты, батюшки! Да что ж это такое?! Может, во сне отлежал? Нет? Не похоже?
Жрец с кислой улыбкой покачал головой.
– Порой мне кажется, что вы, ведуны, занимаетесь не своим делом. Вам бы шутами быть да скоморохами.
– Да брось ты, жрец! – отмахнулся ведун. – Серьезных людей в мире хватает и без нас. И много от этого толку для мира?
– А от шутов толку больше? – с ехидцей поинтересовался жрец.
– От них меньше вреда, – отрезал ведун. – Не знаю, как ты, а я никогда не слышал, чтобы шуты и скоморохи затеяли какую-нибудь войну или смуту. Я никогда не встречал шута-пирата или скомороха-работорговца. Шута или скомороха не встретишь среди колдунов или чернокнижников. Правда, и среди жрецов их не сыщешь…
– Зато среди ведунов их пруд пруди, – Инциус вздохнул. – Я ничего не имею против смеха, но нельзя же высмеивать все подряд! Должно же быть хоть что-то святое!
– Точно, – кивнул ведун, прихлебнув из своего бокала. – Например, мое лицо!
Жрец поморщился, но смолчал.
– Знаешь, жрец, мне почему-то кажется, что ты позвал меня не для того, чтобы обсуждать недостатки моей внешности, – посерьезнев, заметил ведун. – Я не прав?
– Я спросил не просто так, – чуть помедлив, негромко произнес жрец. – Я хочу понять, кого нам прислали в помощь. Я никогда не видел ведуна с таким шрамами, как у тебя. Общеизвестно, что искусство ваших лекарей выше всяких похвал. И все же тебе они помочь не смогли. Почему? Напрашиваются два ответа: либо это не простые шрамы, либо они совсем свежие, – жрец умолк, выжидательно глядя на ведуна.
– И то, и другое, – кивнул ведун. – Эти шрамы совсем свежие, и они не простые. Они оставлены оборотнем, а такие раны быстро не заживают. Даже на таких, как я, и даже стараниями наших лекарей. Но со временем они исчезнут.
– Значит, тебе уже приходилось убивать оборотней? – безразличным тоном поинтересовался жрец.
– Приходилось, – кивнул ведун. – И не однажды. Так что можешь быть спокоен: опыт в таких делах у меня есть. Что же до шрамов… Убить оборотня это тебе не куренку шею свернуть. Думаю, тебе не хуже моего известно, что в таких схватках победителем далеко не всегда оказывается именно ведун!
Жрец задумчиво покивал и как-то странно вздохнул – не то с облегчением, не то с разочарованием.
– Скажи, ведун, а мы с тобой никогда раньше не встречались? Когда-то давно?
– Может, где и встречались, – ведун, чуть помедлив, пожал плечами. – Жизнь сталкивала меня со многими жрецами, но тебя я что-то не припомню.
– Да, – Инциус печально покачал головой и бросил на ведуна взгляд, полный скорби. – Я тоже повидал немало твоих собратьев.
– Мне показалось, или я и правда вижу в твоем взгляде сочувствие? – удивленно спросил ведун.
Поколебавшись, жрец снова глянул ему в глаза.
– Нет, не показалось.
– Ну-у, – разочарованно протянул ведун. – Вот уж это ты совсем напрасно! Старая песня…
– Почему же? – жрец огладил бороду. – Я, может быть, лучше других знаю твою долю, знаю, что ведунами не становятся по собственной воле. Знаю, что ваши судьбы исковерканы колдовством. Знаю, что каждый из вас обречен на одиночество, знаю, что вы отвергаете волю Богов, а вместе с ней и их покровительство и помощь. Вы отрекаетесь от своего прошлого, а значит, отрекаетесь от самих себя. Это страшная участь… Так почему бы мне тебе не посочувствовать?
– Да, мрачная картина, – ведун усмехнулся, – только не совсем верная. Действительно, теми, кто мы есть, не часто становятся по собственной воле. Это правда. Но мы не отрекаемся ни от себя, ни от прошлого, ни от Богов. Скорее прошлое отрекается от нас таких, какими мы себя делаем. А Боги теряют к нам интерес и перестают нас замечать. И все же, несмотря на нашу «страшную участь», в Синегорье каждый год приходит немало людей, которые ХОТЯТ, чтобы из них сделали ведунов. Для них моя судьба – предел мечтаний. По крайней мере, сами они думают именно так. Так что ты с равным основанием мог бы мне и позавидовать!
– Я не могу, – жрец покачал головой. – Не могу завидовать душам, опоганенным колдовством. И глупцам, которые сами к этому стремятся.
– Ой, не надо! – ведун поднял ладонь и поморщился. – Мы ведь оба знаем, что дело тут совсем не в колдовстве. И потом, мне тоже известно кое-что такое, о чем вы, жрецы, предпочитаете особенно не распространяться. Так что давай оставим колдовство в покое!
Жрец недовольно нахмурился, но смолчал.
– А вообще, ты не поверишь, если я скажу тебе, сколько раз меня пытались втянуть в подобные разговоры! Все эти бесконечные намеки на неестественность моего происхождения порой наводят на мысль о существовании целого заговора, который ставит своей целью выведать Страшную Тайну Ведунов. Меня как будто раз за разом подталкивают к этой теме в надежде, что однажды я забудусь, проговорюсь ненароком и выдам эту самую Тайну!
– А ты не проговоришься? – с улыбкой спросил жрец.
– Проговорюсь! – с готовностью откликнулся ведун. – Как проговаривался уже десятки раз. Самая страшная тайна ведунов заключается в том, что у них нет никакой тайны! Мы не храним никаких секретов, мы не избранные, не особенные, не таинственные. Мы просто те, кто знает чуть больше других. И не потому, что достойны знаний больше прочих, а потому, что эти прочие просто НЕ ХОТЯТ знать то, что знаем мы.
– Тогда почему вы не делитесь им с теми, кто приходит в Синегорье в надежде стать ведуном? – пряча улыбку в бороде, поинтересовался жрец.
– Именно поэтому, – уверенно кивнул ведун. – Давать знание тому, кто на самом деле не хочет да и не готов его принять – бесполезно и опасно. В первую очередь для самих соискателей! Эти люди приходят не за знанием. Они хотят всего, чего угодно: отомстить врагам, возвысится, доказать самим себе, что они чего-то стоят. Они полагают, что знание ведунов сделает их всемогущими или, на худой конец, защитит от трудностей и напастей повседневной жизни. Некоторые могут перешагнуть через это, большинство – нет. Такие изо всех сил цепляются за свое теперешнее «я» и сами отрезают себе путь к изменению. Эти люди не понимают, что ты можешь использовать знание лишь в том случае, если даешь знанию использовать тебя самого. Но это означает отступиться от своего «я», а к этому они не готовы. Таких людей мой наставник называл «дырявыми горшками» – в таком, сколько не лей, все одно ничего ни удержится.
– А я? – жрец испытывающе посмотрел ведуну в глаза. – Я мог бы вместить ваше знание?
– Нет, – ведун покачал головой. – Ты тоже дырявый горшок. У тебя своя правда о мире и от чужой тебе будет мало толку. Даже если ты честно, от всей души, попытаешься сердцем принять эту чужую правду, будет только хуже. В лучшем случае, это будет твоим концом.
– А в худшем?
– Концом правды.
Жрец хмыкнул и покачал головой.
– Скажи, ведун, а как вообще можно использовать ваше знание? Я говорю не о повседневной жизни – здесь все более-менее понятно. Но ведь есть же у вас какая-то высшая цель! Вы говорите, что не хотите ни богатства, ни власти, ни всемогущества, ни даже бессмертия. Тогда чего вы хотите? Зачем вам знать?
– Чтобы знать, – не задумываясь, ответил ведун. – Чтобы преодолеть обман мороков и увидеть мир таким, каков он есть на самом деле. Никаким. Чтобы показать этот мир другим.
– А если эти «другие» не хотят видеть этот ваш «никакой» мир? – сукором спросил жрец. – Почему вы считаете себя вправе идти против желания людей и насильно превращать их в ведунов? Ведь те, кто приходит к вам, хотят совсем не этого! Почему же вы, желая избавить людей от обмана мороков, – которые еще неизвестно, существуют ли! – начинаете с того, что сами обманываете их ожидания?
– Потому что их ожидания не имеют никакого значения, – отрезал ведун. – Есть знание и есть человек, готовый его принять, вот и все. Не всегда человек выбирает знание, чаще знание выбирает человека.
– И как же вы определяете, кого именно оно выбрало? – с кислой улыбкой поинтересовался жрец.
– Как? – ведун, поджав губы, покачал головой. – А, пожалуй, я и не смогу тебе ответить! Как знахарь отличает целебную травку от ядовитой? Он просто разбирается в травах. Знающие разбираются в людях. Вот и весь секрет. Действительно, большинство из тех, кто приходит в горы, возвращаются обратно не солоно хлебавши. Но некоторые из них способны принять нашу правду. А значит, ДОЛЖНЫ ее принять.
– И все таки это обман… – гнул свое жрец.
– Ну, почему сразу обман? – ведун усмехнулся. – Ребенка тоже не спрашивают перед рождением, хочет ли он появляться на этот свет. Выходит, родители его обманывают?
– Мы не можем спросить у не родившегося ребенка о его желаниях, – резонно заметил жрец.
– А если б могли, спросили бы? – с улыбкой спросил ведун. – Посмотри вокруг, Инциус, часто ли родители спрашиваю у своих уже родившихся и даже довольно взрослых детей, чего те хотят в этой жизни? Часто ли родители принимают в расчет желания своих детей? Они полагают, что лучше знают, что нужно и чего не нужно их отпрыскам, и поступают в соответствии со своими резонами. Так почему ты не винишь их за это?
Жрец печально вздохнул, всем своим видом давая понять, что собеседник не уловил смысла его вопроса.
– Все это я уже слышал и не однажды.
– Ну а чего ж ты хотел?
– Чтобы ты проговорился! – помедлив, рассмеялся жрец.
Ведун покачал головой и махнул рукой безнадежно, мол. Бестолковый разговор.
– Ну, это ладно, – вздохнув, продолжил жрец. – Все бы было ничего, если бы не одно «но»… Вы вот говорите, что колдовство для вас не главное, что оно-де для вас особой важности не имеет. И хорошо бы, кабы так, но ведь, учеников своих воспитывая, не обходитесь вы без этого самого колдовства! Слишком уж необычны способности ваши и умения, чтоб без колдовства обошлось. Ведь не обошлось? То-то и оно… – Инциус скорбно нахмурил седые брови. – А ведь когда колдовские силы в душу человеческую исподволь да обманным путем проникают, вред они нашему миру наносят куда как больший, чем даже через тех, кто хоть и по заблуждению, но сам, своей доброй волей, в свою душу их пускает!
– Так вот ты о чем! – усмехнулся ведун. – Скажи, а видел ты хоть одного колдуна, который обладал бы… хм, «способностями», подобными нашим?
– Нет! – жрец хлопнул ладонью по колену. – В том-то и штука! Вы, ведуны, по всему видать, пользуетесь какими-то неведомыми нам заклинаниями, и никак не можем мы понять, в чем их секрет! Ваши чары как бы и не нарушают изначального Равновесия Сил и, вроде бы, даже не идут наперекор замыслам Богов. Этого не может быть, но это есть!
– Да, загадка, – ведун покачал головой. – А между тем секрет прост. Видимо, даже слишком прост для вас. Все дело в том, что боитесь вы держать ответ за свою собственную жизнь. Все ищите, кто бы за вас решил, а заодно уж решенное и воплотил! Колдуны полагаются на помощь потусторонних сил, которые вы, жрецы, считаете «темными». Сами жрецы надеются на Волю Богов. А мы, ведуны, рассчитываем только на себя. Почему так? Вы все – и колдуны, и жрецы, и те, кто идет за вами и верит в вашу правду, – так или иначе считаете себя пупами земли, любимым детищем всемогущих сил, создавших этот мир. Вы называете эти силы по-разному, но все как один полагаете, что все их внимание клином сходится на вас, и что этим силам больше нечем заняться, кроме как помогать вам или пакостить. Вы мните, будто можете понять волю этих сил, или даже пуще того: навязать им свою волю. Откуда у вас эта уверенность, жрец? Я лично не знал ни одного колдуна, который умер бы естественной смертью. А те, кто пока еще живы, не производят впечатления счастливых и веселых людей. Глядя на них, и вправду скорее поверишь в то, что потусторонние силы управляют ими, чем в то, что они управляют этими силами. А ты сам, жрец? Да, в незапамятные времена Боги оставили людям сокровенное знание, которое могло бы уберечь их от многих бед. Вы храните это знание и, как умеете, используете его, но присутствуют ли в этом сами ваши Боги? Вы полагаете, что да. Но, положа руку на сердце, скажи, был ли у тебя в жизни хоть один случай, когда ты мог бы с полной уверенностью и без всяких сомнений сказать, что однозначно и до конца понял волю своих Богов? Или, может, они хоть один раз исполнили твою просьбу в точности так, как ты этого хотел?
Инциус молчал.
– Вот то-то и оно. Силам, которые управляют этим миром, нет до нас с тобой никакого дела. Им безразличны наши суетные, мимолетные жизни. Да, они управляют нашими жизнями, но делают это мимоходом, без всякого специального намерения. Когда дует ветер, деревья раскачиваются. Но кто может сказать, что ветер дует для того, чтобы раскачивать деревья? И что он перестанет дуть, если завтра все деревья исчезнут с лица земли? Человек одинок в этом мире, и, если он хочет прожить свой смехотворно короткий век свободным – насколько это вообще для него возможно, – он должен рассчитывать только на себя, на свою силу. И силу эту можно назвать как угодно – хоть бы и колдовством, раз тебе так больше нравится! Суть не в этом. В мире и правда идет борьба, Инциус, но не между Светлыми Богами и темными, колдовскими силами. Нет! Это борьба между людьми, между разными сортами человеческой глупости. А мы уходим от борьбы. Потому-то наше «колдовство» и не нарушает Равновесия. Потому и непонятно оно ни вам, ни настоящим колдунам. Вам ведь понимать-то некогда, вам воевать друг с другом надо!
Жрец, до этого молча слушавший, скептически хмыкнул, выражая явное неверие в слова собеседника. Ведун ответил снисходительной улыбкой.
– Вижу, ты меня не понял. Помочь только не могу, – ведун без спросу долил в свой бокал чаю и показал его жрецу. – Смотри, бокал полон. Если я сейчас начну доливать в него чай, он польется через край, и вместо того, чтобы принести мне пользу и удовольствие, обожжет мою руку. Спорить с тобой – это то же самое, что подливать чай в полный бокал. Твой ум так переполнен собственной «правдой», что уже не в состоянии вместить ни капли чужой. А между тем все просто! Ты, жрец, задаешься не тем вопросом. Одним и тем же топором можно нарубить дров, отрубить себе ногу или проломить обухом чей-нибудь лоб. Главное не ЧТО использовать, а КАК и ЗАЧЕМ. Вот и весь наш секрет. Многие люди полагают, что ведуны только и делают, что ходят по миру да истребляют чудищ, попутно досаждая добрым людям своими нечестивыми ритуалами. Но ты-то должен знать, что это не так! Ведунами становятся не для того, чтобы охотиться на нежить. Да, мы порой делаем это и берем за это плату. Но это не цель и даже не средство. Это просто один из способов следования нашему пути.
– И все же ты убиваешь, – помолчав, задумчиво проговорил жрец. – Сколько крови на твоих руках? Сколько отнятых жизней на твоей совести? Не тяготит?






