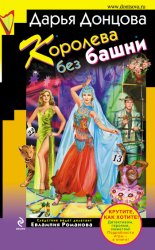Весь мир театр Акунин Борис

Он выбежал на крыльцо, но Царя, конечно, след простыл. Гоняться за ним по темному парку было делом безнадежным.
Вернувшись в кабинет, Фандорин позвонил Субботину домой – слава Богу, по нынешним правилам всякому чиновнику сыскной полиции полагался дома телефонный аппарат. Коротко рассказал о происшедшем. Сергей Никифорович пообещал прислать полицейских из ближайшего участка, Четвертого Мещанского, а также прибыть лично.
Ассистенту Эраст Петрович сказал:
– Уходите. Только, ради Бога, другим путем – в сторону проспекта. Скорее всего, пинчеры прибудут сюда быстрей, чем полиция.
– И не подумаю. – Девяткин подвязал себе щеку преогромным носовым платком и стал еще больше похож на Рыцаря Печального Образа. – Чтоб я вас бросил здесь одного? Никогда!
«Ах, Маса, как же мне тебя не хватает», – тоскливо подумал Эраст Петрович.
Как ни странно, полиция прибыла первой. А, может быть, ничего странного: надо полагать, «пинчеры» встретили на пути к дому Царя, и тот увел их от греха подальше. Трудно было бы представить Августа Ивановича в роли полководца, руководящего штурмом укрепленной позиции.
Чтоб не терять времени в ожидании – неважно, атаки или подмоги – Фандорин велел горе-помощнику следить за подступами к дому, а сам взялся за более подробное изучение архива. К приезду Субботина (тот прикатил на пролетке примерно через полчаса после прибытия местных полицейских) план последующих действий более или менее определился.
– Вопросов два, – сказал Эраст Петрович чиновнику в разговоре с глазу на глаз, предварительно рассказав, как было дело. – Первый: где искать Царя? Второй: что делать с этим? – Он кивнул на американские шкафы.
– Погубить меня хотите? Папки не возьму. Тут пол-Москвы, включая почти все мое начальство. Это меня не удивляет. Мир и люди, живущие в нем, несовершенны, я давно знаю. Господь Бог рано или поздно воздает каждому по делам его. – Титулярный советник кивнул на труп Мистера Свиста, уже положенный на носилки, но еще не погруженный в полицейскую карету. – Вот что, Эраст Петрович. Вы лучше заберите этот динамит к себе. У вас целее будет. В протоколе осмотра я напишу, что шкафы пустые. Что ж касается господина Царькова, в городе мы его больше не увидим. Он не дурак и отлично понимает: ему сошла бы с рук любая шалость, но только не утрата этакой картотеки. Считайте, что Царь отправился в добровольное изгнание и отказался от престола.
– Зато я от Царя не отказался, – грозно сказал Фандорин, задетый неуспехом операции. – За ним два убийства. Я добуду Августа Ивановича хоть из-под земли.
– Да где вы его станете искать? Земля-то большая.
Эраст Петрович показал на стопку папок.
– Концерн нашего приятеля имеет три филиала: в Петербурге, Варшаве и Одессе. Там у Царя свои люди, свои деловые интересы. Имена и адреса все обозначены. Уверен, что он ретируется в один из этих трех г-городов. Я должен вычислить, куда именно преступник направится – на север, на запад или на юг.
– Вычислить? Но как?
– Не б-беспокойтесь. На то есть дедукция. Вычислю и доставлю обратно как миленького, – с мечтательной улыбкой пообещал Фандорин, предвкушая работу, которой можно забыться.
Возвращение
В Москву он вернулся в первый день ноября. С пустыми руками, зато почти исцеленный.
Свое обещание Фандорин выполнил только наполовину. Правильно вычислил город, куда сбежал Царьков: Варшава. Там у Августа Ивановича предприятие было поставлено на более широкую ногу, чем в Петербурге или Одессе. К тому же в случае неприятностей прямо под боком находилась граница. Этим аварийным выходом Царь и воспользовался, как только пронюхал, что в столицу генерал-губернаторства прибыл некий седовласый господин, очень хорошо осведомленный обо всех варшавских контактах беглого москвича.
Погоня продолжалась по всей Германии и закончилась в гамбургском порту. Всего на двадцать минут опоздал Фандорин – и увидел корму парохода, на котором затравленный Царь улепетывал в Америку. Сгоряча Эраст Петрович хотел купить билет на следующий рейс. Взять эмигранта в Нью-Йорке было бы проще простого – довольно послать в агентство Пинкертона телеграмму, чтобы встретили гостя на причале и не спускали с него глаз до фандоринского прибытия.
Но азарт, питавший Эраста Петровича все дни преследования, начинал выветриваться. Овчинка не стоила выделки. История с экстрадицией растянется на долгие месяцы, исход ее туманен. В конце концов, Царь сам никого не убивал, исполнитель и единственный свидетель мертв, доказать причастность подозреваемого к преступлениям, совершенным на другом конце света, будет практически невозможно. Но даже если Царькова выдадут, можно не сомневаться, что судить его в Москве никто не станет. Городским властям скандальный процесс с неминуемыми разоблачениями совершенно не нужен. Если бы Фандорин доставил Царя в Первопрестольную, это никого бы не обрадовало.
Назад Эраст Петрович ехал, освеженный погоней, а двое суток в купе помогли ему привести в порядок мысли и чувства. Кажется, теперь он был готов вернуться к жизни, в которой главенствуют разум и достоинство.
Глубокое заблуждение полагать, будто умный человек умен во всем. Он умен в материях, требующих ума, а в делах, касающихся сердца, бывает очень и очень глуп. Свою глупость Эраст Петрович признал, посыпал голову пеплом и твердо вознамерился исправиться.
Что такое, в сущности, «ум» и «глупость»? То же самое, что «взрослость» и «инфантильность». В этой нелепой истории он все время поступал по-детски. А нужно вести себя по-взрослому. Восстановить нормальные отношения с Масой. Перестать дуться на Элизу, которая ни в чем не виновата. Она такая, какая есть – незаурядная женщина, великая актриса, а что не любит, тут ничего не поделаешь. Сердцу, как говорится, не прикажешь. Умеет ли оно вообще любить, сердце актрисы? Так или иначе, Элиза заслуживает ровного, уважительного отношения. Без мальчишеских взглядов украдкой, без дурацких обид, без ревности, на которую нет никакого права.
Прямо с Александровского вокзала он поехал в театр, где как раз должна была идти репетиция. Из газет Фандорин знал, что за время его отсутствия «Кометы» были сыграны дважды, с триумфом. Очень хвалили госпожу Альтаирскую-Луантэн, не меньше восторгались ее партнером, которого именовали не иначе как «настоящий японец г. Газонов». С особенным удовлетворением рецензенты отмечали, что билеты на спектакль сделались доступнее, поскольку доблестная московская полиция наконец сумела разогнать сеть театральных барышников. Следующее представление «восточной пьесы» расчетливый Штерн отсрочил на две недели – очевидно, чтобы не спал ажиотаж.
По лестнице, ведущей к зрительному залу, Эраст Петрович поднимался в совершенном спокойствии. Однако в фойе его ждал сюрприз: там прохаживалась Элиза. Он заметил ее первой. При виде стройной фигуры, перехваченной в талии широким поясом, сердце замерло, но всего на мгновение – хороший знак.
– Здравствуйте, – сказал он негромко. – Что ж вы не на репетиции?
Она порозовела.
– Вы…? Как долго вас не было!
– Я ездил в Европу, по делу.
Он мог быть собой доволен: голос ровный, приветливый, благожелательная улыбка, никакого заикания. Элиза выглядела более взволнованной, чем он.
– Да, Маса сказал, что вы оставили записку и уехали… И Девяткину вы тоже написали. Почему именно ему? Это странно…
Она говорила одно, а думала, кажется, о другом. Смотрела, словно хочет что-то сказать, но не решается.
Из зала неслись крики. Эраст Петрович разобрал голос главного режиссера.
– Отчего Ной Ноевич ругается? – спросил Фандорин с легкой улыбкой. – Неужто вы провинились, и он вас выставил за дверь?
Он сделал вид, что не замечает ее смущения. Не желал поддаваться на актерские уловки. Вероятно, Элиза женским инстинктом почувствовала, что он изменился, выпутался из паутины, и теперь она хочет снова вовлечь его в свой зыбкий, неверный мир. Такова натура артистки – не может примириться с потерей обожателя.
Но Элиза приняла его шутливый тон:
– Нет, я сама вышла. Там у нас очередной казус. Опять в «Скрижалях» кто-то написал про бенефис.
Не сразу Фандорин понял, о чем речь. Потом вспомнил, как во время самого первого знакомства с труппой, еще в сентябре, в священном журнале появилась непонятная запись: до бенефиса осталось сколько-то там единиц, и Штерн возмущался из-за «кощунства».
– Шутка, повторенная д-дважды? Глупо.
«Снова заикаюсь, – подумал он. – Ничего. Это признак, что спадает напряжение».
– Не дважды, а трижды. – Ее глаза, как всегда, смотрели на него и в то же время будто бы мимо. – С месяц назад кто-то снова написал про единицы. В первый раз было восемь единиц, во второй семь, а сегодня почему-то пять. Наверное, шутник сбился со счета…
И опять возникло ощущение, что она говорит не о том, о чем думает.
– В третий раз? – Он нахмурился. – Для шутки, даже глупой, м-многовато. Я попрошу Ноя Ноевича показать мне «Скрижали».
– А знаете, – сказала вдруг Элиза. – Мне сделали предложение.
– Какое? – спросил он, хотя сразу догадался, о чем речь.
Ах, сердце, сердце! Вроде бы обо всем с ним договорился, а все равно подвело – затрепетало.
– Руки и сердца.
Он заставил себя улыбнуться.
– Кто ж смельчак?
«Зря сыронизировал, прозвучало уязвленно!»
– Андрей Гордеевич Шустров.
– А-а. Ну что ж, человек серьезный. И молодой.
«Зачем я сказал „молодой“? Как будто посетовал, что сам немолод!»
Так вот о чем ей хотелось поговорить. Совета, что ли, будет просить? Ну уж нет, слуга покорный.
– Прекрасная партия. Соглашайтесь.
«А вот это прозвучало неплохо».
Ее лицо сделалось таким несчастным, что Эраст Петрович устыдился. Все-таки опять смальчишествовал. Взрослый человек доставил бы даме удовольствие: изобразил бы ревность, внутренне оставаясь невозмутим.
Актриса и миллионер – идеальная пара. Талант и деньги, красота и энергия, чувство и расчет, цветок и камень, лед и пламень. Шустров сделает ее всероссийским, а то и мировым «старом», а она в благодарность превратит арифметическую жизнь предпринимателя в фейерверк и праздник.
Внутри всё клокотало.
– П-простите, мне пора.
– Вы возвращаетесь? А в зал не пойдете?
– Дело есть. Совсем забыл. Завтра зайду, – отрывисто сказал он.
«Нужно еще поработать над собой. Самоконтроль, выдержка, дисциплина. И очень хорошо, что она выходит замуж. Совет да любовь. Теперь уж совсем кончено, – шептал Фандорин, спускаясь по лестнице. – Кажется, я собирался что-то сделать?»
Но мысли путались.
Ладно, потом. Всё потом.
До бенефиса четыре единицы
Какая дура!
Прекрасная партия. Соглашайтесь. До чего равнодушно он это сказал!
Какая дура! Столько дней ждала этого разговора, нафантазировала себе разных мелодраматических сцен. Она объявит о грядущем замужестве – и он зальется смертельной бледностью, станет говорить жаркие, страстные слова. Она скажет: «Милый, бесконечно милый, если б вы только знали…» – и всё, пауза. Дальше только дрожание губ, слезинка на ресницах, боль в глазах и улыбка на устах. Элиза даже посмотрела в зеркале, как это будет выглядеть. Получилось очень сильно. Артистическая половина ее души зафиксировала выражение лица для будущего использования. Но боль была настоящая, слезы тем более.
Боже, Боже, как долго он отсутствовал! Эту любовь она себе выдумала, ее нет и не было. Если мужчина любит, он не может не чувствовать, что ты отчаянно, безумно в нем нуждаешься. Мало ли, что ты сказала и как себя повела. Слова – это всего лишь слова, а поступки бывают импульсивны.
Объяснение может быть одно. Он не любит и не любил. Всё тривиально. Выражаясь языком Симочки, «мужчинам от нашей сестры нужно только одно». Этого господин Фандорин добился, свое мужское тщеславие потешил, донжуанский список пополнил знаменитой актрисой – и больше ему ничего не нужно. Естественно, что весть о ее предстоящем браке он воспринял с облегчением.
Глупо было ждать его возвращения, будто это могло что-то изменить. Достаточно вспомнить, как Эраст повел себя в кошмарный вечер, когда погиб Лимбах. Ни слова участия, ни ласкового прикосновения, ничего. Несколько странных вопросов, заданных холодным, неприязненным тоном. И потом перед репетицией… Она была вся полна нежности, распахнута ему навстречу, а он даже не подошел.
Несомненно, он, как многие другие, осуждает ее. Думает, что она из кокетства свела с ума бедного юношу и тот наложил на себя руки.
Кошмарнее всего, что нельзя рассказать правду. Никому. Особенно человеку, мнение и сочувствие которого нужнее всего…
Четвертый удар Чингиз-хана был самым жестоким.
Гибель антрепренера Фурштатского и тенора Астралова Элиза своими глазами не видела. В уборную, где лежал мертвый Смарагдов, хоть и заглянула, но еще не догадываясь, что он отравлен. Зато на этот раз смерть – насильственная, грубая – предстала перед ней во всей своей кровавой мерзости и безжалостной внезапности. Что за зрелище! А запах, тошнотворный сырой запах только что выпотрошенной жизни! Такое не забудешь.
С какой жестокостью хан выбрал момент! Будто сам Сатана подсказал ему, когда лучше застать ее врасплох, чтоб она была полна радостью бытия, празднично возбуждена, открыта всему миру.
Премьера – день особенный. Если спектакль удался, ты хорошо играла и публика принадлежала тебе вся без остатка – с этим ничто не может сравниться, никакое иное наслаждение. Чувствовать себя самой любимой, самой желанной! В тот вечер Элиза, подобно ее японской героине, ощущала себя летящей по небу кометой.
Она жила ролью, но в то же время зрение и слух существовали сами по себе, успевая следить за публикой. Элиза видела всё – даже то, что увидеть невозможно: радужные волны сопереживания и восторга, колышущиеся над рядами. Разглядела она и Эраста, сидевшего в ложе для важных гостей. Пока Элиза находилась на сцене, он почти не отрывался от бинокля, и это возбуждало ее еще сильнее. Она хотела быть прекрасной для всех, но для него больше, чем для кого бы то ни было. В такие минуты Элиза чувствовала себя волшебницей, насылающей на зал незримые чары – и действительно была ею.
Высмотрела она и своих постоянных поклонников. Некоторые специально приехали на премьеру из Петербурга. Но Лимбаха не было. Это показалось ей странным. Наверное, опять угодил на гауптвахту. Как некстати! Она не сомневалась, что корнет сегодня придет ее поздравить, и тогда можно будет назначить ему свидание. Не для глупостей, а для серьезного разговора. Если он паладин и рыцарь, пусть избавит даму сердца от Дракона, от Идолища Поганого!
Идолище, разумеется, тоже было в зале. Нарочно опоздало, чтобы обратить на себя ее внимание. Хан Альтаирский вошел во время ее танца и демонстративно встал в дверях, похожий своей квадратной, четко очерченной фигурой на Мефистофеля. В красноватом свете горевшей над входом лампочки его плешь сверкнула багровым нимбом Сатаны. По правилам «Ноева ковчега», после начала спектакля в зал никого не пускали, и в проеме страшный человек красовался недолго. Примчался капельдинер, попросил опоздавшего выйти. Элиза увидела в этом благое предзнаменование – ничто не омрачит премьеры. Боже, как ужасно она ошиблась…
После спектакля, во время банкета, она сделала себе подарок: обняла Эраста, поцеловала и, назвав «милым», тихо попросила прощения за случившееся. Он ничего не ответил, но в тот миг он любил ее – Элиза это почувствовала! Ее все любили! А вдохновенная речь о таинстве театра, которую она произнесла экспромтом, имела невероятный успех. Произвести впечатление на своего брата актера (особенно свою сестру актрису) – это чего-нибудь стоит!
Когда Шустров попросил ее выйти для «важного разговора», она сразу поняла: будет признаваться в любви. И пошла. Потому что хотела послушать, как он это проговорит – такой умный, взвешенный, сам Штерн перед ним хвостом виляет. Розу подарил, какую-то хитрую, технологически обработанную. Смешной!
Андрей Гордеевич ее удивил. Про чувства не говорил совсем. Едва вышли в коридор, сразу бухнул: «Выходите за меня. Не пожалеете». И смотрит своими никогда не улыбающимися глазами: мол, чего зря слова тратить, вопрос поставлен – пожалуйте ответ.
Но так просто она его, конечно, не выпустила.
– Вы в меня влюбились? – Улыбку в уголках рта слегка наметила, бровями вверх повела – чуть-чуть. Будто сейчас прыснет. – Вы? Как сказал бы Станиславский, «не верю»!
Шустров, будто на заседании правления или директората, принялся детализировать:
– По правде сказать, я не знаю, что имеют в виду, когда говорят про любовь. Вероятно, каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Но хорошо, что вы спросили. Честность – непременное условие долгого, плодотворного сотрудничества, именуемого «браком». – Он вытер платком лоб. Очевидно, беседа о чувствах давалась миллионеру нелегко. – Я больше всего люблю дело, которым занимаюсь. Жизнь за него отдам. Вы мне нужны и как женщина, и как великая актриса. Вдвоем мы своротим горы. Отдам ли я за вас жизнь? Несомненно. Буду ли я вас любить, если вы перестанете представлять интерес для моего дела? Не знаю. Это я вам со всей честностью, потому что без честности…
– Вы про честность уже объяснили, – изо всех сил стараясь не расхохотаться, сказала она. – Когда дали формулировку брака.
Они шли по коридору артистического этажа, до ее уборной оставалось несколько шагов.
– Я вам не только себя предлагаю. – Шустров взял ее за руку, остановил. – Я положу к вашим ногам весь мир. Он будет наш – мой и ваш. Вас он будет любить, а я его буду доить.
– Как это «доить»? – она подумала, что ослышалась.
– Как корову, за вымя. А молоко станем пить вместе.
Они пошли дальше. Настроение Элизы вдруг изменилось. Ей уже не было смешно. И дразнить Шустрова тоже расхотелось.
«А что, если мне его Бог послал? – думала Элиза. – Чтобы спасти от страшного греха. Ведь я собираюсь из страха, из эгоизма рисковать жизнью влюбленного мальчика. Андрей Гордеевич – не зеленый юнец. Он сумеет защитить свою суженую».
Она повернула ручку двери и удивилась – комната была заперта.
– Должно быть, уборщик закрыл. Надо взять ключ со щита.
Терпеливо, по видимости совершенно спокойно миллионер ждал ответа.
– Есть одно осложнение, – не поднимая глаз, сказала Элиза, когда вернулась. – Формально я замужем.
– Знаю, мне докладывали. Муж, отставной гвардии ротмистр хан Альтаирский, не дает вам развод. – Шустров слегка двинул плечом. – Это проблема, но всякая проблема имеет решение. У очень трудной проблемы может быть очень дорогое решение, но оно есть всегда.
– Вы думаете от него откупиться?!
«А в самом деле? Чингиз-хан привык жить на широкую ногу, он любит роскошь… Нет, откажется. Злоба в нем сильнее алчности…»
Вслух она произнесла:
– У вас ничего не выйдет.
– Так не бывает, – уверенно отвечал он. – У меня всегда что-нибудь выходит. Обычно именно то, к чему я стремлюсь.
Элиза вспомнила слухи, ходившие в труппе: о том, как безжалостно и энергично шел этот купеческий сынок к огромному богатству. Наверняка он повидал всякое, преодолел множество преград и опасностей. Серьезный человек! Такой слов на ветер бросать не станет. Вот кому, наверное, можно рассказать о Чингиз-хане правду…
– Я займусь вопросом вашей юридической свободы, как только получу на это право – в качестве вашего жениха.
Он снова взял ее руку, поглядел, будто решая – поцеловать, не поцеловать. Не поцеловал – пожал.
– Мне нужно всё обдумать… Как следует, – слабым голосом молвила она.
– Естественно. Каждое важное решение нужно всесторонне взвешивать. Три недели на обдумывание вам хватит?
Ее ладонь он выпустил – как вещь, в права владения которой пока еще не вступил.
– Почему именно три недели?
– Двадцать один день. Это число приносит мне удачу.
Впервые с тех пор, как она знала Андрея Гордеевича, он улыбнулся. Это поразило ее не меньше, чем если бы в небе средь темной ночи вдруг выглянуло солнце.
Только в это мгновение Элиза дрогнула сердцем.
Он не арифмометр! Он живой человек! Его придется любить. И что, если он захочет детей? Ведь «плодотворное сотрудничество, именуемое браком» действительно приносит плоды. Миллионеры вечно желают иметь наследников.
– Хорошо. Я подумаю…
Она повернула ключ, открыла дверь – и в нос ударило запахом смерти. Элиза закричала, зажмурила глаза, но они успели воспринять кровавое послание, которое адресовал ей изверг. Оно гласило: «Ты – моя. Всякий, кто смеет к тебе приблизиться, умрет страшной смертью».
Никто кроме Элизы не понял и не мог понять, что произошло на самом деле. Чингиз-хан, как обычно, устроил все с дьявольской изобретательностью. Все вокруг ахали, толковали о самоубийстве и жалели бедного, свихнувшегося от любви мальчишку. Элизе адресовали слова сочувствия, по большей части фальшивого, и жадно на нее пялились, будто в ней что-то изменилось. Ной Ноевич, тоже поужасавшись, тихо сказал: «Ну, Элизочка, поздравляю. Самоубийство поклонника – высший комплимент для актрисы. На следующий спектакль места будут брать штурмом». Все-таки в человеке, до такой степени одержимом театральностью, есть нечто пугающее.
Она сидела в фойе, ждала вызова к следователю, Симочка давала ей капли, Вася укутывал шалью. Внешне Элиза вела себя, как требовали ситуация и натура актрисы: с умеренной некрасивостью рыдала, дрожала плечами, заламывала руки, сжимала себе виски и прочее. Но думала не актерское, а женское. Собственно, мысль крутилась всего одна, неотступная: выбора нет, нужно выходить за нелюбимого. Если кто-то на свете и мог ее спасти от исчадия, то лишь Шустров с его миллионами, его уверенностью, его силой.
С какой же тоской смотрела она на Эраста, когда он задавал ей свои вопросы, пытался разобраться в тайне, ответ к которой знала только Элиза. Фандорин был великолепен. Он один не растерялся, когда все кричали и бегали. Все сразу инстинктивно начали его слушаться. А как иначе? В нем столько природной значительности! Она была ощутима всегда, но особенно проявилась в минуту кризиса. Ах, если б он, подобно Шустрову, обладал мощью и влиянием! Но Эраст всего лишь «путешественник», одиночка. Ему не справиться с Чингиз-ханом. В любом случае, она ни за что не согласилась бы подвергать жизнь Фандорина опасности. Пусть живет, пусть пишет пьесы. Брак с Андреем Гордеевичем – это способ спасти не только себя, но и Эраста! Если хан, с его сатанинской вездесущестью, пронюхает о том, что она была в связи с драматургом, ему конец. Нужно держаться от Фандорина подальше, хотя единственное, чего ей хотелось, – спрятать лицо у него на груди, вцепиться в него крепко-крепко, изо всех сил, и будь что будет.
Это преступное желание стало почти нестерпимым после долгого разговора с японцем.
Вечером, после репетиции (семнадцатого октября это было, в понедельник), она попросила Масу проводить ее до гостиницы. Ехать на авто не хотелось, потому что выдался чудесный осенний вечер, а идти одна Элиза боялась – за каждым утлом ей мерещилась тень Чингиз-хана. Пугала и мысль о вечере в пустом номере, о бессонной ночи. А еще хотелось поговорить о нем.
Разговор, начавшийся по дороге, был продолжен за ужином в «Массандре», а потом в гостиничном вестибюле. В номер Элиза партнера не пригласила – чтобы у Чингиз-хана, если он за нею следит, не возникло ревнивых подозрений. Она не имела права подвергать опасности жизнь славного «Михаила Эрастовича». Он очень ей нравился, и чем дальше, тем больше. Симпатичный, будто слегка пришепетывающий акцент не казался ей смешным – через пять минут она переставала замечать, что Маса неправильно произносит какие-то русские звуки. А сам японец оказался не только способным актером, но и в высшей степени приятным человеком. Эрасту очень повезло с другом.
Ах, сколько новых, важных вещей о любимом узнала от него Элиза! Даже не заметила, как пролетела ночь. Из ресторана в «Лувр» они пришли за полночь, устроились в удобных креслах, попросили чаю (Маса – с ватрушками) и говорили, говорили. Потом смотрят – на улице уже светает. Она поднялась в номер, привела себя в порядок, переоделась, вместе позавтракали в гостиничном буфете, а там уж пора и на репетицию.
Так откровенно и доверительно Элиза ни с кем еще не разговаривала. Притом о вещах, которые ее больше всего волновали. Какое удовольствие беседовать с мужчиной, который не смотрит на тебя с вожделением, не рисуется, не пытается произвести впечатление. Вася Простаков тоже из породы не ухажеров, а друзей, но собеседник из него так себе. Ни умом, ни знанием жизни, ни меткостью наблюдений с японцем ему не сравниться.
Ночь пролетела незаметно, потому что говорили о любви.
Маса рассказывал про своего «господина» (так он называл своего крестного отца). Какой тот благородный, талантливый, бесстрашный и умный. «Он вас любит, – сказал японец, – и это его мучает. Единственное, чего он боится на свете, это любви. Потому что те, кого он любил, погибли. Он винит себя в их смерти».
Тут Элиза вздрогнула. Как это похоже на ее ситуацию!
Стала расспрашивать.
Маса сказал, что не видел первую женщину, которую любил и потерял «господин». Это было очень давно. Но вторую знал. Это очень и очень печальная история, которую он не хочет вспоминать, потому что начнет плакать.
Но потом все-таки рассказал – нечто экзотичное и удивительное, в духе пьесы про две кометы. Он вправду заплакал, и Элиза тоже плакала. Бедный Эраст Петрович! Как жестоко обошлась с ним судьба!
«Не играйте с ним в обычные женские игры, – попросил ее Маса. – Он для них не годится. Я понимаю, вы актриса. Вы иначе не можете. Но, если вы не будете с ним искренней, вы его потеряете. Навсегда. Это было бы очень грустно для него и, думаю, для вас. Потому что мужчины, подобного господину, вы нигде больше не встретите, даже если проживете сто лет и все сто лет сохраните свою красоту».
Здесь она совсем расклеилась. Разревелась, не заботясь о том, как при этом выглядит.
«Вы сейчас не похожи на актрису, – сказал японец, подавая ей платок. – Высморкайтесь, а то нос будет распухший».
«Какой?» – гнусаво переспросила Элиза, не поняв слово «расупуфусий».
«Красный. Как слива. Сморкайтесь! Вот так, очень хорошо… Вы будете любить господина? Вы скажете завтра, что ваше сердце принадлежит только ему?»
Она замотала головой, снова заплакала.
«Ни за что на свете!»
«Почему?!»
«Потому что я его люблю. Потому что не хочу…»
Его погубить, хотела сказать Элиза.
Маса надолго задумался. Наконец сказал:
«Я думал, что хорошо понимаю женское сердце. Но вы меня удивили. „Люблю“, но „не хочу“? Вы очень интересная, Элиза-сан. Несомненно поэтому господин вас и полюбил».
Он еще долго ее уговаривал не упрямиться. Однако чем красочней расписывал японец достоинства Эраста Петровича, тем незыблемей делалась ее решимость уберечь его от беды. Но слушать все равно было приятно.
Утром, когда она увидела Фандорина на репетиции – такого обиженного, гордого, – испугалась, что не совладает с собой. Даже произнесла молитву Всевышнему, дабы Он помог ей преодолеть соблазн.
И Бог ее услышал. После того дня Эраст исчез. Уехал.
Мысленно она вела с ним нескончаемый разговор, всё готовилась к встрече. И вот встретились…
Она, конечно, тоже хороша. Все подготовленные фразы из памяти вылетели. «Знаете, мне сделали предложение». Ляпнула с ходу – сама испугалась, как легкомысленно это прозвучало.
Он и бровью не повел. «А-а, ну что ж».
Оказывается, японцы тоже ошибаются. Не очень-то, выходит, хорошо знает Маса своего «господина».
Или была любовь, да закончилась. Такое тоже бывает. Сколько угодно.
Повседневное
Так уж вышло, что вся искренность, весь душевный жар, из-за растерянности и онемения не выплеснувшиеся на Фандорина, достались человеку, хоть и хорошему, но маловажному – Васе Простакову. Он был верный, надежный друг, иногда на его плече хорошо и утешительно плакалось, но с тем же успехом она могла бы зарыться лицом в шерсть своей собаки, если б у Элизы таковая имелась.
Вася выглянул из зала через минуту после того, как Эраст повернулся и ушел. Лицо у Элизы было несчастное, в глазах слезы. Простаков, конечно, к ней кинулся – что такое? Ну, она ему всё и рассказала, облегчила сердце.
То есть не совсем всё, разумеется. Про Чингиз-хана не стала. Но о своей любовной драме поведала.
Завела Васю в ложу, чтоб никто не мешал. Закрыла лицо руками и сквозь слезы, сбивчиво заговорила – прорвало. Про то, что любит одного, а выходить должна за другого; что выбора нет; верней есть, но ужасный: влачить кошмарное существование, которое хуже смерти, либо отдаться немилому.
На сцене Штерн отрабатывал с Газоновым трюк с хождением по канату. Масе недоставало грации. Романтический герой должен соблюдать определенную строгость в жестикуляции, а японец слишком раскорячивал колени и оттопыривал локти. Остальные актеры, пользуясь перерывом, разбрелись кто куда.
Простаков взволнованно слушал, осторожно гладил ее по волосам, но никак не мог взять в толк главного.
– Ты о ком говоришь-то, Лизонька? – не выдержал он. (Вася один называл ее так, они были знакомы с театрального училища.)
Лицо недоуменное, доброе.
– О Фандорине, о ком еще!
Можно подумать, тут можно любить кого-то другого! Она заплакала навзрыд. Вася насупился:
– Он сделал тебе предложение? Но почему ты обязана за него выходить? Он старый, седой весь!
– Дурак ты! – Элиза сердито выпрямилась. – Это ты старый, жухлый! В тридцать лет выглядишь на сорок! А он… Он…
И как начала говорить про Эраста Петровича – не могла остановиться. Вася на «жухлого» не обиделся, он вообще был не из обидчивых, а уж Элизе и подавно прощал что угодно. Слушал, вздыхал, сопереживал.
Спросил:
– Значит, любишь ты драматурга. А предложение кто сделал?
Когда она ответила, присвистнул:
– Ух ты! Правда, что ли? Вот это да!
Они оба повернулись на приоткрывшуюся дверь. По театру вечно разгуливали сквозняки.
– Я еще не ответила согласием! У меня остается четыре дня на размышление, до субботы.
– Гляди, конечно… Тебе решать. Но ты сама знаешь, многие женщины, особенно актрисы, как-то умеют устраиваться. Муж – одно, любовь – другое. Обычная штука. Так что ты того, не убивайся. Шустров мильонщик, далеко пойдет. Будешь у нас хозяйкой театра. Главнее Штерна!
Да, Вася был настоящий друг. Желал ей добра. Элиза (что греха таить) за минувшие дни обдумывала и эту вероятность: отдать руку Андрею Гордеевичу, а сердце оставить Эрасту Петровичу. Но что-то ей подсказывало: ни тот, ни другой на подобный менаж не согласятся. Слишком серьезные мужчины, оба.
– Эй, кто там подслушивает? – сердито крикнул Вася. – Это не сквозняк, я видел чью-то тень!
Дверь качнулась, послышались шаги – кто-то быстро шел прочь, ступая на цыпочках.
Пока Простаков пролезал через узкий проход между кресел, любопытствующий успел исчезнуть.
– Кто бы это? – спросила Элиза.
– Кто угодно. Не труппа – банка с пауками! Каков поп, таков и приход! Штерновская теория надрыва и скандала в действии! Ну поздравляю, нынче же все узнают, что через четыре дня ты выходишь за такого человека!
Чудесный Вася по-настоящему расстроился. А Элиза не очень. Узнают – и очень хорошо. Одно дело, если б она похвасталась сама, а тут утечка произошла без ее участия. Пусть полопаются от зависти. А она еще посмотрит, выходить за «такого человека» или нет.
Однако проболтался неизвестный шпион остальным или нет, осталось непонятно. Напрямую никто с Элизой о Шустрове не заговаривал. Что же до косых, завистливых взглядов, то их на ее долю всегда хватало. Положение премьерши – розовый куст с острейшими шипами, а по части ревности театральная труппа переплюнет гарем падишаха.
И все-таки куст был розовый. Благоуханный, прекрасный. Всякий выход, даже во время репетиции, приносил сладостное забвение, когда выключаешься из мрака и страха реальной жизни. А уж спектакль – вообще беспримесное счастье. Два представления, сыгранные после премьеры, получились превосходными. Все играли с удовольствием. Пьеса давала возможность каждому актеру на время держать зал, ни с кем не делясь. А еще из-за внезапного исчезновения барышников заметно переменился состав публики. В партере стало меньше блеска драгоценностей, сияния накрахмаленных воротничков. Появились свежие, живые, преимущественно молодые лица, повысился эмоциональный градус. Зал охотнее и благодарнее реагировал, и это, в свою очередь, электризовало артистов. Главное же – на лицах не читалось жадного ожидания сенсации, скандала, этих вечных спутников штерновского театра. Люди, заплатившие спекулянтам за место в первых рядах четвертную, а то и полусотенную, желали за свои деньги увидеть больше, чем просто театральный спектакль.
Очарование роли, которая досталась Элизе, заключалось в труднопостижимости. Идея гейши – воплощенной, но в то же время неплотской красоты – будоражила воображение. Какое пьянящее ремесло – служить объектом желаний, оставаясь недоступной для объятий! До чего это похоже на существование актрисы, на ее прекрасную и печальную судьбу!
Когда Элиза, тогда еще просто Лиза, перешла с балетного на актерское отделение училища, мудрый старый преподаватель («благородный отец» императорских театров) сказал ей: «Девочка, сцена щедро тебя одарит – и оберет до нитки. Знай, что у тебя не будет ни настоящей семьи, ни настоящей любви». Она беспечно ответила: «Пускай!» Потом, бывало, жалела о своем выборе, но для актрисы обратной дороги нет. А если есть, значит, она не актриса – просто женщина.
Штерн, для которого на свете не существует ничего кроме театра, любил повторять, что всякий подлинный актер – эмоциональный голодранец, и пояснял это, как многое другое, с помощью денежной метафоры (меркантильность Ноя Ноевича была одновременно его силой и его слабостью). «Предположим, что в обычном человеке чувств имеется на рубль, – говорил он. – Полтинник человек тратит на семью, двадцать пять копеек на работу, остальное на друзей и увлечения. Все сто копеек его эмоций расходуются на повседневную жизнь. Не то актер! В каждую сыгранную роль он инвестирует по пятаку, по гривеннику – без этой живой лепты убедительно сыграть невозможно. За свою карьеру выдающийся талант может исполнить десять, максимум двадцать первоклассных ролей. Что остается на повседневность – семью, друзей, любовниц или любовников? Алтын да полушка».
Ной Ноевич очень не любит, когда с ним спорят, поэтому Элиза выслушивала его «копеечную» теорию молча. Но, если б стала возражать, сказала бы: «Неправда! Актеры – люди особенные, и эмоциональное устройство у них тоже особенное. Если не обладаешь этим зарядом, на сцене делать нечего. Пускай во мне изначально чувств было на рубль. Но, играя, я не расходую свой рубль, я пускаю его в оборот, и каждая удачная роль приносит мне дивиденды. Это обычные люди с рождения до смерти проживают эмоций на сто копеек, а я существую на проценты, сохраняя капитал в неприкосновенности! Чужие жизни, частью которых я становлюсь на сцене, не вычитаются из моей, а плюсуются к ней!»
Если спектакль удавался, Элиза физически ощущала переполняющую ее энергию чувств. Энергии этой было так много, что она насыщала весь зал, тысячу человек! Но и зрители, в свою очередь, заряжали Элизу своим огнем. Этот волшебный эффект знаком всякому настоящему актеру. Покойный Смарагдов, любитель пошлых сравнений, говорил, что актер, вне зависимости от пола, всегда мужчина. От него зависит, удастся ли довести публику до экстаза либо же он просто вспотеет, выбьется из сил, а любовница уйдет неудовлетворенной и станет искать иных объятий.
Вот почему Элизе было скучно думать о кинематографе, которым грезил Андрей Гордеевич. Что ей за прок, если зрители в сотне или тысяче электротеатров будут рыдать или вожделеть, видя ее лицо на куске тряпки? Ведь она сама этой любви осязать и чувствовать не сможет.
Пускай Шустров думает, что она примет его предложение из честолюбия, из жажды всемирной славы. Ей же нужно лишь одно: чтоб он избавил ее от Чингиз-хана. За это она готова быть вечной должницей. Брак, даже без любви, может оказаться гармоничным. Шустров ценит в ней актрису больше, чем женщину? Ну так она и есть в первую очередь актриса.
Но вторая половина ее натуры, женская, билась крыльями, будто попавшая в силок птица. Насколько легче было бы выходить замуж по расчету, если б не существовало Фандорина! Через четыре дня нужно добровольно запереть себя в клетку. Она из чистого золота и надежно защищает от рыскающего вокруг хищного зверя. Однако это означает навсегда отказаться от полета двух комет в беззвездном небе!
Знать бы наверное, без сомнений, что Эраст к ней охладел. Но как это выяснить? Своему партнеру Масе она больше не верила. Он очень хороший, но для него душа «господина» такие же потемки, как для нее.
Вызвать Эраста на откровенный разговор? Но это все равно что вешаться на шею. Известно, чем такие сцены заканчиваются. Второй раз убежать от него она уже не сможет. Чингиз-хан проведает о ее увлечении, и что произойдет дальше, гадать не надо… Нет, нет, тысячу раз нет!
После долгих сомнений Элиза придумала вот что. Никаких любовных выяснений, конечно, допускать нельзя. Но можно в ходе какого-нибудь нейтрального разговора попытаться уловить – по взгляду, по голосу, по непроизвольному движению – любит ли он ее по-прежнему. Она ведь актриса, ее душа по-особенному чутка на подобные вещи. Если не ощутит магнетического притяжения, то не из-за чего и страдать. А если ощутит… Как быть в этом случае, Элиза не решила.
На следующий день после встречи в фойе, в среду, когда она пришла на репетицию, он уже был на месте. Сидел у режиссерского столика, читал записи в «Скрижалях» – с таким неестественно сосредоточенным видом, что Элиза догадалась: это нарочно, чтобы на нее не смотреть. И внутренне улыбнулась. Симптом был обнадеживающий.
Тему для разговора она подготовила заранее.
– Здравствуйте, Эраст Петрович. – Он встал, поклонился. – У меня к вам просьба как к драматургу. Я теперь много читаю про Японию, про двойные самоубийства влюбленных – чтобы лучше понимать мою героиню Идзуми…
Он слушал молча, внимательно. С магнетизмом пока было неясно.
– …И прочла очень интересную вещь. Оказывается, у японцев принято перед уходом из жизни сочинять стихотворение. Всего пять строчек! Мне это кажется таким красивым! А что, если моя гейша тоже напишет стихотворение, которое в нескольких словах подытожит всю ее жизнь?
– Странно, что я сам об этом не подумал, – медленно сказал Эраст. – Вероятней всего, гейша именно так бы и п-поступила.