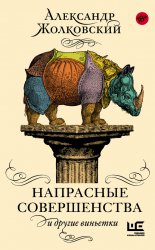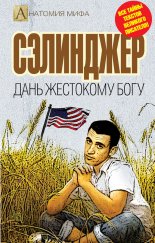Звезда и старуха Ростен Мишель

– Эта красотка? Нет, я не такая!
Откуда взялась эротика посреди бескрайней унылой благопристойности? Постановщику помстилось, будто некогда некто любил вот такую, бесстыдную бесшабашную Одетт. Иначе зачем бы шальному наброску портить безоблачную картину, собранную из невинного хлама? Постановщик вздумал настаивать:
– Это ты, не спорь!
Но так ничего и не добился. Одетт уклонилась от дальнейших расспросов. Она никогда не говорила о сексе, ее музыка чужда сексу. Народное творчество и эротика несовместимы.
А жаль.
Она подвела его к другой фотографии: дворец Отель-дю-Пале в Биаррице.
– Ты в курсе, что в прошлом он назывался Вилла Евгении? В честь императрицы Евгении, урожденной графини Монтихо, супруги Наполеона III. Евгения – мое второе имя. Меня зовут Одетт Евгения.
Тактовая черта.
– Лучше бы меня называли Евгенией, звучит красиво. «Евгения» – по-гречески «благородная». Рожденная во благо. Я родилась в Театре во имя музыки, ее дух завладел моей судьбой, я ему послушна.
Еще одна тактовая черта. Одетт внезапно умолкла среди многотысячного собрания несомненных свидетельств ее славы.
Затем прошептала:
– Я жалкая тварь, я играю лишь потому, что такой меня создали.
Подобных слов от Одетт не ждешь.
Из-за ее внезапной откровенности постановщик ощутил неловкость. Отошел в сторону, стал бродить один между стеллажей. Но испугался изобилия закоулков, и потом, без ее объяснений в этих предметах не было вообще никакого смысла. Постановщик вернулся к Одетт, застывшей с мечтательным выражением перед фотографией загородного дома.
– Они жили неподалеку от Бастии. Представляешь, так восхищались мной, что вывесили французский флаг! Неистовые корсиканцы!
Рядом карта Франции. На ней красным карандашом огромными буквами выведено: «Лицо Франции». В центре шестиугольника нарисованы глаза, нос, ярко-красные губы – это Одетт, несомненно, хоть и без рыжих волос.
– Говорили, что Франция – это шампанское, сыр и Одетт.
В другом углу сарайчика – шестидесятые во плоти: фотографии со съемок телепередач, помпезные бездарные декорации, сияющие подиумы. И тут же рудничная лампа и заступ прямиком из угольной шахты.
– В нашу с тобой программу нужно включить «Марш шахтеров». Сочинила его, чтобы их прославить, я ими восхищаюсь! И повсюду исполняла с неизменным успехом. Всякий раз кричу публике: «Любите чумазых героев, верно? Тогда хлопайте дружно в такт!» Я играю, а они хлопают. Сам увидишь!
Постановщик не желал видеть ничего подобного на сцене, только не сейчас, не в его спектакле. Полно, Одетт, на дворе двадцать первый век, глобализация, во Франции не осталось шахт, уголь добывают в Китае, у нас больше нет шахтеров! Твоего привычного мира не существует, твои сокровища устарели. Публике нужно совсем другое, искусство должно быть живым, своевременным, насущным. Людям подавай настоящее, а не святые реликвии, не прах времен.
Полчаса назад постановщика душило беспокойство, и он кашлял без конца, а теперь молчал, глотая возражения.
Лучше не стало.
Миновали два перекрестка, подошли к стопкам книг.
– Все они написаны обо мне. Есть даже несколько романов. Захочешь прочитать, приходи сюда. Книг с собой не даю, их никогда не возвращают, книги легче дарить.
Возле книг – снова толпа садовых гномов. Все вперемешку, страшная чересполосица. Одетт не знала меры, не отметала ничего.
Целый час они бродили по этой свалке. Когда пришла пора прощаться, Одетт с чувством пожала руку «своему лучшему постановщику», как она его теперь величала.
– Знаешь, а я ведь наводила о тебе справки, и мне сказали, что ты очень знаменит. Не волнуйся, мы отлично поладим.
Неправда, он вовсе не знаменит, Одетт просто ему польстила. И помогло: постановщик растаял и замурлыкал от удовольствия. Сеанс обоюдного самовнушения. Артисты верят друг в друга, чтобы поверить в себя. Постановщик поверил в Одетт, она поверила в него, оба не знали, что у них вместе получится, но фермент веры скрепил их отношения.
Экономисты назвали бы этот процесс иррациональными ожиданиями[56].
Скерцо[57]
Роман следовало бы предварить стандартной надписью: «Всякое возможное сходство с реальными лицами или событиями является случайным и непреднамеренным, автор никакой ответственности не несет, и так далее». Как перед началом фильма.
Это быль. Это сказка.
Одетт и в самом деле некоторыми чертами напоминает великую Иветт Орнер, с которой мы вместе готовили спектакль в 2002 году. А постановщик – во многом я сам. Мы с Иветт репетировали действо, которое должно было называться «Двойная игра».
Таковы очевидные прототипы и предыстория. Но книгу нельзя назвать воспоминаниями или очерком, те репетиции были другими, Иветт и Одетт, по сути, совсем разные. Мое повествование не даст представления о нашей работе.
Стоит изменить антураж и ракурс, как мгновенно лица и сердца предстанут в ином освещении, новые блики и тени преобразят их до неузнаваемости. К тому же я не упомянул здесь о многих моих помощницах и помощниках той поры, а изъятие этих ключевых фигур роковым образом повлияло на сюжет и характеры сохраненных мной персонажей.
«Двойная игра» в 2002 году, собственно, представляла собой дуэт Иветт Орнер и Паскаля Конте, сенсационную встречу на сцене двух виртуозов-аккордеонистов разных поколений, причудливую перекличку между стилями и направлениями. Личное обаяние, редкостный талант, техническое совершенство Паскаля значили не меньше, чем дарования Иветт. Различия между двумя музыкантами придавали спектаклю особое своеобразие и значительность. «Двойная игра» без Паскаля Конте невозможна. Как немыслимо точное воспроизведение тех дней без Жан-Пьера Брюна и Бенуа Тибергьена. Именно они вдохновители и ангелы-хранители нашего детища. Однако в романе нет всех этих прекрасных людей, так что достоверность утрачена безвозвратно.
Возможно, читатели все-таки будут смотреть на оставшихся с подозрением: а не списаны ли они целиком с натуры? Помилуйте, вы заблуждаетесь. Есть только три неискаженные фигуры: моя любимая жена Мартина; властительница дум всего Дуарнене Мишлин; добрая волшебница, фея домашнего очага, вернее, фея артистической, Даниэль.
Что же касается продюсера, ассистентов режиссера, его самого, а также звукорежиссера, гримеров, осветителей, рабочих сцены и, конечно же, наших главных героев, постановщика и Одетт, то тут все сложно, похоже на игру «холодно-горячо»: можно ходить вокруг да около, кричать: «Обожжешься, сгоришь!» – но найти предмет не так-то просто.
Всем известно: чем ближе к правде, тем больше вымысла.
Перейдем к самому главному. Иветт, яркая, живая, непредсказуемая, меня действительно покорила. Она невероятно одаренная актриса. И когда после всех трудов наш спектакль не был представлен публике, я испытал сильнейшую душевную боль. Зародившаяся еще в 2002 году привязанность к Иветт до сих пор не угасла. Конечно, в памяти со временем многое перемешалось. И когда я взялся за роман, получилось нечто, отчасти вымышленное, отчасти биографическое, ни за что не стал бы обманывать вас, утверждая, будто все это придумал – у меня не такое богатое воображение. Но большую часть фактов и психологию реальных людей я сознательно оставил в стороне, чтобы почувствовать себя свободным, в первую очередь от самого себя, от своих страхов, комплексов, иллюзий, предрассудков, от самообмана и хвастовства.
Так и вышло, что мой роман – странная смесь мемуаров и беллетристики. В кривом зеркале памяти все выглядит иначе. Прошло десять лет, годы дают о себе знать все настойчивей, болезни одолевают, вот-вот отойдешь от дел, в последний раз поклонишься публике, а там и умрешь… Да, напишешь о собственной близкой смерти – скажут: он слишком пафосный. Не напишешь – скажут: трусливый.
Переосмысляя прошлое, добавляя что-то от себя, я вовсе не хотел рассказать о создании спектакля, главная тема романа – мое приобщение к старости.
И последнее, очень личное. Иветт Орнер, дорогая моя Иветт, если ты прочтешь эти строки, знай: я признаюсь тебе в любви на каждой странице. Если не прочтешь, все равно, поверь, я тебя люблю.
Medley[58]
За 30 дней до премьеры
Сентябрь 2002 года. До момента подписания контракта и начала репетиций осталась всего неделя. Одетт позвонила постановщику:
– Алло, это твое величество, императрица Евгения…
Наш простодушный герой решил, что его чувства по-прежнему взаимны. За лето они перезванивались раз десять, пребывали в неизменном согласии, понимали друг друга с полуслова, испытывали нежность, доверие, и, будь им по восемнадцать, мы бы сказали, что эти двое отчаянно флиртовали.
Императрица Евгения излучала очарование и теперь. Однако внутри затаилась Одетт, и она задумала отложить репетиции.
– Ты же знаешь, моя воля – закон!
Он с удивлением обнаружил, что она и вправду императрица. Абсолютизм, никакой демократии. Атмосфера слегка накалилась.
– Я тоже человек властный, – сказал он твердо.
Тоже властный человек? Неправда, никогда он не был авторитарным. И не верил, что можно добиться чего-то насилием и давлением, всегда старался достичь взаимопонимания, разумного соглашения. Наивный мечтатель весной поверил, что они с Одетт стали единомышленниками, командой, сотрудниками, друзьями. Что они поладили, и поэтому им легко договориться о сценарии, репетициях и прочем. Не тут-то было. Сейчас он впервые почувствовал, как безнадежно заблуждался. Ничего общего у них нет.
Напряжение нарастало, он пытался изобразить диктатора, однако ей эта роль удавалась куда лучше – больше практики. Он мгновенно вспотел – окна его кабинета выходили на юг, а та осень в Бретани была очень жаркой, но, похоже, его бросило в жар из-за разногласий с Одетт.
– Репетируем три недели? Ты что, уморить меня вздумал? Недели за глаза хватит! И точка! Хорошему постановщику больше и не нужно. Неделю проведем в Париже, потом я приеду в твой Театр на генеральную, решено. Уж я-то знаю, как спектакли ставить!
Крупные капли выступили у постановщика на лбу. Когда перед тобой глухая стена, и нет ни единой двери, рубашка липнет к спине взмокаешь от макушки до пяток, пояс давит, кальсоны хоть выжимай – при стрессе его всегда прошибал пот, отвратительный, мерзкий. Он почти не слушал, борясь с инстинктивным желанием резко прервать разговор и спастись от напасти. Избыток влажности доконал его.
– Мы просто не будем подписывать контракт.
Нет-нет, Одетт-Евгения хочет, чтобы спектакль состоялся.
– Не волнуйся ты так, я не меньше тебя стремлюсь к совершенству. Доверься мне, уже на первой репетиции мы достигнем небывалых высот.
Он тоже не сдавался, обливаясь потом: для успешной постановки ему нужно время, он себя знает, иначе будет полный провал.
– Предупреждал еще весной: не могу сварганить спектакль за несколько дней, я так не умею!
Постановщик действительно уже затрагивал эту тему, но тогда они клялись друг другу в вечной преданности, ослепленные взаимным восхищением. И придумали идеальный план: репетировать в Бретани три недели – не слишком мало для него, не слишком много для нее. Он доверял ей, она доверяла ему, оба на что-то надеялись.
Наши теории зачастую – способ доходчиво обосновать охрану своих внутренних границ. Многочисленные репетиции были частью одной из теорий постановщика, то есть свидетельствовали о пределах его возможностей, своего рода ограниченности. Он утверждал, что в первые дни постановщик и артисты на сцене абсолютно не понимают друг друга. Нам кажется, что мы говорим на одном языке, пользуемся известными всем словами, но это не так. В действительности у каждого свой язык, незнакомый окружающим. Нужно по меньшей мере две недели вместе, бок о бок, работать, творить, импровизировать, отдыхать, рассказывать анекдоты, есть, пить, чтобы нащупать средства общения. Только тогда, не раньше, а то и позже, возникает взаимопонимание. Пожертвовать временем просто необходимо.
И постановщик с горячностью принялся убеждать Одетт:
– За эти несколько недель родится новый язык. Уникальный, драгоценный, наш, только наш с тобой. Он откроет нам неведомое, мы услышим совсем другую музыку, слова приобретут неожиданный смысл. Если же мы собирались всего лишь воспроизвести в который раз то, что умели и раньше, еще до нашей встречи, то репетировать вообще не стоит, мы не нужны друг другу.
Он увлекся своей теорией, заговорил как поэт. Одетт, естественно, не поняла ни слова. Лучше бы он весной обсудил с ней в деталях рабочий график, а не ворковал томно и нежно о «полотнах» и «дневниках».
Теперь приходилось наверстывать упущенное:
– Одетт, прошу, войди в мое положение, я не умею создавать спектакли со скоростью света.
Пот заливал глаза. Спасибо, что обошлось без кашля, но все равно неприятно.
– Одетт, я не справлюсь, все испорчу, давай разойдемся по-хорошему как разумные люди.
Пора покончить с пыткой, и чем скорее, тем лучше.
После этой реплики она вдруг переменила тактику. Нет, речь совсем не о том, ей больше всего на свете хочется поработать с ним, пусть будет хоть сто репетиций, проблема в другом: сейчас она неважно себя чувствует.
– Стоит наклониться, голова кружится, и я падаю. Врач назначил такое лекарство, что я шатаюсь, как пьяная, хожу, хватаясь за мебель, от стола к стулу.
Откровенность далась ей нелегко, ведь она говорила о здоровье, а подразумевала преклонный возраст, как вы помните.
– Стыдно признаться, но без посторонней помощи я даже обуться не могу. Болезнь меня подкосила. Профессор Гийе сказал: «Побольше отдыхайте, не утомляйтесь, прежде всего вам нужен отдых». Мне трудно сосредоточиться. Вот почему придется сократить количество репетиций.
Одетт беспокоилась, что постановщик поймет ее неправильно: обычно она не обращала внимания на болезни и никогда не отменяла концерты. Снова ее величество заговорило о себе в третьем лице: после курса уколов Одетт поправится, Одетт не пропустит ни одной репетиции, Одетт будет играть во что бы то ни стало!
Немного лести под конец:
– Все говорят, что ты отличный постановщик, у нас с тобой все получится.
Постановщик не поддался на лесть. Но слово «болезнь» не на шутку его встревожило. Ему не хватило проницательности догадаться, что речь идет о старости. Он не расшифровал послания, потому что всем существом и сам включился в будущий спектакль. Не мог разом все бросить, растерялся, смутился. Она совершила обходной маневр, как бы уступила, сдалась, но на самом деле загнала его в угол жалобами, подавила волю к сопротивлению. Их конфликт затянулся до бесконечности, он не знал, как его разрешить.
Одетт была далеко, а ее голос звучал совсем близко – это противоречие его раздражало. Ему не удавалось до нее достучаться. И «скайп» бы не помог. Хотелось оказаться с ней рядом, почувствовать, что происходит. Он не нашел ничего умней, чем сказать об этом:
– Телефон – дрянной посредник. Из-за чего мы спорим, что делим? Ты говоришь издалека: «Стремлюсь к совершенству, достигнем вершины, все получится». А что это значит? Слова, слова, слова…
Постановщик обратился к еще одной своей излюбленной теории: чтобы подготовить и осуществить спектакль, кроме времени нужно и непосредственное общение. Сейчас театр – чуть ли не единственное место, где люди ощущают исходящие друг от друга энергетические волны, а не только говорят, слушают, смотрят. Ни телефон, ни экран этих волн не передают.
Одетт были даром не нужны его интеллектуальные изыски. Шекспир и фэн-шуй сейчас ни к чему. Пропасть между ними росла. Постановщик вновь отчаялся:
– Спектакля не будет. У тебя тоже есть право заболеть, в конце концов…
– Ни в коем случае! Я же тебе сказала: Одетт не отменила ни одного спектакля!
И все по новой. Paso doble. Два шага назад. Одетт испугалась, сдалась. Шаг вперед. Одетт наступала, запугивала. Два шага назад. Одетт жалобно просила. Шаг вперед. Одетт рассердилась. В конце концов она уступила, он тоже смягчился.
«После упорной и продолжительной борьбы», как говорится, они пришли к компромиссу: репетиций назначат меньше, чем предполагалось, зато проведут их в Кемпере, в том самом Театре, где состоится премьера.
Глупо. Ни нашим, ни вашим. Коль скоро их нельзя заподозрить в лицемерии и коварстве, предположим, что каждый добровольно закрыл глаза на предстоящие неудобства.
Зачем? Одетт боялась, что иначе никогда не выйдет на сцену. А вот чего боялся постановщик? Он и сам хотел бы это знать.
Разговор окончен, постановщик выжат как лимон. Он в рассеянности водил карандашом по бумаге, испещряя листок некруглыми кругами, неквадратными квадратами и странными фигурами, наподобие параллелепипедов. Спектакль придется ставить, а у него ни энергии, ни энтузиазма. Он предал самого себя, не отстоял самого главного: репетируя всего неделю, не разучишь классику, не осуществишь ни одного грандиозного замысла, впрочем, этот проект всегда был сомнительным… Да, хорошенькое начало!
Листок сплошь изрисован. Под штрихами карандаша исчезли все пометки, которые он сделал во время спора с Одетт. Стоило им повздорить, как от первоначального плана, программы, сценария не осталось и следа. Теперь он вышел из оцепенения, трезво взглянул на ахинею путаных линий и увидел чудом уцелевшие отдельные слова, образовавшие неожиданные сочетания: «отмена» «Одетт»; «жара» «в Бретани»; «создание» «старости»… Парадоксы. Противоречия. Так и есть. Вопреки расхожему мнению, автоматическое письмо не так уж бессмысленно.
Пот высох. Но вонь осталась.
Уходя из Театра, постановщик задержался, вышел на главную сцену. Воскресенье, полдень, в зале никого, темнота. Только голая лампочка где-то сбоку. Когда его мучила тоска, одолевали сомнения, он приходил сюда, как его предки шли в часовню, где горела красная лампадка, или к алтарю – причаститься святых даров.
Постановщик растянулся на сцене. И заговорил сам с собой, глядя вверх, на колосники – до них метров восемнадцать, не меньше.
– Надеюсь, урок пойдет тебе на пользу.
Какой урок, какая польза – он так и не придумал, хотя лежал довольно долго.
– Главное – позитивистский подход!
Нет, главное – это смеяться над собой. Иначе не выживешь.
За 12 дней до премьеры
Прошло две недели.
Постановщик встречал Одетт у дверей Театра. Она заговорила с ним как ни в чем не бывало, будто и не было той перепалки по телефону:
– Мне прямо не терпится начать. Я верю в тебя. Нас ждет успех.
Постановщик не разделял ее уверенности.
Она настаивала:
– Вот увидишь, пойдет как по маслу. Репетируем с завтрашнего утра.
Вообще-то репетицию назначили на вторую половину дня, но раз Одетт сказала «с утра»… Она сразу выхватила у него из рук бразды правления.
Направляясь в отведенную ей гримерную, Одетт поздоровалась со всеми, кто ждал ее: с Даниэль, феей артистической, – та была ни жива ни мертва, – с директором театра, ассистентами, администратором – все трепетали, да, Одетт нагнала страху. Она извинилась, что устала с дороги и не сможет как следует осмотреться и познакомиться со всеми. Ничего, ведь завтра мы еще встретимся.
– В котором часу? – поспешила уточнить помреж, ведь это ее работа.
Одетт ответила категорично:
– Завтра, в десять утра!
– В десять утра? Не после полудня?
– Нет, ровно в десять!
Заметьте: Одетт стала править всеми единовластно.
– ОК.
Помреж внесла изменения в рабочий график.
В гримерную, помимо несессера и роскошного платья «haute couture», втащили тяжеленный аккордеон, второй по значимости из ее инструментов.
– Осторожнее, ему цены нет!
Все сокровища заперли в гримерной – на два оборота. Пытались вручить ей ключ, но Одетт отказалась. Великодушно сказала помрежу:
– Я вам полностью доверяю. Если Одетт приехала, значит, она доверилась раз и навсегда.
Сказала искренне, просто, с проникающим в душу взглядом, с чарующей улыбкой – все были покорены… Одетт – колдунья. О себе в третьем лице? Ну и что, никого это не смутило. Одетт и в третьем лице всегда на первом месте.
Из Театра постановщик повез Одетт в гостиницу в Дуарнене. Садясь в машину, она грозно сказала:
– Ты что же, поселишь меня и оставишь одну? Нет, вечером мы вместе поужинаем в ресторане и поговорим о нашем спектакле.
Да, постановщик, ты теперь не только шофер, но еще и сопровождающий.
Ты попал в магнитное поле звезды, изволь вращаться вокруг нее. Силе ее притяжения невозможно сопротивляться. А не хочешь, так нечего было вообще к ней приближаться.
* * *
В тот же день через полчаса.
Ослепительное солнце, жара, будто сейчас лето. Постановщик решил сделать крюк, показать Одетт открыточные виды побережья. Подъехал поближе к морю, притормозил, чтобы она полюбовалась бухтой Дуарнене. Три грузовых судна пришвартовалось там на ночь, поскольку было штормовое предупреждение. Вдали виднелся мыс Ра, расположенный по соседству с мысом де Корсан, крайней западной точкой Франции. В наше время близ Дуарнене устраивают регаты, здешние ветра благоприятны для парусного спорта. Постановщик принялся рассказывать предания об острове Тристан: о знаменитом влюбленном[59], о безжалостном разбойнике, о буйволе в тумане[60], о затонувшем грешном городе[61]. Зря старался: Одетт даже не взглянула на море, скалы, корабли. Грехи под водой ее не интересовали. Старушка задремала.
Они нашли для Одетт чудесную трехзвездочную гостиницу: расположена в живописном уголке, дивный вид на бухту, отличный ресторан, превосходный персонал – совершенство. Лучше в городе нет. Главное достоинство: здесь привыкли принимать звезд, даже таких гигантов, как Одетт, – с ними всегда хлопот не оберешься, однако хозяйка, улыбчивая, расторопная, дипломатичная, умела поладить со всеми.
Увы, Одетт и здесь не потрудилась обратить внимание ни на хозяйку, ни на прекрасный вид.
– Каждое утро будите меня в восемь и приносите завтрак в номер.
Она ни на минуту не расставалась со своим новым концертным аккордеоном, инструментом номер один.
– Я занимаюсь с утра до вечера, как известно. Мне еще нужно привыкнуть к нему.
Хозяйка опешила. Одетт, поймав ее испуганный взгляд, сказала:
– Без паники! Сам Каваньоло сделал специально для меня этот электронный аккордеон. Вы не услышите ни звука: я буду играть, подключив наушники.
Хозяйка не слыхала о Каваньоло, но наушники одобрила, еще бы, иначе ведь соседи-постояльцы всю ночь не сомкнут глаз и рассвирепеют. Со звездами не соскучишься, хорошо, что эта – старушка: не напьется, не будет курить и колоться, хотя… А за наушники спасибо, беззвучная музыка очень кстати.
Подходя к лифту, Одетт сурово предупредила всех, прежде всего горничных:
– Я берегу инструмент как зеницу ока. Не смейте прикасаться к нему, когда меня нет поблизости. Только в моем присутствии и по моей просьбе можно помочь убрать его в футляр или обернуть тканью.
Войдя в номер, вместо того чтобы сходить в туалет, открыть ставни, распаковать чемоданы, Одетт занялась аккордеоном. Открыла футляр, и оказалось, что тот завернут в жалкое полотенце в сиреневую-бежевую полоску, которое довольно трудно назвать «тканью», вопреки всем гордым заявлениям в холле. Застиранное, дырявое, оно едва прикрывало драгоценный дар Каваньоло. Впрочем, и футляр, допотопный, с потертыми ремнями и сломанными застежками, судя по всему, немало повидал на своем веку.
– Я очень дорожу этим футляром и тканью, они вместе со мной участвовали в «Tour de France».
У каждой старушки свои погремушки.
Электронный аккордеон, новая модель, последнее слово науки и техники, представлял разительный контраст своей ветхой оболочке. Он весил три с половиной килограмма, раз в десять меньше, чем обычный, к примеру, тот, что Одетт оставила в запертой театральной гримерной.
Одетт приказала постановщику водрузить инструмент на стол и вытащить из чемодана устрашающее гнездо запутанных проводов с разнокалиберными штекерами. Затем потребовала, чтобы он все это дело подключил через усилитель и еще задействовал какой-то «семплер», «спенсер» – не поймешь…
– Моим пальцам пора делать зарядку.
Бедный постановщик понятия не имел, с чем едят «семплер» и зачем пальцам делать зарядку. Абсолютно не разбирался в аккордеонах и во всякой электронике. Не умел подключать провода. Устал от роли мальчика на побегушках. Черт подери, Одетт, неужели нельзя дождаться звукорежиссера, он завтра все наладит, в конце концов! Когда он попытался высказать свои соображения в смягченной форме, само собой, Одетт возмутилась до глубины души:
– Я не стану ждать до завтра, мне нужно разыграться. Подай аккордеон немедленно!
Постановщик помог ей надеть ремни на плечи, недоумевая, зачем Одетт понадобился неподключенный инструмент, ведь звука из него не извлечешь…
Ее пальцы забегали по немой клавиатуре. Потрясающее зрелище: Одетт беззвучно играла в гостиничном номере. И он был единственным свидетелем. Это чудо вознаградило постановщика за приступы кашля, страхи, пот, лившийся градом, – все удовольствия, что принесло ему близкое знакомство с Одетт. Нет, в самом деле, она прекрасна! Он снова поверил в нее. Минута вдохновения привела в движение сложный механизм его воображения.
Неслышная музыка длилась и длилась, но вдруг Одетт прервала игру и взяла постановщика за руку. Одетт всегда брала человека за руку, когда хотела в чем-то его убедить.
– Имей в виду, мы с тобой ни за что не бросим наш спектакль. Если я перестану играть, я умру!
Постановщик не понял, насколько серьезна ее угроза.
* * *
Вечером того же дня в ресторане гостиницы.
За окном вдали сияли иллюминаторы трех судов, укрывшихся в бухте от бури. Завидев с темной набережной Дуарнене корабль, унизанный огнями, Мартина всегда вспоминала «Амаркорд» Феллини и говорила: «Смотри, океанский лайнер!» Мартина, любимая жена постановщика.
Стоило Одетт войти, как взгляды всех официантов и посетителей, как в Лионе, разом устремились к ней. Кто-то пытался сопротивляться – тщетно! Она приковала их, как взошедшее светило – стрелку буссоли. Огни всех океанских лайнеров на свете не смогли бы затмить сияния Одетт. Она мгновенно становилась центром, все начинало вращаться вокруг нее. Звезда, средоточие света, мощно излучала его, и он возвращался к ней, умноженный, стократно отраженный. Величественное явление.
Одетт зашептала на ухо постановщику:
– И повсюду так. Всегда. Гляди, они мечтают прикоснуться ко мне, поцеловать меня, рассказать о себе все-все. Надеются, что я их мгновенно утешу и исцелю. Люди любят меня. Как-то пришла в аптеку за лекарствами, хозяин меня увидел, подбежал: «Мадам Одетт!» Надарил кремов, лосьонов, достал какой-то особый лак для ногтей. «Для нас такая честь, такая честь!» Захожу в ресторан – сейчас же приносят и откупоривают шампанское… Я не выдумываю, не хвастаюсь, это правда!
Она повествовала о своей известности со вкусом, с удовольствием. Да, работала на публику, репетировала номер «знаменитость во всем блеске», но не фальшивила – хорошие музыканты не фальшивят.
– Часто прохожие останавливаются и аплодируют мне, а я, поверь, нисколько не зазнаюсь. Поначалу, когда меня узнавали на улице, я смущалась. Мне нравилось, что на меня смотрят, но я не понимала, как должна при этом выглядеть. Однажды бродила по Галери Лафайет, жадно рассматривала витрины – до сих пор обожаю туфли, сумочки, шляпы, – как вдруг слышу: говорят обо мне. Две дамы поняли, кто я. «Ну точно, она». «Быть не может». «Одетт… Мы не обознались. Только в телешоу она красивее. Там все изъяны внешности косметикой и гримом исправляют». Мне захотелось сквозь землю провалиться. Но они правы: косметика меня украшает, без пудры и румян не обойтись. И раз уж люди везде меня узнают, я постоянно на высоте, не схожу со сцены. Одетт и в жизни и в театре должна быть безупречной.
Очарованный, завороженный, постановщик слушал, развесив уши. Еще весной его посетила интуитивная внутренняя убежденность: Одетт – звезда просто потому, что она звезда. Тавтология, трюизм, однако не поспоришь. Постановщик полюбил несомненные истины – какой прорыв в области аналитической философии!
– Люди мечтают получить мою фотографию. Даже теперь напечатать их вдосталь – недешевое удовольствие, а уж тридцать лет назад – и подавно! Одна проявка чего стоила. И все равно я заказывала тысячи. Поклонники дарят мне любовь, бесценный дар. А я в ответ не скуплюсь на фотографии. Постоянно ношу с собой пачку, ставлю автограф, и счастливец уносит с собой копию Одетт в миниатюре. «Такому-то с дружеским приветом, Одетт». Автограф даешь спонтанно, мгновенно, одним росчерком, поэтому каждый раз пишу одно и то же, и каждый раз искренне, от всего сердца, ведь я дружески расположена ко всем, кто нуждается в моей дружбе.
Бретань, поздний вечер, в ресторане с видом на пришвартованный в бухте океанский лайнер из «Амаркорда» ужин превратился в спектакль «Одетт представляет Одетт». Она говорила достаточно громко, чтобы три десятка посетителей вокруг наслаждались ее рассказом. Пусть мириады роскошных лайнеров качаются на волнах, пусть океан бушует, никто и не взглянет в окно. Она словно бы пела: выразительные модуляции, отточенные интонации, продуманная фразировка. Полифония, контрапункт[62]: отдельные истории развивались параллельно, пересекались, перетекали одна в другую, образовывали нечто вроде русской матрешки, перемежались отступлениями, резкими скачками и достигали финала, если Одетт не переходила вдруг к новой теме. Порой она сбивалась, не беда – никто ведь не знал, куда они держат путь. Коль скоро она уверенно вела, все шли за ней, не сомневаясь, что Одетт их не обманет. Ей внимали с восторгом – незабываемый вечер!
– Одетт как-то раз выбрали королевой красоты на ярмарке в Троне. И с тех пор меня там запомнили, принимали с распростертыми объятиями, носили на руках, кричали: «Браво!» Я боялась всяких колес обозрения и прочих аттракционов, одна только детская карусель с лошадками, повозками, облаками, розовыми поросятами мне понравилась, напомнила детство. Ее я не испугалась. Если назавтра такую же поставят здесь, в Дуарнене, или напротив твоего Театра – сразу же прокачусь. Хозяин мне все показал: механизм, мотор, гондолы, разрисованный шатер. Но когда я впервые села на лошадь, а все это вдруг как завертится, я чуть с ума не сошла, завопила: «Остановите! Сейчас же остановите!» Вот страху-то натерпелась! А хозяин только покатывался со смеху и долго-долго меня не отпускал, ведь реклама отличная. Я ору, а люди толпятся вокруг, хлопают мне: «Так держать, Одетт!» Если все тебя окликают, знают – ты не пустое место. Карусель вращалась, Одетт боялась, намертво вцепилась в деревянную лошадь и не чаяла с нее слезть – плохо мне пришлось. Но спустилась я с карусели как ни в чем не бывало, раздавала автографы, фотографировалась со всеми желающими. На другой день шла мимо, хозяин опять меня пригласил. И я ничего не могла поделать, села на карусель, хотя боялась до смерти. Так и пошло: все кружится, я кричу от ужаса, люди мне хлопают, хозяин доволен, восхищен отвагой Одетт…
Пока она говорила, к их столику стали подходить люди за автографом, за фотографией. Одетт, не ломаясь, не кривляясь, сразу же доставала фотографию, подписывала, отдавала, обменивалась с фанатами поцелуями и рукопожатиями, ни на минуту не прерывая рассказа, так что автографы, поцелуи, теплые слова органично вплетались в повествование, становились его неотъемлемой частью. Настоящее волшебство! Постановщик вновь безоговорочно покорился ее величеству, императрице, что с монаршей простотой переходила с регистра на регистр, соединяя высокое с обыденным. Незаметно непринужденно совершала головокружительные переходы от эпического сказания к задушевной беседе и обратно. Отрадно слушать!
В разговоре Одетт упомянула композицию из своего репертуара. И сейчас же вскочила, заиграла на воображаемом аккордеоне. Принялась перебирать пальцами на уровне груди, будто и вправду выступала на сцене. Запела на разные голоса, изображая целый оркестр. Блестящая импровизация!
Поскольку Одетт встала из-за стола, официант решил, что пора убрать ее тарелку. Неслышно подошел и осторожно потянулся за ней, боясь помешать. Одетт мгновенно умолкла и обернулась к нему:
– Этого мальчишку отправьте назад, в школу гостиничного персонала!
Решительно отобрала у него тарелку, водрузила ее перед собой и продолжила свое вокальное пояснение в полный голос, безошибочно взяв следующую ноту, словно ее и не прерывали.
Несчастный официант не знал, как поступить: уйти, остаться, подождать, пока мадам допоет, но ведь блюдо уже остыло, хотя она велела сама… Он окончательно смешался, покрылся испариной от смущения. Тут Одетт села и убедилась, что все и вправду остыло. Почему тарелку не унесли? Нынешняя молодежь вообще ничего не знает и не умеет! У нее достало совести снова крикнуть:
– Прочь! Возвращайся в школу!
Официант опрометью бросился на кухню.
Звезды несправедливы. Нет, неверное утверждение. Скорее так: они правят нами, не задумываясь, что справедливо, а что – нет.
Не успел бедняга скрыться из виду со злополучной тарелкой, как ее величество Одетт уже рассказывала новую историю (еще одна особенность звезды: она внезапно нападает на вас и тут же забывает об этом).
– Как-то раз мне позвонил один друг. Очень состоятельный человек, абсолютно слепой. «Одетт, приезжай немедленно, я тебя жду!» – «Постой, я была у тебя вчера, принесла продукты, приготовила ужин». «Помощь мне не нужна. Я не для того тебя зову. Говорю же, срочно приезжай! Сию минуту!»
Одетт явно нравилось повелевать и приказывать. «Исполнить мигом, без рассуждений!» Бог и Музыка тоже это любят.
– Пришлось подчиниться. Если в тебе нуждаются, поспеши на зов. Слепой сам открыл мне дверь – ничего удивительного, ведь он знал свой дом наизусть, прожил там сто лет, так что встретил меня без труда. И с порога сунул мне в руку красивые дорогие швейцарские часы с эмалевым браслетом, такие тогда тысяч шесть франков стоили – роскошный подарок. Слепой говорит: «Это тебе. Я давно хотел тебя как-нибудь отблагодарить». А я в ответ: «Не возьму, не нужно мне подарков, я не ради корысти стараюсь. Если я надену эти часы, люди подумают, будто я тебе помогаю, только чтобы что-нибудь выманить». Отказалась наотрез, так-то вот. Слепой поневоле спрятал часы в карман. Но я не хотела его обидеть, а потому один подарок все-таки приняла: плитку шоколада из холодильника.
Постановщик, мотай на ус: если в будущем Одетт позовет тебя, бросай все и беги к ней, раз уж ты в ее свите, на новой орбите. Таков закон ее небесной механики.
Странное дело: ужин подходил к концу, а они так и не обсудили спектакль. Постановщик отважился заговорить о завтрашней репетиции. Черт дернул его затеять этот разговор так не вовремя, неудачно: Одетт мгновенно съела ряд ключевых фигур на шахматной доске. Заявила, что сама знает, каким должен быть гала-концерт. Что без современных композиторов вполне можно обойтись. Что она не желает понапрасну тратить время и силы на бесконечные репетиции. Что самое главное – непосредственный контакт с публикой. И все в таком духе. На него обрушился шквал ее непреложных истин.
Как переубедить звезду? С чего начать: со сценария, репертуара, современной композиции, рабочего графика? Постановщик растерялся, замешкался, а всякое промедление – роковая ошибка. Пока он подыскивал нужные слова, Одетт нанесла ему новый удар: вопреки своему весеннему обещанию, она не станет играть наизусть. Тут постановщик не выдержал и перебил ее:
– Но ты же сама говорила, что «наизусть» – значит «наилучшим образом, из уст души». Нет, так не пойдет, знать партитуру очень важно!
Согласна, говорила и, более того, всю жизнь играла наизусть. Однако теперь ей нужны ноты и пюпитр.
– В твоем спектакле Одетт играет по нотам.
И точка. Даже не извинилась и ничего не объяснила.
Постановщик замер точно громом пораженный. Только что он упивался ее воспоминаниями, восхищался беззвучной игрой на аккордеоне, и у него возникло столько замыслов, столько идей… И вдруг они все растоптаны, смыты потоком ее красноречия…
«Скорей, скорей, скорей отмени спектакль!» – кричал внутри знакомый голосок.
Но вместо того, чтобы грамотно отступить, он пошел в атаку – вечно ему хотелось договориться, прийти к разумному соглашению:
– Одетт, это невозможно, сама посуди: ты же не будешь признаваться в любви по бумажке, верно? Если актер обнажает перед зрителями тело, душу, свою сокровенную суть, ему не поможет ни суфлер, ни монитор, ни бегущая строка, ни пюпитр. В жизни мы каждый день заново изобретаем слова любви, слова утешения. И на сцене тоже, от репетиции к репетиции, от спектакля к спектаклю, рождается новая спонтанная правда. Нельзя искренне и честно разделить ее с залом, если между вами изгородь из подсказок. За шпаргалками не спрячешься…
Он мог бы сказать еще многое, однако Одетт внезапно остановила его резким повелительным взмахом руки. Хватит! То есть как это хватит? Ему и возразить не дают? Постановщик обиделся. Встал, собираясь уйти. Она схватила его за руку: нет-нет, останься, сядь. Одетт смотрела куда-то в сторону и лучезарно улыбалась. Тут он понял, что в данный момент ее занимают вовсе не его пламенные речи, а шеф-повар с женой, что направлялись к их столику с виниловой пластинкой и шариковой ручкой наготове.
– Пожалуйста, подпишите нам пластинку!
Оробевшие супруги почтительно склонились перед Одетт. Повар надел по такому случаю белоснежный фартук и парадный колпак, а его жена где-то за кулисами поспешно вытащила из пластикового чехла приличный серебристо-серый строгий пиджак. Звезда встретила их с распростертыми объятиями. Для нас, артистов, зрители – самые значимые люди на свете. Публика прежде всего, так ведь? Постановщик закивал, забормотал: понимаю, согласен, однако мы еще ни о чем не договорились, наш спектакль… Она оборвала его:
– Зрители куда важней!
Поднялась, обняла их. Улыбки, поцелуи, фото с мёсье, фото с мадам, эй, официант, сфотографируйте нас, пожалуйста, всех вместе! Благодарю вас, нет, это мы должны, поверьте, я так счастлива, для нас такая честь… Одетт снова села, положила перед собой пластинку, чтобы поставить автограф: «Арману и его милой жене с дружеским приветом, Одетт». Стандартная формула, всегда идущая от сердца, как она уверяла его и весной, и только что за ужином. Посетители подходили по двое, по трое, и вскоре вокруг их столика столпилось столько людей! Каждый хотел прикоснуться к ней, поцеловать, рассказать о себе все-все, рассмотреть ее поближе, привлечь к себе внимание. Она сама умела ставить спектакли и не жалела на это времени и сил, что бы там ни говорил придира-постановщик!
Одетт сияла, фанаты отражали ее свет. В конце концов она ушла с какой-то парой под ручку, покинула нашего героя, даже не вспомнив о нем.
Он не ожидал ни одного из сюрпризов того вечера: ни великолепного one woman show[63], ни бесцеремонных замечаний, капризов, вероломства в их совместном творчестве, ни странного, без предупреждения исчезновения главного действующего лица в финале…
Одетт давно ушла, а постановщик долго еще сидел неподвижно за разоренным столиком, наедине с недоеденным десертом, холодным кофе, смятыми салфетками и неоконченным разговором.
Их куцые репетиции начнутся завтра, однако от его сценария уже сейчас ничего не осталось. Знакомый голосок надсаживался: «Отмени спектакль! Разорви контракт!» Он молчал в ответ.
Снаружи завывал ветер, шумели волны, моряки не зря предсказывали бурю. Старый морской волк Жилу, давний его приятель, предостерегал:
– В полнолуние и новолуние самый сильный прилив – жди шторма!
За 11 дней до премьеры
На следующее утро постановщик ехал в Театр на первую репетицию. Живот подвело от страха, в голове гудел рой тревожных недобрых мыслей. Знаменитость одним своим присутствием подавляет тебя, неважно, уверен ты в себе или нет. И как на грех, когда он и так почти без тормозов…
Нет, сначала все шло как по маслу: шоссе на четыре полосы, пробок нет, погода прекрасная, фоном звучала красивая грустная песня «Radiohead»[64]… Как вдруг у самого въезда в город он увидел в зеркале заднего вида двух полицейских на мотоциклах, черт, черт, на спидометре – 150 км/ч, грубое превышение, он попался. Один полицейский его обогнал, другой следовал за ним вплотную, пришлось подъехать к обочине и остановиться.
– Превышение скорости.
– Да, но я…