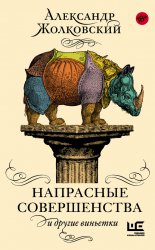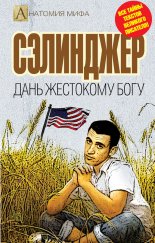Звезда и старуха Ростен Мишель

– Ваши документы…
Вот они все, пожалуйста: права, техпаспорт, удостоверение личности, страховка, полис… Постановщик был в ярости. Когда полиция останавливает тебя просто так, ни за что, трудно сдержаться, но когда ты действительно виноват и к тому же опаздываешь, сдержаться в сто крат трудней. Полицейский обошел машину кругом, добросовестно и неторопливо осмотрел ветровое стекло, шины, багажник, записал номер. Постановщик стал объяснять, что спешит, что ему надо… Полицейский перебил:
– Обождите.
Половина десятого. Теперь постановщик наверняка опоздает. Полицейский запросил по рации центральное управление. Решил проверить, не числится ли машина в угоне. Процедура затягивалась. Без четверти десять. Постановщик рвал и метал. Он открыл дверцу, намереваясь подойти и поговорить с ревностным стражем порядка, но тот властно вскинул ладонь: стоп, ни с места, сиди внутри.
Помилуйте-отпустите, постановщик не мог опоздать в первый же день, опозориться перед звездой, она же с ним вообще считаться не будет… Он замахал руками: подойдите, мне нужно вам что-то сказать, очень важное, правда… Нет, жандарм упорно не замечал его, бубнил в свою рацию. Или делал вид, что не замечает.
Постановщик попытался связаться по мобильному с помрежем. Предупредить, что застрял. Нет ответа. Значит, все уже в сборе, в зале. Нет смысла посылать эсэмэс, оставлять голосовое сообщение…
Постановщик обернулся и увидел в зеркало бокового вида второго полицейского. Опустил стекло, высунулся наружу и в отчаянии воззвал к нему:
– Господин полицейский!
Как положено к нему обращаться: «сержант», «жандарм», «полицейский»? Постановщик окончательно запутался:
– Господин сержант, гражданин жандарм, мёсье, извините, пожалуйста, у меня будут очень серьезные неприятности, помогите…
Гражданин жандарм слез с мотоцикла, убедился, что тот надежно стоит, и вразвалку, не спеша направился к постановщику. Приложил два пальца к каске:
– Слушаю вас.
– У меня назначена встреча с Одетт, я очень боюсь опоздать, а через десять минут…
– С Одетт?
– Да, с Одетт. У нас с ней репетиция в Театре, я не могу заставить ее ждать.
– С Одетт, которая на аккордеоне играет?
– Ну да.
– Что, правда с самой Одетт?
– Ну да, с ней самой…
Почему он без конца переспрашивает?
– Сама Одетт приехала в Кемпер и будет выступать вместе с вами? Вы музыкант?
– Да, то есть не совсем, в данном случае я режиссер-постановщик. Мы с ней ставим спектакль, должны репетировать, а я тут задерживаюсь и… Поймите… Это наша первая репетиция… Я так волнуюсь! Мне нельзя опаздывать…
– Неужели с Одетт? Постойте, я сейчас.
Второй полицейский бегом бросился к напарнику, теперь он двигался куда проворней, чем прежде. Первый все еще пытался пробить номер по базе данных, но оператор ничего не находил, бестолочь, дармоед, вот кто зря тратит деньги налогоплательщиков…
– У него встреча с Одетт!
Напарник тотчас отвлекся от пререканий с оператором:
– С Одетт? С той самой, с аккордеоном?
– Ну да! Она тут, у нас, в Кемпере. А этот к ней опаздывает. Может, отпустим его, а?
Полицейский выключил рацию. Спор с оператором прекратился.
– Хоть бы достал нам ее автограф…
Второй поспешно вернулся к машине:
– Ладно. Проезжайте.
Постановщик не верил своим ушам. Неужели имя «Одетт» открывает все двери, как заклинание «сезам», как воровская отмычка? Неужели это волшебное слово, пароль, тайный знак, пропуск, мандат? Невероятно! Постановщик дрожащей рукой вставил ключ в зажигание, пролепетал «спасибо» полицейским, те бодро отсалютовали ему, и скорей дал по газам, сам не свой от счастья.
Эх, я дурак, нужно было позвать полицейских с собой и приехать в Театр с эскортом мотоциклистов… Как президент. Было бы круто!
* * *
Благодаря полицейским, ярым поклонникам Одетт, постановщик не нарушил золотого правила Театра, не опоздал на первую репетицию и появился в зале именно в тот момент, когда звезда из гримерной вышла на сцену. Пора настраивать звук.
Подключить микрофоны, усилители, все отладить так, чтоб звучало повыше, пониже, подальше, поближе, погромче, потише, не трещало, не шипело, не скрежетало, нравилось музыкантам, не бесило звукорежиссера. Всеобщее раздражение, столкновение самолюбий, ожесточенная борьба, которая нередко оборачивалась вендеттой и прицельной стрельбой. Нескончаемое напряженное противостояние, такие страсти, куда там футболу! После боя у каждого оставалось ощущение, будто его честь запятнана, а музыка поругана.
Постановщик считал этап настройки звука сущим адом, безудержным выплеском общечеловеческой ненависти к себе и друг к другу.
В день их первой репетиции настройка звука сразу же застопорилась из-за микрофонов HF, которые Одетт старательно прикрепила к одежде. Хотя они лишние, если играешь на ультрасовременном электронном аккордеоне. С виду он похож на инструмент прошлого века, и даже звучать может так же, однако в действительности у них мало общего. Благодаря цифровому устройству новейший аккордеон подключают напрямую к комбику, персональной мониторной системе, а дальше – к микшерному пульту, и никаких ископаемых микрофонов, что прежде навешивали на артистов, теперь не требуется. Правда, без подключения электронный аккордеон вообще не издаст ни звука.
Одетт в эти тонкости не вникала и привычек не меняла. Раз ей сказали, что новый аккордеон ничем не отличается от предыдущего, кроме того, что весит в десять раз меньше, значит, без старых добрых микрофонов HF не обойтись, дело ясное. Она твердо стояла на своем, хотя звукорежиссер всячески пытался ее переубедить. Слушая его объяснения, Одетт вообще усомнилась, есть ли здравые компетентные люди в этом Театре. Он действительно сбивался, говорил путано, непонятно, не решаясь вслух упрекнуть ее в невежестве. Взаимное недоверие, скрытое раздражение, утомительные словопрения завели их в тупик. В тот день ад настройки начался раньше, чем инструмент издал хоть один звук.
Вдруг звукорежиссера осенило: он проверил микрофоны Одетт, будто они и вправду годятся, а сам незаметно отключил их и тихо-мирно подсоединил аккордеон к комбику. Гениальный выход из положения! Одетт успокоилась: дело пошло на лад. Надо же, этот звукорежиссер все-таки умеет обращаться с аккордеонами!
А постановщик восхитился: надо же, звукорежиссер умеет обращаться со старушками!
Худшее, конечно, было впереди. Подключить-то подключили, но предстояло еще учесть реверберацию, сбалансировать уровни прямого и отраженного звука. При калибровке монитора, настройке тембра, коррекции эквалайзеров музыкант будто смотрит на себя со стороны. «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее? Правда я прекрасна? Правда я прекрасен? Это не мой звук, я звучу иначе. Зеркальце, не искажай мой образ. Утешь меня, успокой, приголубь!» Одетт страдала из-за своего кривого отражения, звукорежиссер-зеркальце страдал, видя ее муки. Она умоляла:
– Погромче. Басов не слышно. Тембр! Реверберация. Басы! Это не мой звук! Я играю по-другому… Я себя не слышу…
Невыносимая боль.
Вскоре оба ничего уже не воспринимали, не понимали, не слышали. Одетт рассержена, звукорежиссер недоволен, оба буквально ненавидели друг друга. На миг пытка прекратилась, но нет, рано радуетесь, все по новой: тембр, резонансы, гул, хочу сам не знаю чего, говорю сам не знаю о чем, – безнадежно увязли в проклятой психоакустике! Выбившись из сил, заключили временное перемирие, прибегли к паллиативу, пошли на полумеры: поклялись, пообещали, что отладят звук в процессе игры. Одетт:
– Следи, я подам тебе знак.
– Я сразу пойму, не бойся.
Во время концерта музыканты часто посылают кому-то таинственные сигналы, не замечали?
Наивный постановщик обрадовался, что может наконец приступить к работе. Встал, направился к сцене:
– Начнем?
Не тут-то было! Мелодрама окончилась, и началась не комедия положений, а трагедия сидений. Одетт неудобно, этот табурет не годится, острый край режет ноги. Еще пять минут потрачено впустую: все мечутся по Театру, ищут подходящий, да не какой-нибудь – а непременно «Steinway»[65].
Когда после звука и табурета назрела проблема пюпитра, постановщик не выдержал:
– Одетт, опомнись, к черту пюпитр! Ты давно играешь наизусть. Сама же говорила мне весной, что пюпитр отделяет музыканта от публики не хуже телеэкрана. От него на сцену ляжет уродливая жирная тень. Давай обойдемся без пюпитра, прошу!
Постановщика достали все эти глупости. Одетт в ответ жалобно:
– Ну хоть недельку разреши мне играть по нотам…
Засада, внезапное нападение, оборона, защита своей территории, вооруженный нейтралитет – законы Театра напоминают законы джунглей. Звукорежиссер и Одетт схлестнулись, но отложили решающий бой на потом. Постановщик, затравленный и загнанный Одетт, в последние дни совсем сдал позиции, а теперь попытался взять реванш. Не вышло. Царица зверей не разжала когти, лишь промурлыкала:
– Не трогай пока мой пюпитр.
В Театре действует непреложный закон: миром правит звезда, а не постановщик. Миром, то есть звуком, освещением, сценарием и всем остальным. Теология тут ни при чем. Для звезды это не выбор, не волевое решение, не каприз. Так выходит на практике.
Одетт сейчас же напомнила всем об этом основополагающем правиле. Заявила, что сегодня сыграет весь свой старый репертуар. Хотя постановщик хотел бы услышать что-нибудь новое. Одетт не согласилась. Он поневоле уступил.
В Театре жесткая субординация, тебя сразу ставят на место.
В самом деле, начнем, станем пережевывать в который раз:
«Париж опьянит и закружит, / Мне запах ландыша служит / Приметой твоей…»
Постановщик едва не подавился приевшейся жвачкой, не безвкусной – протухшей…
«Не знаю, почему мне хочется с тобою / Сегодня танго танцевать…»
И я не знаю, видит бог.
«В прекрасный солнечный день / Прощай, Палома, прощай, / Тебя одну я люблю…»
А я так просто ненавижу!
«Вальс франтов, полька хитрецов,
Тра-ла-ла-ла-ла-ла!»
Это еще что за бред?
На сцене его любимого Театра заплясали призраки самых пошлых и подлых шлягеров прошлых лет. В тот день Одетт вовсе ему не нравилась.
Артисты никогда не уверены в том, что им все удалось. Однако сразу почувствуют, если что-то не ладится. Одетт понимала, что на первой репетиции у нее душа молчит и руки не слушаются. Но разве могла она честно и кротко признать свое поражение? Нет, конечно! Во всем виновата акустика!
Акустика всегда и везде ужасная, все это знают.
В зрительном зале на последнем ряду посмеивался администратор. Он вытащил из кармана плоскую флягу с текилой, свою вечную подругу-злодейку, неразлучную спутницу, отхлебнул добрую половину и демонстративно вышел. Постановщик проводил его грустным взглядом и жалко улыбнулся.
А вдруг администратор прав, и в тот весенний вечер в лионском ресторане боги, подстроив случайную встречу с Одетт, сыграли с ним злую шутку? Разве своими эстетическими пристрастиями мы обязаны случаю? Может быть, зря он, дурак, ввязался в эту авантюру?
Постановщик винил во всех бедах одного себя, даже в том, что администратор спивается.
За 10 дней до премьеры
Психоакустическая пытка продолжалась. До калибровки, настройки и коррекции нужно попросту все подсоединить. С цифровыми инструментами особых проблем нет, однако для Одетт эта простейшая операция превращалась в таинственный ритуал. Ей сказали, что новый аккордеон не издаст ни звука, если его неправильно подключить, и поэтому она самолично пристально следила за процессом. Хотя ничегошеньки не понимала. Пока звукорежиссер возился с проводами, старушка, желая умилостивить цифровых богов, повторяла как заклинание, как молитву слова инструкции, что ей однажды прочли:
– Зеленый «папа» к зеленой «маме», красный «папа» к красной «маме», нажать на кнопку «усилитель»…
Затем в качестве «аминь» добавляла:
– И штекер от «спенсера» в гнездо с буквой «S»!
Чем неизменно смешила звукорежиссера – он едва сдерживался, чтобы не захихикать. Она говорила «спенсер» – «короткий английский пиджак» вместо «семплер» – «электронное устройство для редакции и записи звука», подразумевая при этом «комбик» – «персональную мониторную систему». Представляете, как бы она назвала «MIDI» – контроллер, управляющий «семплером» и всем прочим? Да и «спенсер» при ее дикции иногда становился «спонсором», надежным и щедрым, само собой.
– Зеленый «папа» к зеленой «маме», красный «папа» к красной «маме», нажать на кнопку «усилитель»… И штекер от «спенсера» в гнездо с буквой «S»!
Отлично! Чем тебе не богослужение на латыни?
Во время второй репетиции из-за пустячного технического сбоя перед ними нежданно разверзлась бездна страхов Одетт. Они только-только отладили звук, все шло прекрасно, как вдруг старушка нечаянно нажала на незнакомую кнопку «off» – такой действительно не было на прежнем аккордеоне. Обесточенный инструмент сейчас же умолк, вместо музыки – гробовая тишина, хотя пальцы Одетт все еще бегали по клавиатуре. Она в панике закричала звукорежиссеру:
– Помогите! Спасите! Нет звука!
И прошептала, задыхаясь:
– Неужели я умерла?
Проговорилась, сама не своя от ужаса.
Репетиции только начались, спектакль был еще на стадии эмбриона, так что все в Театре тоже всполошились, перепугались, не зная, как устроен цифровой аккордеон и отчего он мог онеметь. Даже звукорежиссер растерялся. Одетт причитала, плача: «В этом Театре никто ничего не знает, никто ничего не умеет, некому починить дорогой инструмент, это они его испортили, неправильно подключили…» Им и в голову не приходило, а Одетт и подавно, что аккордеон просто-напросто выключен нажатием простейшей кнопки «off»… Пока звукорежиссер пытался его реанимировать, Одетт истово молилась:
– Зеленый «папа» к зеленой «маме», красный «папа» к красной «маме», нажать на кнопку «усилитель»… И штекер от «спенсера» в гнездо с буквой «S»!
Но боги не сжалились, магия не подействовала. Она пришла в отчаяние.
В конце концов звукорежиссер догадался, в чем причина немоты, и тихонько нажал на кнопку «on». А дальше они с Одетт громко скандировали хором:
– Зеленый «папа» к зеленой «маме», красный «папа» к красной «маме», нажать на кнопку «усилитель»… И штекер от «спенсера» в гнездо с буквой «S»!
– Не нажимая на кнопку «off», – добавил звукорежиссер, нарушая канон.
Как вы догадываетесь, не без ехидства. Однако звезда не заметила подвоха, ей было не до того, аккордеон снова зазвучал, и она от всей души возблагодарила богов.
Звукорежиссер оказался настоящим мастером своего дела, браво!
Все подключено, звук настроен, пришло время исполнить последний обряд: фея артистической, Даниэль, бережно застегнула ремни на спине Одетт, теперь звезда впряглась окончательно. Всего за два дня церемониал доведен до совершенства. Можно играть. Звезда растянула мехи, нажала на басовой клавиатуре доминант-септаккорд, раздался мощный рокочущий звук, будто загудел большой барабан, или гром прокатился по небу, или возвестили: «Тревога! Тревога!» Радостная улыбка озарила ее лицо. Молитва помогла, магия вернула звук, вперед!
Увы, вторая репетиция тоже оказалась не слишком удачной. Одетт сбивалась, играя давным-давно знакомые композиции, путала тональности, забывала репризы. Приходилось переигрывать одно и то же по нескольку раз.
Звезда искала виноватых. Плохое освещение.
– На сцене темно, я ни одной ноты не могу разобрать.
Подлая цифра.
– «Спенсер» барахлит. Искажает звук.
Подколодный табурет.
– Он снова не той высоты. Вчера было лучше. Кто баловался с моим табуретом?
И, конечно, акустика, проклятая акустика.
– Так гудит, что я саму себя не слышу.
Невзначай проскользнуло и самообвинение.
– Не говорите, будто это я состарилась.
К сожалению, да. Состарилась. Но если спектакль провалится, разве это оправдание?
На мгновение милость богов снизошла на них. Репетиция тянулась и тянулась, казалось, хуже и быть не могло, но тут нежданно-негаданно пожаловала Ее Величество Великая Одетт. Заезженные мотивы ожили, заискрились, к пальцам вернулась виртуозная техника, неудержимый порыв воодушевления захлестнул всех. Звезда поверила в собственные силы, вскочила, заиграла вовсю, запела в полный голос. Вот она, аура. Все ее почувствовали, все ей покорились. Постановщик в восторге, помощник режиссера тоже, а с ними и звукорежиссер, и ассистенты, и прочие – вся труппа. Старость, пристрастия, стиль, вкус – какие глупости! Одетт – Звезда! Эта истина очевидна для всех, ее ауру нельзя не почувствовать.
Вдохновение коснулось их и исчезло, волшебство выветрилось, марионетки сплясали и упали. Старушка съежилась, потускнела, из-под ее пальцев опять полилась мутная водица. Сцена Театра померкла.
Куда подевалась чарующая всепобеждающая аура?
* * *
После перерыва Одетт поделилась своей идеей, сообщила, как, по ее мнению, должно начаться представление:
– Занавес еще не поднят, я играю за кулисами вальс. Соль, ми, до, ля. Меня не видно. Соль, ми, до, ля. Это вступление, я окликаю, приветствую публику. Она ждет меня, но видит только занавес и слышит вальс. Он затихает на миг. Затем я играю снова: Соль, ми, до, ля… Реприза, развитие темы, я выхожу на сцену, продолжая играть. Соль, ми, до, ля. За мной следует луч прожектора. Соль, ми, до… Соль, ми, до… Соль, ми, до… И вот я вышла на середину, аккордеон смолкает, нота «соль» повисла запятой, никто не знает, что будет дальше, напряженное ожидание, саспенс. Я с решительным видом разворачиваюсь к публике, играю несколько вопросительных вариаций, напряжение растет, они по-прежнему гадают, недоумевают… Крещендо! И обрыв мелодии, я подхожу к самому краю в полнейшей тишине, смотрю им прямо в глаза, напряжение достигает апогея… Я успокаиваю их, возобновляя вальс: Соль, ми, до, ля… Буря аплодисментов, они покорены. Мы победили с самого начала. Дальше я сыграю мой обычный репертуар, пару классических произведений для разнообразия, и успех нам обеспечен!
Какой уж там «саспенс», о чем ты говоришь! Все это сыграно-переиграно, жевано-пережевано…
Тем не менее постановщик дал Одетт высказаться. На сцене он не вступал с артистами в пререкания, взял себе за правило слушать, не перебивая. На репетициях споры ни к чему, разговоры не помогут сыграть, философские диспуты неуместны. В Театре истину ищут не в словопрениях. Она рождается из спонтанных эмоций, непосредственных чувств. Постановщик добивался во время репетиций живой реакции. Верного движения, ощущения, удачной импровизации, позы, жеста, сопереживания, отклика, «химии» между исполнителями. Вот в чем смысл театрального опыта, который накапливается общими усилиями. Обсудить его можно будет потом. Нельзя заранее знать верное решение, его подскажет практика Театра. У Одетт возникла «идея» (это слово он всегда насмешливо ставил в кавычки)? Она хочет поставить мизансцену? Отлично! Пусть сыграет свою «идею»!
– Одетт, мы исполним это прямо сейчас. Согласна? Давай, выходи на сцену, как ты сказала, попробуй.
Нужно же с чего-то начать.
Занавес опущен, Одетт сыграла за кулисами: Соль, ми, до, ля. Ее не видно. Соль, ми, до, ля. Затем появилась на сцене, сделала три шага согласно собственному сценарию, а дальше следовать ему не смогла. Вместо обещанных вариаций-импровизаций, вызывающих «саспенс», ее пальцы упрямо играли все тот же простенький вальс. Одетт остановилась:
– Нет, я задумывала иначе.
Звезда решила, что сбилась случайно, однако «идея» никуда не годится, если ее нет в кончиках пальцев. Одетт заспешила обратно, чтобы выйти из-за кулис еще раз. Аккордеон перевесил, она едва не упала. Вот конкретное возражение: Одетт тяжело играть на ходу.
– Может, я сыграю вступление сидя? Так будет лучше. Звуки вальса, занавес поднимается, я уже на сцене.
Переубеждает только практика. Не эстетическое пристрастие, а физическая данность придает спектаклю зримую форму. Одетт не в силах играть стоя, стало быть, табурет стоит в центре ее мизансцены. Всю свою роль она исполнит сидя на нем. Не беда. Мирей в Шайо вообще не отходила от пианино, что не мешало ей покорить все сердца, ведь так?
За 9 дней до премьеры
У служебного входа Одетт поджидал подросток с листком бумаги.
– Что тебе нужно? Ты хочешь автограф? Этот жалкий клочок не подходит, дай что-нибудь другое. Я охотно подписываю пластинки (акроним CD и другие современные реалии отсутствовали в словаре старушки), афиши и билеты своих концертов – вещи, связанные с Одетт, а не просто мятые бумажки.
Разумеется, у мальчишки ничего раритетного не нашлось.
– Ты идешь из школы? Тогда дай мне тетрадь для контрольных работ.
Он стал рыться в портфеле, она – в сумочке в поисках ручки.
– Скажи, как тебя зовут.
Школьник промямлил:
– Я не для себя, я для ба.
Бабушка прислала внука за автографом, как трогательно!
– А как зовут твою бабушку?
Мальчик опять смутился, замялся – он не знал: ба – это ба, и все.
– Ладно. Все равно скажи твое имя.
Одетт приказала постановщику:
– Встань ко мне спиной.
Он повернулся, став на миг походным планшетом – звезда прислонила к нему тетрадь и написала свое обычное безличное сердечное искреннее послание между заданием по математике и проверочной по географии: «Бабушке Люка с дружеским приветом, Одетт».
Вернула парнишке тетрадь, подарила еще фотографию и предложила с царственной щедростью:
– Хочешь прикоснуться к моей руке? Только будь осторожен, не обожгись! Звезды раскаленные, ты же знаешь.
Одетт протянула ему ладонь. Школьник дотронулся до нее с опаской: а вдруг бабуля – ведьма и правда жжется? Так и есть, обожгла! Мальчишка отдернул руку и убежал стремглав. Одетт смеялась, как дитя, задорно, весело, в глазах заплясали лукавые огоньки, такой лучистой шаловливой звезде можно все простить.
Она доверчиво взяла постановщика за руку:
– Все они сначала просят автограф, а потом хотят ко мне прикоснуться.
За 8 дней до премьеры
Так прошли три репетиции: на сцене – мимолетные проблески вдохновения, в жизни – победоносная раздача автографов. Спектакль не складывался: у постановщика и Одетт ни в чем не совпадали взгляды, а за плечами был слишком разный опыт. Разногласия вели к недоразумениям. Одетт пеняла ему:
– Не пойму, о каком общем языке ты толковал.
На четвертый день они все-таки поняли друг друга. Неведомо как, неизвестно почему эти двое внезапно настроились на одну волну.
Постановщик, как всегда при встрече, наклонился, чтобы поцеловать Одетт, – ничего особенного. Однако звезда неожиданно наполнила обычное приветствие совершенно новым смыслом. Она потянулась к нему всем существом, приподнялась на цыпочки, потерлась лбом о его подбородок. Потеряв равновесие, Одетт покачнулась, постановщик подхватил ее за плечи, и тут между ними пробежала искра, электрический разряд! Они замерли, прислушиваясь к внутреннему сигналу, их словно соединил невидимый провод. Выдержав паузу, она встала на всю стопу, но и тут контакт не прервался. Опускаясь, ласково заскользила лбом по его груди. Их сердца открылись, наполнились нежностью, безмятежностью, примирением. Нетерпение, беспокойство, нервные судороги предыдущих дней изгладились из памяти. Впервые Театр вступил в свои права, магическое действо началось. Удивительное переживание, нежданная радость, благоговейное молчание.
Одетт продолжила игру. Взяла его за руки, закрыла глаза. Он тоже закрыл глаза, доверившись ей. Она выпустила его руки, обняла постановщика за плечи. Он обнял ее. Она вела, он слушался. Одетт открыла глаза, он тоже открыл в тот же миг, хотя не мог ее видеть. Что это? Интуиция, телепатия, гиперчувствительность? Неизвестно, но именно так актеры играют вместе, подчиняясь отнюдь не зрению, не логике, не здравому смыслу.
Постановщик крепче обнял Одетт. И она сжала его в объятиях. Он склонил голову влево, она склонила голову вправо. Они двигались в едином ритме, зеркально отображая движения друг друга, подчиняясь правилам неведомой игры и своему безмолвному соглашению. Он шаркнул правой ногой, она шаркнула левой. Статичный танец. Теперь уже неясно было, кто ведет: он, она – неважно, никто никому не диктует, никто ничего не решает, они едины, это и есть театр – совместное самоценное самоуглубленное действо. Они стали звеньями единой электрической цепи. Можно было бы сказать, что у них возникла общая вибрация, если бы это слово хоть что-нибудь значило. Ничего, черт с ним, пусть будет вибрация, даже энергетическое поле, хотя постановщик терпеть не мог расплывчатых определений.
Таинственная сила наполнила их и не отпускала. В Театре, если на вас снизошло вдохновение, удерживайте его, питайте, словно огонь углем. Таинственная сила наполнила их, и все вокруг тоже ее ощутили. Священный трепет охватил звукорежиссера, осветителей, ассистенток, помрежа, администратора, завсегдатаев Театра, живущих по соседству, которые не пропускали ни одной репетиции.
Конечно, если посмотреть на них объективно, как говорится, «со стороны», смеху не оберешься: на огромной пустынной сцене две крошечные фигурки играли в зеркало. Однако актеры и зрители упрямо внушали себе, что произошло нечто очень важное, необыкновенное. И, как ни странно, самовнушение действовало, иллюзия становилась правдой. Правдой, реальностью, а почему – неведомо.
– Из них песок сыпется, а они туда же, в шарады играть, – проворчал ипохондрик-администратор, но про фляжку с текилой забыл.
Добрый знак.
Даже настройка звука в тот день прошла на удивление весело. Одетт пошутила:
– Ты же знаешь, я псих, у меня слуховые галлюцинации.
– Ну да. То гул-реверберация, то тембр не тот, то комбик глючит, – подхватил звукорежиссер.
– Давай, не лажай, звукооператор! – поддразнила его Одетт.
Тот притворился обиженным – можно себе позволить в приятной дружеской компании. Стал настаивать, что звукорежиссер – это мастер, художник, а оператор – так, технический персонал. Одетт возразила, что в таком случае профсоюз его не поддержит, а элита не примет. Цеховая перепалка вздорной пары развеселила остальных, все набросились на новоявленного звукомастера, он запальчиво огрызался, шутки-колкости посыпались со всех сторон, хохот не смолкал, Одетт заиграла песенку с берегов Марны, гений звука, враг технарей, ловко орудовал за микшерным пультом, и вдруг из-под пальцев звезды полилась настоящая музыка. Не заезженный мотивчик – россыпь драгоценностей, живая радость.
– Жарь, оператор, жги, оператор, громче!
Одетт перебирала пальцами с немыслимой быстротой, музыка била фонтаном во все стороны, затопила весь зал, они едва не захлебнулись, десять тонн децибелов обрушилось на них! Не звезда, а комета неслась в космическом пространстве, сжигая все на своем пути, одолевая пропасти мигом, как минует в полете овраги карета в мультфильме.
Легкая, летучая, огневая музыка.
– Легкая и пустая, – ехидно прошипел администратор.
– Неправда, легкая и живая, – запальчиво возразил постановщик, опьянев от музыки.
– Ты что, забыл, как эта старушенция едва-едва на кнопки жала и все путала?
– Заткнись! Взгляни на Одетт: мчится, будто лучшая скаковая лошадь – глаза косят, пена на губах… Так, Одетт, так, покажи им!
Постановщик не на шутку разгорячился.
Администратор съязвил, что он носится со своей Одетт, как Леон Зитрон[66] со всяким старьем…
– Не нравится Зитрон? Ладно! Тогда ты похож на Мишеля Денизо[67] с его ток-шоу на «Canal+»…
Администратор, не таясь, изрядно отхлебнул текилы и предложил приложиться к фляге и постановщику.
– Неужто не хочешь?
Нет, постановщик и без текилы пьян, звезда вскружила ему голову.
Присмотритесь повнимательнее: скептик-администратор помимо воли тоже пустился в пляс, все его тело закачалось в такт музыке, когда он поплелся к своему любимому заднему ряду с веселящей флягой в руке.
Но веселье Одетт, когда та разойдется, куда заразительнее, уж поверьте!
Казалось, их возвышенное счастье длилось вечно, и все-таки интересно: сколько времени прошло на самом-то деле? На этот вопрос нам поможет ответить почтальон. Пока шла репетиция, несчастный долго топтался у служебного входа, звонил раз десять, но никто не отзывался. Глухо. Одетт сумела зачаровать даже консьержа.
– Во дает старушка, во дает, – бормотал он, застыв перед монитором системы видеонаблюдения.
Одетт умудрилась погрузить его в транс при помощи цифровой аппаратуры. Напрасно бедный почтальон стучал, звонил, размахивал руками за стеклянной дверью – привратник не слышал и не видел ничего, кроме сияющей играющей звезды.
Почтарь понял, что все усилия тщетны, и не позволил вечному искусству нарушить строгий рабочий график. Решил пока что продолжить свой путь, а затем вернуться в Театр с проклятой кучей писем, с мертвым грузом рекламных проспектов и присланных бандеролью пьес, что ежедневно немилосердно оттягивали ему плечо. Сколько же времени ушло у него на все про все? Минут десять, не больше, ну максимум четверть часа.
Как видите, эта вечность была не слишком долгой.
Одетт объявила перерыв, все разбрелись, на мониторе больше не происходило ничего интересного, так что консьерж спустился с небес на землю и сразу открыл вернувшемуся почтальону.
– Вы там уснули, что ли?
Привратник указал на монитор:
– Нет, просто Одетт играла.
– Какая еще Одетт?
Да, с почтальоном сразу все стало ясно: желторотый и внештатный.
Для звезды преклонного возраста десять минут вечности весьма утомительны.
– Ох, не могу больше! Так устала, будто дала три концерта подряд.
Старушка, пошатываясь, проковыляла в гримерную, опираясь на руку волшебницы Даниэль.
– Если постановщик появится, пусть заходит, он мне не помешает.
Одетт поспешно закрыла за собой дверь, налила воды в стакан и положила туда вставную челюсть.
Старость – не радость: все болит, повсюду жмет.
«За музыкою только дело»[68] – не только за ней, конечно. Но когда она проникает в душу, то действительно становится путеводной звездой. Весь Театр поверил в будущий спектакль, даже администратор, скептик и брюзга. Воображение постановщика набирало обороты. Он долго сидел в засаде и все-таки подстерег и настиг великолепную добычу, Великую Одетт, хоть ее вечность продлилась не дольше десяти минут.
Теперь постановщик не сомневался: нужно добиться, чтобы на сцене проявились обе ее ипостаси: бессмертная всесильная Одетт и Одетт устаревшая, уставшая. Пусть сценарий объединит мифическую божественность с человеческой бренностью, эпическое полотно с трогательной исповедью. Звезда и старуха – вот основа спектакля, причем одну нельзя отделить от другой.
Прошло еще десять минут, Одетт вышла к остальным в артистической. Все пили кофе и клевали всякие вкусности, заботливо заказанные доброй феей Даниэль. Одетт попросила стакан воды и принялась размачивать печенье. Временная челюсть превратилась в постоянную, и звезда по-прежнему ее надевала. Обещанные весной импланты старушке так и не сделали. Приходилось по-прежнему глотать неаппетитную бурду, где плавали тошнотворные частицы и крошки, – в такой мутной воде никто не стал бы ловить рыбу.
Постановщик рассказал о том, как, торопясь на первую репетицию, превысил скорость, попался полицейским на мотоциклах, смертельно боялся опоздать в Театр, в отчаянии произнес заклинание – имя «Одетт» – и сразу же услышал волшебное: «Проезжайте!» Стражи порядка отдали честь звезде и мгновенно его отпустили.
– Перед тобой даже Закон склоняется!
– Да, я такая, – лучезарно улыбнулась Одетт.
Каждый старался ей угодить, вся труппа ее обожала. Они были счастливы, «навеселе», пошутила Одетт.