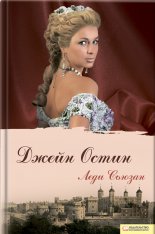Тайна леди Одли Брэддон Мэри
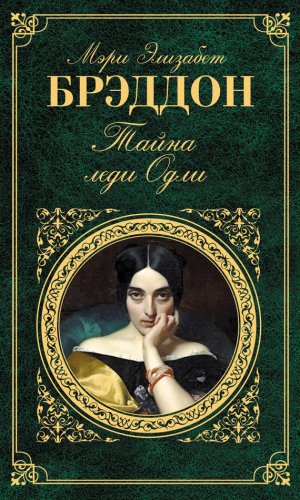
Но камень тот был ей не в тягость, потому что не было у нее никакой души. Деньги она швыряла мне, как швыряют подачку собаке, и ежели снисходила до разговора, то и разговаривала, как с собакой, причем с собакой, которую на дух не переносит. Не было дурных слов, каких бы она про меня ни сказала. Не было спеси и презрения, каких бы она при мне ни обнаружила, чтобы лишний раз показать, какое я ничтожество. Кровь закипала в жилах от такого обращения, и я мстил миледи, но свою тайну не выдавал. Из любопытства я вскрыл и прочел оба письма, но мало что понял, и снова их спрятал, и, поверьте, сэр, до сего дня, кроме меня, в них не заглядывала ни одна живая душа!
С этими словами Люк Маркс закончил свой рассказ. Он лежал, безмолвный и недвижный, и чувствовалось, что рассказ отнял у него последние силы. Он глядел на Роберта Одли и пытался обнаружить в его лице хотя бы тень осуждения. Но Роберт не стал осуждать умирающего: в том, что все случилось так, а не иначе, он видел перст Божий.
Люк Маркс забылся тяжелым сном. Давно уже спала его старая матушка, заснувшая в кресле во время его рассказа; спала Фиби, прикорнув на лежанке внизу, на первом этаже. Не спал один Роберт Одли. Не сомкнув глаз, он просидел у кровати умирающего до самого утра. Он не спал, не мог спать: то, что он услышал, не выходило у него из головы.
Фиби сменила его в восемь часов утра. Он отправился в гостиницу и, заказав номер, упал на кровать и уснул как убитый.
Проснулся он только вечером. Когда он сошел вниз, в столовую, хозяин гостиницы сообщил ему, что Люк Маркс скончался в пять часов пополудни, отошел тихо и безмятежно, как человек, которого не мучают угрызения совести.
В тот же вечер Роберт Одли сел писать письмо — длинное письмо, адресованное мадам Тейлор, проживающей в бельгийском городке Вильбрюмьез, длинное письмо, адресованное порочной женщине, сменившей за свой недолгий век несколько имен и обреченной на то, чтобы, получив еще одно, закончить с ним свой земной путь. В этом письме он рассказал все, что узнал от умирающего.
«Может быть, известие о том, что супруг ее остался жив, принесет ей хоть какое-то облегчение, — подумал Роберт Одли, — если только душа ее, черствая и себялюбивая, не вовсе разучилась сострадать ближним!».
41
РАССКАЗ ЖИВОГО
Клара Толбойз вернулась домой, в Дорсетшир. Она рассказала отцу, что его единственный сын, покинув Англию 9 сентября прошлого года, вновь отправился к берегам Австралии. Все говорит за то, что он жив и непременно вернется, чтобы попросить прощения у отца, перед которым, положа руку на сердце, не так уж и виноват, тем более что за ошибку юности — женитьбу на недостойной особе — он уже заплатил сполна.
Мистер Харкурт Толбойз совершенно растерялся. Сей Юний Брут никогда не попадал в подобное положение. Однако он понял, что, действуя в излюбленной своей манере, никогда из него не выпутается, и потому, впервые в жизни дав волю естественным чувствам, признался, что после беседы с Робертом Одли он, думая о судьбе сына, испытал сильнейшее беспокойство, и отныне да будет известно всем: когда бы его бедный мальчик ни вернулся в Англию, он будет рад принять его в свои объятия.
Но когда он вернется? Как с ним связаться?
Роберт Одли поместил объявления в газетах Мельбурна и Сиднея. Может быть, приехав в один из этих городов, Джордж прочтет их и откликнется? Да-да, он непременно откликнется! Не махнет ли он на них рукой? А разве тревога Роберта для него ничего не значит? Но что, если объявления не попадутся ему на глаза? Что, если он путешествует под вымышленным именем, и никто — ни попутчики, ни капитан корабля — не догадается, что он и тот, о ком идет речь в газете, — одно и то же лицо? Что делать тогда? Что делать? Набраться терпения и ждать, когда Джордж, устав от бесплодных странствий, сам, по своей воле, вернется в родные пенаты? Но как ускорить его возвращение? Как?
Одолеваемый этими вопросами, Роберт приехал в Дорсетшир, и мистер Харкурт Толбойз, впервые в жизни услышав голос собственного своего великодушия — и немало тому подивившись, — предложил Роберту чопорное гостеприимство под кровом особняка из красного кирпича.
Роберт приехал в середине апреля, и снова увидел черные ели, к которым так часто устремлялись его беспокойные мысли, без устали напоминавшие ему о Кларе Толбойз. За живой изгородью уже цвели примулы и ранние фиалки, и ручьи, которые тогда, в январе, были скованы льдом, подобно сердцу Харкурта Толбойза, — ныне растаяли, подобно сердцу Харкурта Толбойза, и, поблескивая в лучах неверного апрельского солнца, бежали под черными зарослями боярышника.
Спальня и гардеробная, отведенные Роберту, дышали торжественной строгостью. Каждое утро, стараясь избавиться от гнетущего чувства, которое невольно охватывало его в этих стенах, Роберт прислушивался к пению пружинного матраса и представлял, что минувшую ночь он провел на клавишах концертного рояля.
По утрам его будили удары колокола. Он просыпался и, обводя взглядом окружающие предметы, невольно хмурился, ибо все, что он видел в эти минуты, живо напоминало ему главы, статьи и параграфы воинского устава.
Он совершал свой нехитрый туалет, и солнце, которое еще не давало тепла, немилосердно слепило его утренним светом.
Следуя примеру мистера Харкурта Толбойза, он принимал холодный душ, и, когда часы в холле отбивали ровно семь, выходил из дому — строгий, чинный и скучный, как мистер Харкурт Толбойз, и шел к столу, поставленному под черными елями, где его уже ожидало то, что можно было бы назвать легким предварительным завтраком.
Клара Толбойз тоже принимала участие в утреннем священнодействии. Она приходила к столу вместе с отцом и была прекраснее утра, ибо утро временами бывало унылым и сумрачным, а Клара Толбойз всегда казалась веселой и улыбчивой.
Они часто беседовали о Джордже, и Роберт Одли, сидя за длинным столом, редкий день не вспоминал о том, как он впервые появился в этом доме и как возненавидел Клару за ее холодное самообладание. Сейчас, узнав ее ближе, он понял, что для него уже не существует женщины благороднее и прекраснее, чем Клара Толбойз.
Время от времени в доме появлялись молодые деревенские сквайры, окруженные мамашами и многочисленными сестрицами. Роберт Одли с трудом переносил их присутствие, ибо видел в них не гостей, а разбойников, нагло посягающих на его заповедное достояние. Он ревновал Клару ко всему и ко всем: к толстому вдовцу сорока восьми лет, к пожилому баронету с темно-рыжими бакенбардами, к старухам-соседкам, которым она покровительствовала, к цветам в оранжерее, которые отнимали у нее слишком много времени, отвлекая внимание от него, Роберта Одли.
Вначале оба они держались довольно сдержанно и церемонно, обсуждая лишь злоключения бедного Джорджа, но мало-помалу между ними возникло чувство душевной близости, и не прошло трех недель, как мисс Толбойз совершенно очаровала Роберта, начав ему выговаривать за бесцельную жизнь, которую он вел слишком долго, и за небрежение талантами и дарованиями, которые столь щедро отпустила ему природа.
Господи, как прекрасны были упреки из уст любимой! Как приятно было уничижать себя при ней и прикидываться смиренником! Сколь сладостны были намеки на то, что, если бы в его жизни появилась достойная цель, он не стал бы рассеянно блуждать по накатанным дорогам, но, не боясь препятствий, проторил бы новую — свою!
— Неужели вы полагаете, мисс Толбойз, — сокрушенно спрашивал он, — что я до пятидесяти лет буду читать французские романы и курить турецкий табак? Неужели вы не верите, что настанет день, когда мне опротивят пенковые трубки, наскучат французские романы, а жизнь с ее гнетущим однообразием надоест настолько, что я сам захочу изменить ее уклад?
Увы, Клара Толбойз не поняла истинного смысла сих меланхолических жалоб.
— Подумайте о благе ближних, — посоветовала она, — и займитесь своей профессией всерьез.
Роберт нахмурился: эти перспективы показались ему удручающими.
«Пока я буду заботиться о благе ближних, — подумал он, — она выскочит замуж за какого-нибудь неотесанного сквайра».
Пять недель прогостил молодой адвокат в семействе Толбойзов, не в силах разрушить чары неопределенности, а когда, почувствовав, что оставаться дольше просто неприлично, в одно прекрасное майское утро собрал чемодан и объявил о своем отъезде.
Мистер Харкурт Толбойз был не из тех, кто в подобных случаях выказывает горестное сожаление, но, обратившись к гостю с холодной приветливостью, которая должна была изображать высшую степень дружелюбия, он сказал:
— Мы хорошо провели время, мистер Одли. Рад, что ваше присутствие внесло в нашу тихую размеренную жизнь приятное оживление.
Роберт поклонился.
— Надеюсь, мы еще не однажды будем иметь честь принимать вас в нашем поместье, — с той же холодной приветливостью продолжал Харкурт Толбойз. — Здесь у нас чудесные места для охоты, и, если в следующий раз вы соблаговолите взять с собой ружье, фермеры, арендующие мою землю и мои угодья, отнесутся к вам с отменной вежливостью и должным пониманием.
Роберт поклонился еще раз.
— Спасибо, сэр, я и в самом деле люблю охотиться на куропаток, — сказал он и, не удержавшись, взглянул на Клару Толбойз.
Девушка покраснела и опустила глаза.
Для молодого адвоката это был последний день пребывания в земном раю. Впереди его ждала скучная череда дней, ночей, недель и месяцев, которая должна была продлиться до первого сентября, когда открывался охотничий сезон и когда уместно было появиться в Дорсетшире во второй раз. За это время молодые розовощекие сквайры и толстые сорокавосьмилетние вдовцы могли нанести ему, Роберту Одли, непоправимый ущерб. Неудивительно, что столь мрачные предчувствия ввергли его в совершенное отчаяние, и в то утро он был для мисс Толбойз плохим партнером для прогулок по дорожкам сада.
Но этот день миновал, как и всякий другой, солнце покатилось за горизонт, а мистер Харкурт Толбойз заперся у себя в библиотеке для юридического разбирательства какого-то дела в обществе адвоката и арендатора — и только тогда Роберт Одли преодолел свою печаль и у него стало чуть легче на душе.
Стоя у высокого окна гостиной, он наблюдал, как темнеет небо и с каждой минутой все ярче разгорается закат умирающего дня. Клара сидела рядом с ним, и он не мог не радоваться этому тихому уединению, хотя там, вдали, разглядел тень экспресса, который завтра утром должен умчать его в Лондон. Бог с ним, с прошлым, бог с ним, с будущим! Клара Толбойз сидела рядом, и только это имело значение и смысл.
Они и сегодня говорили о том, что всегда связывало их, — о Джордже. Пальцы девушки нервно вздрагивали; в ее глазах застыли слезы.
— Не могу, не хочу верить, что папа так легко смирился с исчезновением брата, ведь он любит — любит, мистер Одли! Будь я мужчиной, я бы сама поехала в Австралию, я бы нашла брата и вернула его домой. — И, помолчав, тихо добавила: — Если, конечно, он еще жив.
Она перевела взгляд на темнеющее небо.
— Может быть, мне отправиться на поиски вашего брата? — промолвил Роберт, дотрагиваясь до ее руки.
— Вам? — Клара подняла голову и сквозь слезы взглянула на него. — Вам, мистер Одли? Но разве вправе я ожидать от вас такой жертвы?
— А разве есть на свете жертва, какую бы я не принес ради вас, Клара? Разве есть такие моря и страны, куда бы я не отправился, зная, что награда за труды — ваша благодарность?
С минуту Клара молчала, не находя нужных слов, а потом сказала:
— Вы очень добрый и великодушный человек, мистер Одли. Но вы предлагаете так много, что мне вряд ли когда-нибудь удастся по достоинству отблагодарить вас. Нет, нет, это невозможно. По какому праву смогу я принять такую жертву?
— По праву моей любви к вам, Клара!
Роберт Одли упал на колени — получилось это, признаться, довольно неуклюже — и, припав к изящной нежной ручке, скрытой складками шелкового платья, осыпал ее страстными поцелуями.
— Я люблю вас, Клара, — сказал он, — я люблю вас. Можете позвать отца, можете сию же минуту выгнать меня из вашего дома. Делайте со мной, что хотите, я все равно люблю вас и буду любить, пока живу на свете, и, даже если вы скажете мне «нет», это ничего не изменит!
Клара высвободила маленькую ручку, но это был отнюдь не резкий, не сердитый жест, ибо в следующее мгновение та же ручка легко и трепетно легла на темные волосы Роберта.
— Клара, Клара! — умоляюще прошептал он. — Я поеду в Австралию, я разыщу вашего брата!
Ответа не последовало. К чему слова, когда ответ в глазах любимой?
— А может, поедем вместе, Клара? Поедем как муж и жена?
Мистер Харкурт Толбойз, зайдя в эту комнату четверть часа спустя, застал Роберта одного и вынужден был выслушать признание, удивившее его до чрезвычайности. Подобно всем самонадеянным людям, он совершенно не замечал того, что происходило у него под боком, и был искренне убежден, что именно его общество и спартанский уклад жизни сделали Дорсетшир привлекательным для гостя.
Увы, ему пришлось разочароваться, но разочарование он перенес удивительно легко, прямо-таки стоически, выразив спокойное удовлетворение по поводу того, что события повернулись именно таким, а не иным образом.
Когда, к всеобщему удовольствию, все было улажено, Роберт сказал:
— С вашего позволения, дорогой сэр, наше свадебное путешествие мы совершим в Австралию.
Это заявление смутило мистера Толбойза. Взор его затуманило нечто похожее на слезы, и он, смахнув это «нечто», крепко пожал руку будущему зятю.
— Я понимаю, вы хотите отправиться на поиски моего сына, — сказал он. — Будь по-вашему: привезите мне моего мальчика, и я с готовностью прощу вас за то, что вы лишаете меня дочери.
Роберт Одли вернулся в Лондон, чтобы разузнать, какие корабли отплывают из Ливерпуля в Сидней в июне.
Он вернулся новым человеком — с новыми надеждами, новыми заботами, новыми планами и новыми целями. Он ехал по знакомым улицам и не понимал, почему этот мир, до сих пор скучный и однообразный, вдруг заиграл тысячами оттенков и запел на тысячи голосов.
Когда он вошел в дом, миссис Мэлони, по обыкновению, усердно мыла лестницу.
— Вам тут уйма всяких писем пришла, ваша честь, — сказала она, вставая с колен и прижимаясь к стене, чтобы дать ему пройти. — И посылки разные приходили, и еще приходил один джентльмен, много раз приходил — он и сейчас ждет вас: я ему сказала, вы писали, что приедете сегодня, чтобы я, значит, приготовила ваши комнаты.
— Прекрасно, миссис Мэлони! Пожалуйста, купите мне чего-нибудь поесть, пинту шерри, а также позовите носильщика и проводите его ко мне.
Роберт медленно двинулся вверх по лестнице, размышляя, кто бы это мог ждать его в апартаментах.
Вряд ли это сколько-нибудь значительная персона. Скорее всего назойливый кредитор. Отвечая на приглашение Харкурта Толбойза, Роберт уехал из Лондона, оставив дела в совершенном запустении: он слишком высоко взлетел на седьмое небо любви, чтобы помнить о столь низменных материях, как неоплаченные счета от портного.
Он открыл дверь и вошел в гостиную. Канарейки пели прощальную песню заходящему солнцу. Бледно-желтые пятна света мерцали на листьях герани. Гость сидел спиной к окну, опустив голову на грудь. Когда Роберт Одли вошел в комнату, посетитель вскочил с места, и молодой адвокат вскрикнул от радости и удивления.
Перед ним стоял Джордж Толбойз.
Миссис Мэлони принесла из ближайшего кабачка вина и еды на двоих, и молодые люди далеко заполночь засиделись у камина, возле которого давно уже не было так весело и уютно.
О многом и о многих поведал Роберт в тот вечер своему другу, и лишь о женщине — порочной женщине, обреченной доживать остаток своих дней в забытом богом бельгийском городишке, — он упомянул лишь вскользь, зная, скольких душевных мук будет стоить Джорджу одно лишь напоминание о ней.
Затем настала очередь Джорджа, и он рассказал, что случилось с ним в тот солнечный день, седьмого сентября прошлого года, когда он, оставив спящего друга у ручья, где они ловили форель, отправился в Одли-Корт, чтобы изобличить во лжи свою неверную жену.
— Господь свидетель: с той минуты, когда я упал в колодец, мне больше всего хотелось все устроить так, чтобы правосудие не покарало эту женщину. Плечо саднило и кровоточило, правая рука была сломана. Я стоял по колено в грязи и болотной тине, растерянный и ошеломленный. Глотнув зловонный воздух, я понял, что, если не выберусь отсюда, мне конец. К счастью — насколько в столь бедственном положении вообще уместно говорить о счастье, — мне пригодился мой австралийский опыт, ибо лазать я умею, как кошка. Колодец был сложен из грубо отесанных камней неправильной формы, и я, вставляя ноги в расщелины между ними, упираясь спиной в противоположную стену и помогая себе руками — хотя правая рука болела неимоверно, — мало-помалу начал подниматься наверх. Трудная это была работа, Боб, и странно, что человек, убеждавший себя и других в том, что он устал от жизни, тратит невероятные усилия на то, чтобы спасти эту самую жизнь. По-видимому, я выбирался не меньше получаса, хотя, как ты понимаешь, в такие минуты каждое мгновение кажется вечностью. Наконец я вылез на поверхность. Уйти незамеченным было невозможно, и я решил спрятаться в кустарнике до наступления темноты. Тот, кто нашел меня там, рассказал тебе, что случилось потом.
— Да, Джордж, он мне все рассказал.
В Австралию Джордж не вернулся. Он взошел на борт корабля «Виктория-Регия», но потом передумал, обменял билет и перешел на другое судно той же компании, направлявшееся в Нью-Йорк. В Нью-Йорке Джордж оставался до тех пор, пока в состоянии был вынести добровольное изгнание и одиночество, отторгшее от него всех, кого он помнил и любил.
— Джонатан встретил меня очень дружелюбно, Боб, — сказал он, заканчивая твой рассказ. — У меня хватило средств, чтобы устроиться на чужбине совсем недурно, тем более что, как ты знаешь, человек я неприхотливый. Я даже начал подумывать о том, как бы приумножить капитал, и чуть было не отправился на калифорнийские золотые прииски, но, взглянув на себя со стороны, почувствовал суетность и никчемность своего существования. Там у меня было множество друзей, Боб. Их могло бы стать еще больше, но зачем они мне? Прошлое болело во мне, словно пуля, которую так и не вынули из тела. Что общего было у меня с теми, кто ничего не знал о моей боли? Я тосковал по твоему крепкому рукопожатию, Боб. Твоя дружеская рука вывела меня из самого мрачного лабиринта моей жизни.
42
КАЖДОМУ СВОЕ
Прошло два года. Роберт Одли поселился между Теддингтон-Локс и Хэмптон-Бридж в прекрасном доме с видом на реку. Там, среди лилий и камыша, можно частенько видеть восьмилетнего мальчугана, играющего с годовалым младенцем. Мальчик берет малыша на руки и, шутки ради, осторожно наклоняет его над водой, и младенчик, глядя на ее спокойную поверхность, с удивлением обнаруживает там свое отражение.
Роберт Одли пользуется широкой популярностью в узком семейном кругу. Когда он устраивает показательный процесс «Хоббс против Ноббса», родные и близкие, выступающие в роли высоких судей, покатываются со смеху, высказывая величайшую небрежность по отношению к своим обязанностям.
Мастер Джордж Толбойз-младший, упомянутый выше, пока еще не мечтает об Итоне и с удовольствием ловит головастиков, устраивая в ивовых зарослях собственную академию. Он часто приходит в дом отца, проживающего со своей сестрой и ее мужем. Мальчик души не чает в дяде Роберте, тете Кларе и прехорошеньком младенчике, который только-только начал ходить по лужайке, сбегающей к воде. На реке построен большой эллинг и причал, где Роберт и Джордж швартуют свои изящные лодки.
Сюда, в дом близ Теддингтона, приходят красивая жизнерадостная девушка и ее отец, седобородый джентльмен, мужественно, как и подобает христианину, перенесший все тяготы жизни, выпавшие на его долю.
Более года минуло с того дня, когда на имя Роберта Одли пришло письмо, окаймленное черной полосой. В письме сообщалось о том, что в далеком бельгийском городке Вильбрюмьер тихо скончалась некая мадам Тейлор. Она умерла после продолжительной болезни, именуемой, согласно диагнозу господина Валя, «общий упадок сил».
Летом 1861 года в дом явился еще один гость, искренний и благородный молодой человек. Он качает младенца, играет с Джорджи, а когда отправляется на реку, любо-дорого смотреть, с каким мужественным изяществом он налегает на весла. Лодки никогда не стоят без дела, когда в Теддингтон приезжает сэр Гарри Тауэре.
Рядом с эллингом построен просторный павильон, где джентльмены курят летними вечерами, пока Клара и Алисия не позовут их на лужайку пить чай и есть клубнику со сливками.
Одли-Корт заперт. Старая строгая экономка безраздельно правит в печальном особняке, где когда-то раздавался серебристый смех миледи. Портрет миледи, написанный художником-прерафаэлитом, занавешен. Густая пыль покрывает картины Воувермана, Пуссена, Кейпа и Тинторетто. Дом часто показывают любопытствующей публике — баронет об этом не знает, — и люди, восхищаясь апартаментами миледи, задают множество вопросов, интересуясь золотоволосой красавицей, скончавшейся за границей.
Сэр Майкл не торопится с возвращением в родовое гнездо. Он останется в Лондоне до тех пор, пока Алисия не станет леди Тауэре, а затем переедет в дом, который недавно купил в Хартфордшире по-соседству с владениями зятя.
Джордж Толбойз вполне счастлив с такой сестрой, как Клара, и таким испытанным другом, как Роберт, но не следует забывать, что он молод, и быть может, недалек день, когда в его жизнь войдет та, которая утешит его и заставит забыть о прошлом.
Пенковые трубки и французские романы Роберт Одли раздарил адвокатской холостой братии. Миссис Мэлони присматривает за его геранью и канарейками, и он ежеквартально выплачивает ей небольшое жалованье.
Надеюсь, никто не станет возражать по поводу того, что всех этих добрых людей, участников моей истории, я привела к счастливому концу. Мой жизненный опыт невелик, но многообразен[1], и я смело могу подписаться под словами Давида — могущественного царя и великого философа, утверждавшего, что ни в юности, ни в зрелости он «не видал праведника оставленным, и потомков его — просящими хлеба».