Невидимая сторона Луны (сборник) Павич Милорад
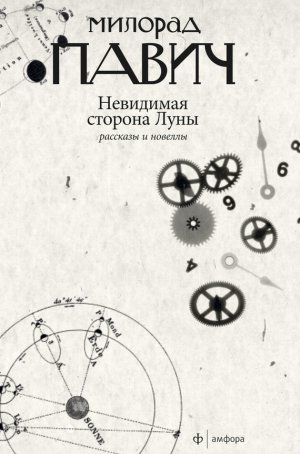
Я понял, что ей от меня нужно, и начал выкрикивать ей указания, а она, слушая меня, понемногу продвигалась. Сначала я велел свернуть от фонаря налево, потому что прямо перед ней под водой был скользкий травянистый бугор. Она послушалась и повернула налево, но тут поток воды сорвал у нее с ноги туфлю, красную туфлю с каблуком, похожим на ножку винной рюмки. Туфля помчалась, увлекаемая мутным потоком, зацепилась за решетку водостока и завертелась там, словно мельничное колесо. Не обращая на это внимания, Оля Иваницкая продолжила свой путь. Теперь она была у левого марша лестницы. Я крикнул, чтобы она держалась за ветки кустов, и она понемногу стала подниматься, ступенька за ступенькой, однако ветки то и дело обламывались, Оля теряла равновесие и возвращалась на одну ступень вниз. Потом я предложил ей взяться за торчащую из воды скамейку, что она и сделала. Между тем ее шарф зацепился за спинку скамьи, а она, придерживаясь за эту спинку, продолжала двигаться, волоча шарф за собой, а он все сильнее затягивался вокруг шеи. Когда я сообразил, что шарф душит Олю, я протянул ей руку, чтобы помочь, ведь она была совсем рядом. Я сжал ее пальцы, но в моей руке осталась только ее перчатка. И тогда я почувствовал, что вода поднялась гораздо выше колен. Я стоял у фонаря в самой глубокой луже в центре парка, один-одинешенек, недалеко от меня у решетки вертелся в водовороте мой левый ботинок, а позади остались поломанные кусты, за которые я, очевидно, только что держался, спускаясь по лестнице. Шарф туго закрутился вокруг шеи и, зацепившись за скамейку, душил меня и тянул назад, а в руке я по-прежнему держал свою перчатку. Наверху, у фонтана, никого не было…
Внезапно нижний слой облаков разошелся, и на площадь опустился слабый серебристый свет. Чувствуя себя так, словно укусил мохнатый персик или мышь за спину, я выбрался на этом свету на чистое место, выжал носки и промокший рукав и вошел в кафе «Москва» – подождать, пока схлынет вода и можно будет спуститься за вторым ботинком. Заказал чай, развесил пальто на спинке стула и в первый раз почувствовал в промокшей руке зуд. Зуд – разговор со смертью, подумал я, стоит обратить на него внимание. Через него смерть шлет нам какие-то сообщения и знаки, и когда мы чешемся, то оставляем ногтем надпись. Тем не менее я не стал думать о свербящей руке, а смотрел в окно. Опять появились люди, они выдыхали слова вместе с паром, и прохожие выглядели через стекла кафе, словно живые куклы в витрине. Прошел, возвращаясь из «Нолиты», Васко, явно с намерением купить сигарет, и я стукнул ему ложечкой в стекло. Несколько прохожих обернулись, и он заметил меня. Махнул рукой, почесал бровь и сразу же принялся разматывать шарф, решив войти. У него были тяжелые, словно наполненные медом, мешки под глазами, и я знал, что его день в два раза моложе моего, ибо он всего четыре часа как проснулся. Васко сел напротив меня и заказал стакан красного вина и булочку. Вытаращив глаза, он макал свой взгляд, прилепленный к краю булочки, в вино, выставлял его через окно на пробивавшееся между туч зубастое солнце и, наконец, сушил на моем взгляде, уставившись куда-то сквозь меня и используя мои глаза как амбразуры. Он безостановочно говорил. Васко мог жевать фасоль и картошку, не смешивая их во рту, – настолько он был спокоен.
– В минувшую войну, – рассказывал он, – в лагере на Банице оказалась одна молодая женщина с Дорчола, обвиненная в принадлежности к коммунистическому движению, что, как известно, без всяких разбирательств каралось смертью. В момент ареста она знала в своей организации еще двоих. Один был ее друг, который носил партийную кличку Самач, а другая – лучшая школьная подруга по кличке Любица. Когда девушку забрали, фараоны не знали, кто им попал в руки, а она отказалась что-либо отвечать, даже имя. После вынесения смертного приговора ее спросили, хочет ли она умереть безымянной. Она ответила, что не хочет, назвала вместо своих имени и фамилии партийные клички своей лучшей подруги и жениха и была расстреляна как Любица Самач. Ушла из жизни под именами тех, кого больше всего любила, и таким образом защитила их в свой последний час, поскольку в списки расстрелянных попали имена тех, кто на самом деле был на свободе и действовал…
– Что скажешь? – спросил Васко, закончив рассказ и наблюдая за тем, как его булочка понемногу впитывает вино. Под его седыми волосами были другие, черные, и вдруг я вспомнил, что Васко умер через два года после меня, и тот, кто сидел напротив меня, никак не мог быть им.
Если это так, подумал я, значит, и тот, другой, что сидит в «Москве» за мраморным столом и сушит мое белье, никак не может быть мною. В этот момент я во второй раз почувствовал зуд в руке. Я расстегнул влажную рубашку и почесался. Я знал – пять пальцев оставили на моей руке пять следов, как пять букв. Надпись ногтем. Возможно, стоит прочесть эту надпись, подумал я и посмотрел на нее. Из моего рукава высовывалась и лежала на мраморном столе кафе «Москва» длинная и темная, как деготь, рука с розовой ладонью и тонкими холеными сенегальскими пальцами, абсолютно черными. Чья-то чужая рука.
И тогда я понял, что и мы умерли под чужими именами, под именами незнакомцев, которые теперь, защищенные нашей смертью, живут и действуют в безопасности.
Шахматная партия с живыми фигурами
Где-то возле Джура Петар Коич заправил бороду в жилет и съел ужин в ресторане парохода «Делиград». Когда он вытер усы и заново расчесал бороду, она развевалась в темноте напротив пристани Пешта. Борода была красивая, длинная, золотистая. У Коича была привычка завязывать на ней по вечерам узелки, чтобы не забыть, что нужно сделать завтра, а утром их развязывать, и по расположению каждого определять, что он значит. Сейчас, однако, один узелок в бороде оставался неразвязанным уже целую неделю, и Коич никак не мог вспомнить, почему завязал его где-то там, в Вене.
«Что бы это могло быть? – ломал Коич голову бог знает который уже раз. – Возможно, что-то с дорожными сундуками?»
Он расплатился за ужин, записал, как обычно, сумму мелкими цифрами на ногте левой руки и осмотрел свои огромные, как гробы, сундуки.
Потом положил сплетенные руки под изголовье и пронес свою голову на подушке сквозь сон. Возле Белграда «Делиград» свернул вверх по течению в Тамиш, и утонувшие в реке ивы стали царапать днище парохода. Это разбудило Коича. Когда судно пристало и он вышел на палубу, облака едва не сбивали его с ног – так быстро и низко пролетали они над ним. Он высадился на панчевской пристани, таща сумку с саблями, такую тяжелую, что груз окончательно прогнал сон. Нанял покрытый лаком фиакр с сонными лошадьми и кучером с позавчерашней щетиной, и пробормотал, усаживаясь:
– К «Трубачу»!
Дорога закончилась, ногти и ладони Коича были полны записанных счетов, и он спешил все это с себя смыть и забыть. В гостинице «Трубач», где на втором этаже сдавали номера, а на первом кинозал сменил находившийся здесь некогда театр, он снял комнату с видом на площадь. На подоконнике лежала салфетка, Коич выпил на ней кофе, а потом какое-то время валялся, ожидая, когда начнется день и откроются лавки. Он лежал вымытый, ногти и резиновые манжеты были чисты, и его счета начинались сызнова. Он читал книгу, раскрыв ее на ладони и водя пальцем по странице, а потом достал дорожную шахматную доску, не раскладывая, придвинул к зеркалу и сыграл партию сам с собой. Половина доски была его, половина – того, в зеркале.
Когда на нижней панчевской (Даниловой) церкви пробило восемь, Коич поднялся и вышел на улицу. Облака следовали за ним по пятам, и он ступал по их теням перед собой. Он прошел мимо одной витрины, где на полу утюгами с длинными рукоятками разглаживали скатерти, а вместо абажура вокруг лампочки висел платок. Затем Коич миновал парк и оказался перед домом у магистрата со множеством окон и витрин на первом этаже. Во всех витринах вместо занавесок были знамена. Он сосчитал их, убедился, что число подходит, и начал заходить в магазины и арендовать витрины. Это было самой легкой частью работы, он справился с ней быстро, бросая перед собой короткие взгляды, точнее – половинки взглядов, способные достичь собеседника. Коич был по-прежнему медлителен, спичка догорала у него, прежде чем он успевал прикурить трубку, а время он мерил трубками: третья трубка – полдень, пятая – ужин. Еще в первую трубку Коич послал за сундуками, и тогда, в час, когда на улицах больше всего народа, во всех окнах большого дома у магистрата появилась и заблистала серебром и золотом военная форма, привезенная им из Вены. Там было восемь белых, шелковых, отороченных мехом доломанов в одном ряду, а рядом – восемь других мундиров, красных, обшитых золотом и осыпанных пуговицами. На тех и других были кружевные воротники и короткие сабли в кожаных ножнах с посеребренными наконечниками.
Петар Коич окинул их взглядом и вернулся в гостиницу, на сей раз – на первый этаж, в кинозал. Там уже, как было условлено, убирали сиденья и готовили белую и красную краску, чтобы красить пол. Коич с удовлетворением посмотрел на происходящее и вновь поднялся в свой номер. Он ел пищу, приготовленную только на птичьем жиру, и до сих пор, как когда-то, держался во сне за подушку своей матери, как за спасательный плот. Он переоделся, засунул платок под воротник, так как знал, что придется потеть, взял кожаный футляр с выкройками и посмотрел в окно. Нанятый помощник портного уже был на улице и прохаживался так, будто перескакивает через годы. Коич проверил адреса, по которым послал письма из Вены, и записал их на ногтях левой руки. Он не любил, когда при нем упоминали много имен, потому что на имена у него была плохая память. Из коробочки табачного цвета он достал визитку и отправил гостиничного посыльного предупредить о посещении. Начинался более сложный этап дела, отмеченный второй трубкой.
Помощник закройщика Коста Сарич из Верхнего переулка шел впереди и звонил в дверь или стучал дверным кольцом, а Коич стоял в задумчивости и ждал, когда откроют ворота. На небе было много облаков, в голове у него – много мыслей, и все это перемешивалось. Звонок слышался где-то в глубине дома, скорее на другой улице, потом кто-нибудь выходил по мощеному двору или бросал парню ключ из окна.
«Мудрость – это то же кровообращение. Она помещается не в мозгу, а в сердце, это – ее истинный орган, здесь она очищается, как кровь, но при помощи иного дыхания… Но если дыхание претворить в мысль, освободится такая энергия, которая сможет поменять глаза местами…»
Перед ними была изогнутая кочергой улица, и на ней – ворота братьев Николич. Дома был только младший, Алекса. Он стоял у окна, и в тот момент, когда вошел Коич, схватил, как хватают муху, воробья, слетевшего на подоконник поклевать крошек. Алекса победно обернулся к Коичу, протянул птицу в ладони, сжав ее так, что она запищала.
– Дай десятку, тогда отпущу! – сказал он гостю и своей огромной ручищей стиснул пичуге лапку, готовый ее сломать.
Коич смотрел на Алексу и едва узнавал его руки, широкие, как лопаты, затвердевшие на полях сражений, – руки, на которые самому Алексе, как он рассказывал, за восемь военных лет ни разу не удалось поглядеть. А потом, вернувшись в свой дом в Панчево, он сел за стол, увидел их, не узнал и жутко испугался.
Лапка хрустела, птица отчаянно пищала, Коич вытащил десятку и протянул один ее край Алексе. Другой край он держал до тех пор, пока хозяин не освободил воробья; наконец они сели.
– Вы не изменились, господин Алекса, – сказал гость, передернув плечами так, что они коснулись ушей.
– Конечно нет, – согласился хозяин. – Меня каждый раз, только икнуть вздумаю, задница за горло хватает. Так что ты, Коич, предлагаешь?
– Естественно, тот же чин, что у вас был в армии, – успокаивал Коич собеседника, продлевая свой взгляд настолько, чтобы он достиг помощника закройщика. – И оружие, как в армии. Полевые пушки на колесах. С сиденьем, разумеется!
Тогда была подана голубиная печенка, тушенная в кислом молоке с перцем, и Алекса Николич задал решающий вопрос, вопрос о цвете.
– Знаешь, неудобно как-то, – говорил он, засунув палец в ухо, – я недавно из Галиции. На зубах еще грязь скрипит, я и сейчас от страха согласные забываю, а по пятницам мне снится, что кто-то замахивается на меня саблей. Там до сих пор рубятся русские – белые и красные, хотя война закончилась, в газетах полно об этом, так что мне не все равно, какой цвет я выберу.
– Выбирайте сами! – ехидно ответил Коич, глядя, как артиллерийский капитан Николич подкладывает ему на тарелку голубиной печенки.
«Сапоги и те умнее его!» – подумал Коич и вздрогнул, ибо вспомнил, что так ругала его собственная мать. «Ботинки и те умнее тебя!» – говорила она Коичу, который сейчас разглядывал свои новые, только что купленные в Вене ботинки.
– Белый! – решил за себя и за брата Алекса Николич и отлил немного вина из своего бокала Коичу.
– Превосходный выбор, господин Алекса, – пробормотал Коич и развернул выкройку белого мундира артиллерийского капитана.
– Однако здесь есть один щекотливый момент. Как и на настоящей войне, один из вас двоих может быть устранен с поля боя.
– Как это? Разве заранее известно?
Коич закусил губу и быстро ответил:
– Конечно нет, и не может быть известно. Но все может случиться и следует ко всему быть готовым.
– Год запаздывает, дорогой Коич, господин октябрь вооружился до зубов, если пережили казаков, переживем и ангину! Снимайте мерку, господин Коич, снимайте!
Помощник закройщика Коста Сарич устремился к господину Алексе, засунул ему портновский сантиметр между ног, где всегда тепло, и дело двинулось.
Снаружи пошел снег, и Коич вспомнил, что его ботинки, сделанные по новейшей моде, оставляют за собой след в виде монограммы владельца. Он оглянулся и к своему изумлению вместо своих инициалов «ПК» увидел на снегу совершенно незнакомые «ММ». Они виднелись совершенно отчетливо как доказательство того, что ему упаковали не ту пару ботинок.
– Кто знает, может, это и к лучшему! – пробормотал Коич и направился к доктору Читинскому.
В гостиной дома д-ра Читинского было одно окно, состоящее из пяти частей: передняя смотрела на Тамиш, две боковых – вдоль улицы, верхняя – на снег и дождь и пятая, на уровне локтя, – вниз, чтобы видеть, кто звонит. В этом пятом окошке и возник д-р Читинский в шляпе, надвинутой на глаза, будто он боялся, что дьявол заметит крест у него на лбу. Про д-ра Читинского говорили, что он моет голову мочой, чтобы лучше росли волосы. И впрямь, между его редких прядей, облепивших голову, как паутина, вдруг в тридцать с чем-то лет проросла короткая и жесткая, словно чужая, щетина, и теперь у него было две разновидности волос. Пробор, проходивший между ними, делил жизнь д-ра Читинского на две части. Известной всем тайной было то, что он давно и безнадежно заглядывался на Ленку, дочь вдового торговца Шварца, которая сходила с ума по какому-то офицеру – кусала губы, чтобы покраснели, и щипала, чтобы зарумянились, щеки всякий раз, когда слышала под окном стук лошадиных копыт. Вообще говоря, Читинский стал врачом следующим образом.
Разразилась война, был 1914 год, его вызвали на комиссию, мобилизовали в австрийскую армию и отправили в Галицию. Там в одно прекрасное утро он сдался красным казакам и пошел к ним добровольцем. Когда война закончилась, товарищи, чистя ружья лимоном и сплевывая жеваный табак на раны, сказали ему:
– Не иди ни в Россию, ни во Францию – ты слишком молодой. Там следующие сорок лет у власти будут те, кто вел и выиграл войну, то есть сверстники твоего отца. А тем, чьи отцы победили, тяжело – никогда мир не будет принадлежать им! Поезжай в Германию, она войну проиграла, там понадобятся молодые, те, кто не виноват в поражении, а отцы там уже не поднимутся. Не везде мир остается молодым…
Читинский послушался их, уехал в Германию и закончил медицинский факультет. Где-то в Вене на лотерее он получил главный выигрыш – одну молодую немку. С ней и медицинским дипломом Читинский вернулся в Панчево. Он открыл врачебный кабинет, а Ковачка, как звали пришелицу, – ателье. Д-р Читинский был уже в возрасте, когда выросла Ленка Шварц, и он из-за нее принялся растить описанным способом новые волосы.
«Двумя зубьями хочет землю боронить», – злословили о его поздней любви, а он повязывал галстук под рубашку на голую шею и каждый полдень сидел у окна и смотрел, как аисты перелетают Тамиш и их тени затмевают их яркие отражения в воде.
– Вы выглядите так, словно вас жирным паром кормят, дорогой Коич, – говорил он своему старому знакомому. – Какого черта с вами происходит?
Перед ним на столе стоял графин с вином, красным, как глаза ангорского кролика, и лежала доска с шахматными фигурами. Коич отставил ладьи[24] и пешки и сказал, что их он обеспечил.
– Остались еще офицеры[25] и конница. Причем красная конница! Никто не соглашается. Слишком напоминает, черт бы их побрал, газетные сообщения. Если бы костюмы уже не были заказаны, я бы сменил цвет! А теперь ничего не поделаешь…
И Коич осторожно посмотрел на складки домашнего халата хозяина. Ему казалось порой, что в складках одежды можно увидеть скрытые буквы, и поэтому он по складкам читал надписи, которые движения тела оставили на пальто или рубашке, обнаруживая сокровенную мысль того, на кого они были надеты.
– А какие у вас конники? – спросил д-р Читинский.
– Треуголка, красный или белый доломан, косица до шеи, галстук, на галстуке – часы; жилет посыпан пряностями, светлый. Сапоги и книга за обшлагом.
– Книга? – удивленно спросил д-р Читинский.
– Да, у каждого участника будет книга по его выбору. Это предложение одного переплетчика, который сам будет офицером. Не знаю, правда, каким, потому что никто еще не решился на красное.
– Считайте, что первый у вас есть, – весело ответил д-р Читинский и подвинул коня на доске. – Я согласен войти в состав красной конницы и найду вам остальных кавалеристов – еще одного красного и двух белых. Заранее могу сказать, кто какой цвет выберет. Впрочем, это неважно. А королей и королев[26] нашли? Вот где клочки по закоулочкам пойдут!
– Нет, и, признаться, даже не знаю, к кому обратиться.
– Ну, прежде всего спросите Срдановича и Шварца. И только если они откажутся, ищите дальше. Иначе вас ни Сава, ни Дунай потом не отмоют. Знаете, как говорят – кого бешеная собака укусит, тот должен в сорока домах хлеба откусить. Вы, Коич, – как раз такой случай. Удачи вам!
Спускаясь по деревянной лестнице, которую каждый год смолили, Коич думал, что у доктора дурной глаз, будто его два срока грудью кормили, и потирал руки, потому что, как ему показалось, дела наконец пошли. Он заглянул в суд и попросил выделить восемь молодых писарей для белых пешек. Красную сторону он рекрутировал из приказчиков ремесленных лавок и рабочих стекольной фабрики.
Потом Коич отправился в ателье Ковачки посмотреть ленты, позументы и кружева, приготовленные для новых мундиров, и остался доволен. Он с удивлением смотрел на эту маленькую мастерскую, в которой, как было известно в Панчево, для одного знатного господина устраивались тайные послеобеденные сеансы. Гость садился в кресло, полное белых фарфоровых зубов, а Ковачка и кто-нибудь из ее молодых клиенток, нанятых для этого случая за хорошие деньги, под музыку из граммофона снимали друг с друга все, начиная с гребня в волосах и кончая чулками. Затем они одевались, натягивали перчатки и кланялись гостю, а тот протягивал им руку, чтобы наградить и чтобы они поцеловали ему кольцо.
Коич вышел из мастерской Ковачки, протиснувшись между колючих верхушек декоративных пальмочек, иголки которых, чтобы не поранить посетителей, были воткнуты в их же собственные листья.
Он вернулся в гостиницу «Трубач» и прилег передохнуть после обеда. Он чувствовал вино под веками, которые становились перед закрытыми глазами попеременно, с ударами сердца, то красными – когда кровь приливала, то белыми – когда отливала.
Он встал возбужденный и в полумраке нащупал, как рану, узелок в бороде. Еще раз попытался вспомнить, по какому поводу его завязал, но как только зажег свет, действительность прогнала все посторонние мысли. Пора было идти на ужин к Срдановичам. И Коич очутился перед нужным ему домом раньше срока, вертя вокруг пальца часы на цепочке. Наверху, в освещенных комнатах, уже сидели за столом и держали пари, какой колокол первым пробьет пять – на верхней церкви или на башне в Нижнем переулке. Тамиш пенился где-то в тумане, в этом году последнюю рыбу ловили, ударяя ядовитыми прутьями коровяка по воде, а в окнах мерцали свечи, ибо проходила армия. Коич попил пива у Вайферта, заметив, что вместо содержимого охлажден стакан, нахмурился и пошел к Срдановичам.
Срдановичи появились в Панчево при странных обстоятельствах.
«Ударишь палкой по терновнику, а из него цветы лезут», – таков был единственный комментарий старого Срдановича к необычному происшествию, приведшему их сюда. Было так: дети у них родились до переезда в Панчево, и никогда они в этом городе не бывали, как вдруг в один прекрасный день их четырехлетняя дочка заявила родителям, что у нее в Панчево есть дом, а в нем живут ее муж и ребенок. Родители посмеялись, но она описала дом с железной оградой и большими воротами, с садом позади, вдоль реки. Когда они, скорее в шутку, согласились и отправились на фиакре в путь, девочка указывала им дорогу сначала до парома на Дунае, потом до Тамиша и привезла в Панчево. Они ехали через город, она показала им дом, и тут родители перестали смеяться. Постройка полностью соответствовала описанию, а девочка выскочила из экипажа и крикнула:
– Вы идите в дом, а я через сад…
Говорят, Срданович пришел в такой ужас, что дал обет, если все кончится благополучно, до конца жизни бриться топором…
Было видно, что в доме долгое время жил больной, потому что в саду, вместо фруктовых, были посажены деревья, способные лечить через воздух. Дом принадлежал тогда, да и позже, вплоть до Второй мировой войны, видному торговцу Шварцу, который говорил, что не люди зарабатывают деньги, а деньги – людей. Его дочери Ленке было тогда, как и девочке Срдановичей, четыре года, и она только что осталась без матери. Неожиданных посетителей Шварц встретил с удивлением, а дочка Срдановичей подошла к нему и представила его родителям:
– Это мой муж…
Старик решил, что ребенок не в себе, но тут девочка спросила:
– А что ты делаешь с деньгами, которые мы спрятали в столовой под порогом?
Шварц на миг потерял дар речи, так как они с покойницей женой действительно спрятали там деньги.
– Ты их тратишь? – спросил ребенок.
– Трачу, – ошалело ответил Шварц.
– Зачем тратишь? Мы же вместе их скопили и договорились не трогать, а оставить Ленке на приданое!
Потом младшая Срданович обняла Ленку так, будто она не ее ровесница, а в самом деле дочь, приласкала и поцеловала. Она потребовала от родителей переехать в Панчево. Срдановичу это было по душе, потому что ситуация на границе, которая проходила тогда по реке, его устраивала, и таким образом семья переселилась. С тех пор Ленка Шварц и младшая Срданович стали неразлучными подругами. Непонятный случай в доме больше не вспоминали, однако сохранилась история и странное прозвище дочки Срдановичей еще с детских лет – Фрау Шварц.
«Смотрите, что-то тут нечисто! Бегает за ней, будто грудь ищет», – шушукались о Ленке Шварц, когда видели двух девочек вместе. Они же, не обращая внимания на людей, держали руки в одной муфте, и порой младшая Срданович отрезала на эти сплетни: «Ну и что? Папа до сих пор бреется топором!..»
Дом Срдановичей стоял науглу напротив «Трубача», огромный, с просторными комнатами, застланными несколькими коврами сразу.
По полкам блестели корешками книги, полные начинки. Из каждой торчали разнообразные закладки – газетные вырезки, засунутые за обложку, мелко исписанные шелковые ленточки, игральные карты, заложенные между страницами, маленькие книжки, втиснутые в рот большим томам. Тусклый свет позолоченных названий – руда, впечатанная в кожу, заклейменные мертвые животные, которым человек дал свой язык. Про Срдановичей говорили, что они умеют читать одну книгу с помощью другой.
Когда Коич очутился за столом, один, без помощника закройщика, и глаза у него косили больше, чем обычно, он готов был, как только подали голубцы, сквозь землю провалиться. Знал, что все думают, пока он наполняет тарелку: «Смотрит на капусту, а вылавливает мясо!»
О деле он заговорил под конец, когда после жареного поросенка подали индюшиные грудки, чтобы облегчить трапезу. Совершенно случайно оказавшийся на ужине фотограф Ронаи упомянул о мероприятии. Коич смутился и начал издалека:
– Конечно, – говорил он, и взгляд его обрел полную длину, – большим делом было бы, если бы господин Срданович решил участвовать. Разумеется, я не имею в виду офицеров и тому подобное. Господин Срданович может выбрать роль короля, а королеву, без сомнения, сыграет госпожа Срданович. Сиденья обеспечены – кресло с подлокотниками и на колесиках для короля, а для королевы – полукресло в старонемецком стиле, которое тоже можно двигать, не вставая с него.
– Ерунда! Это не для папы с мамой, – перебил Коича молодой Срданович и начал крошить хлеб в стакан с вином. – Мы с сестренкой купим два билета. Лучше пришлите завтра Ковачку снять мерку с меня и с сестры. Верно, папа?
У младшего Срдановича подбородок был такой мощный, что раздирал воротники, и рубашки, надев три раза, приходилось выбрасывать. Он любил повторять загадочную фразу: «Чужого не хотим, своего не имеем!» и сейчас смотрел на отца с уверенностью, что его предложение будет принято, потому что отец делал все, как сын скажет, и письменный прибор на столе молодого господина был тем местом, где решались все более или менее важные вопросы в доме и хозяйстве Срдановичей.
– Конечно, – ответил хозяин, слегка удивленный.
– Какой цвет изволите выбрать для костюмов? – вмешался Коич, боясь лишний раз вздохнуть, чтобы не испортить в решающий момент всего дела.
– А какие у вас есть? – спросил старый хозяин. – Разве могут быть какие-то другие, кроме черного и белого, как у ворон?
– Будут красный и белый! – выпалил Коич и посмотрел на свои исписанные ладони. «Молчание объединяет, – думал он в смятении, – слова выражают мысли в состоянии раздробленности, фразы – это разбитые зеркала, через трещины которых вытекло изображение; начав говорить, мир в тот же миг распадается и дробится на множество творений… Слово – это точка, где ствол начинает ветвиться…»
Хозяин выглядел так, будто у него от смеха разболелся живот.
– Почему именно эти цвета?
– Понимаете ли, черное – это не совсем то, мы ведь не на похоронах. Какая особа прекрасного пола захотела бы появиться в черном? Согласитесь, так повеселее…
– А тебе известно, – спросил фотограф Ронаи, – что означают эти цвета?
– Известно, – оживился Коич, переплетя пальцы и спрятав исписанные ладони. – Черный цвет – старейший и содержит в себе все остальные цвета; он находится под знаком Сатурна и обозначает ветер и смокву. Белый цвет – под знаком Юпитера, дьявол превращается только в белые предметы. Наконец, красный цвет – это власть, он находится под знаком Солнца, обозначает померанец и символизирует огонь. Короче говоря, черный, белый и красный – это взрослые, совершеннолетние цвета; остальные – дети.
– Я не об этом, – заметил хозяин, тяжело дыша и выдувая усы из ноздрей.
– Он спрашивает, что пишут об этом цвете в газетах, – насмешливо добавил молодой Срданович.
– Знаете, господин Срданович, – быстро ответил Коич, – к чему ломать над этим голову? Орех, брошенный в Дунай под Белградом, окажется в Черном море на третий день к вечеру. Ну и что нам Черное море, а мы – ему? Вы просто выберите цвет себе по душе, и я буду счастлив.
– Пускай сестренка решает. Какой цвет она выберет, такой и я, – выпалил, как из ружья, младший Срданович и засмеялся, заметив, что цвета могут быть весьма поучительны.
Девушка ничего не ответила, ее талия стала еще тоньше, она задумалась, словно не могла забыть материнское молоко, и вдруг рассмеялась. Удивительный румянец разлился по ее лицу снизу вверх, окрасил лоб и ушел под волосы. Она сказала, что, разумеется, выбирает красный цвет, и все быстро распрощались с Коичем, решив вопрос в мгновение ока. Его проводили до дверей комнаты, словно спеша от него избавиться. Коич слетел вниз по каменной лестнице, вылизанной, как корка хлеба, и повернул к дому Шварца, счастливый, что больше не придется навязывать красное. Только на улице он заметил, что держит в руке стакан с вином, который забыл оставить в комнате. Не зная, что с ним делать, Коич вылил вино, вернулся во двор и поставил его на окно, после чего направился к Шварцу. По дороге он посмотрел на одну звезду и подумал, что его взгляд будет лететь к ней и когда он давно будет мертв.
Шварцы, отец и дочь, действительно не имели ничего против того, чтобы поделить между собой роли белых короля и королевы. Их родственник д-р Стеван Михаилович, вдовец, оказавшийся у них в гостях, согласился на роль белого кавалериста и сразу же купил билет. Однако у Ленки были особые пожелания. Во-первых, ей потребовалось платье с кринолином, сшитое, как положено: корсаж на шнуровке, юбка до пят, под ней – два проволочных обруча. Во-вторых, она желала знать, будет ли участвовать молодой Чирилов, поручик, ее жених. Он заходил к ним, но ничего не сказал. Коичу пришлось врать Ленке, что Чирилов уже купил билет и, разумеется, будет на ее, белой стороне. Это ее успокоило, и отец с дочерью неожиданно смягчились по отношению к гостю.
Его посадили в кресло с пуговицами, над очагом висели весы с насыпанными в них сушеными травами, а в свечах в форме румяных яблок с фитилем-черенком все глубже тонуло пламя. Это означало, что время визита ограничено и что свет свечи предупредит посетителя о том, что пора уходить. Пока Ленка стояла перед гостем, на ее белой коже в ушах, ноздрях, между губ виднелись темные округлые дырочки. И точно так же, словно две дыры, темнели на ее лице глаза. Семь черных отверстий смотрели на него, как семь ночей недели. Перламутровые пуговицы размером с небольшие блюдечки, длинное ожерелье, заправленное за пояс, на конце ожерелья – крохотный блокнотик в коже, куда Ленка записывала слова, которые понимает ее собака. Волосы у нее были густые – так что она спала без подушки, – зачесанные налево и привязанные к левому плечу.
Она предложила гостю вино и печенье в виде крестиков.
Потом подошла к стенному шкафу, отворила двустворчатую дверцу, и за ней открылось окно, полное птиц и цветов. Коич сидел и почти ощущал в себе два сердца – сердце и его тень, одно гнало по телу красную, а другое – белую, лимфатическую, кровь. Он сидел и ощущал, как пламя тонет в восковом яблоке, смотрел на Ленку и терпел на затылке взгляд д-ра Михаиловича, Ленкиного родственника. Взгляд был не особенно длинный (д-р Михаилович страдал глазами), но тяжелый, как цепочка от часов. От этого взгляда Коич чувствовал себя, как между двумя хлебами на перекрестке. И действительно, он ел крестообразное печенье…
Потом Ленка подошла к столу и в миске с медом, где записывали имена посетителей, написала ручкой вилки имя Коича. Визит закончился. Расстались так – Ленка взяла пальцами кончик бороды Коича и поцеловала, не спуская глаз с гостя. А ее отец ухватил его под пальто за пояс над брючным карманом и, удерживая рядом с собой, проводил вниз по лестнице.
«Кто победит?» – спросили его в дверях оба, но он принялся отнекиваться, вертеть головой и клясться, что заранее это не известно, что сабля – оружие обоюдоострое и что победителя определит игра.
Коич вернулся домой печальный, и уши тянули его вниз – роли распределились не совсм так, как он в глубине души надеялся. Ему хотелось, чтобы на месте Шварца – старого вдовца, массивного, как лестница, – оказался он сам в роскошном мундире белого короля, под руку с Ленкой. Вместо этого он ощущал себя переполненным, как вином, темным цветом глаз д-ра Михаиловича. Коич подошел к погруженной в темноту гостинице. Только на первом этаже, в ресторане, горел тусклый свет. Там вокруг перевернутого стола сидели три офицера и играли в карты. На три ножки стола были надеты их фуражки, к четвертой прилеплена свеча, и воск капал с нее на карты. По бокалу вина игроки держали между ног, а в перевернутые стаканы звонили, когда выпадал козырь. Коич заглянул в окно и узнал поручика Чирилова. Тот проигрывал и уже в третий раз снимал сапог, чтобы достать из него червонец. Несмотря на молодость, седая прядь делила его волосы надвое, пересекала, будто продолжаясь, брови и усы и, вероятно, шла далее своим путем через волосатую грудь поручика. Говорили, что он отморозил на марше пальцы и теперь не может сложить кукиш.
Коич толкнул ногой дверь, она отозвалась где-то вверху колокольчиком, привязанным, точно пес, за веревку. Вошел и поздоровался с офицерами. Совсем недавно, у Шварцев, Коич взял правды в кредит и солгал, будто уже разговаривал с поручиком Чириловым, а теперь хотел воспользоваться случаем, чтобы действительно это сделать.
– Господам, конечно, известно: вот уже три дня только и говорят что о будущем представлении в благотворительных целях…
– Молчать! – прикрикнул на него Чирилов и вновь потянулся к сапогу. Потом налил большой бокал вина, повернулся к Коичу и силой заставил того выпить.
Глядя на поручика Чирилова сквозь стекло и вино, Коич вдруг побледнел: он вспомнил, что упустил одну из самых важных в этом деле вещей – не позаботился о запасной красной королеве. Он начал лихорадочно прикидывать, можно ли в последний момент исправить упущение.
– Не желают ли господа принять участие в своих собственных чинах, но в более красивой форме? – поспешил спросить он присутствующих. – В великолепных белых или пурпурных мундирах – кому какой понравится! В ботинках на пуговицах и вязаных чулках по колено, в длинном жилете и доломане с бахромой. Соблаговолите определиться с цветом, и помощник закройщика придет завтра утром в казарму снять мерку с ваших мундиров, только рукава выверните.
– Я за белый, естественно, – сказал один из офицеров, тот, что выигрывал. – Он означает землю, яблоня – символ белого цвета.
– А я против! – бросил Чирилов упрямо, продолжая проигрывать.
– А кто будет играть? – спросил третий офицер, и Коич ответил слегка дрожащим голосом:
– Миша Величкович и Конда-младший.
– Мой выигрыш! – заметил офицер и бросил карту, которая брала прикуп. – Мне тоже белый мундир!
Коич поклонился, неслышно выскользнул на улицу и заказал у Ковачки еще одно платье, точно такое же, какое уже было сшито для красной королевы. Затем отправился в гостиницу и тщательно сбрил там свою красивую бороду. Опять наткнулся на узелок, махнул рукой и спрятал прядь с узелком в карман. Теперь, без бороды, он мог исполнить роль запасной красной королевы. Коич лег на прохладные, чуть влажные простыни, глаженные на полу утюгами на длинных рукоятках, и уснул. Как обычно, он не видел снов, только слова, ясные и отчетливые, слова, которые кто-то ему говорил, будто диктовал, и утром какое-то время он помнил их, но сон быстро поблек, словно цвета на только что выкопанном ларце, как только на него упадут взгляды и свет.
Проснулся Коич рано. Лежал на спине, глядел в сумерки, которые светлели и шептали, и чувствовал себя как никогда одиноким и косоглазым больше, чем другие. Мимо проходили какие-то несвежие дни, портились один за другим, а неделя в конце заплесневела и ни на что не годилась. Трубы где-то в стенах дрожали и гудели, как пароход, на котором он прибыл из Вены, неся в себе тайну: финал шахматной партии с живыми фигурами. Этот финал знал только он, и один старинный дебют, известный триста лет назад, когда шахматы еще назывались «затрикион», был тщательно им изучен, ходы выписаны и готовы к тому, чтобы их прочитали. Так называемые игроки Величкович и Конда-младший должны были следовать заранее предписанным ходам. Судьба фигур и его сограждан, которые эти фигуры выбрали, была предопределена три века назад, и единственным отличием было то, что костюмы теперь – не черные и белые, как у ворон, а красные и белые.
Коич встал с постели, заглянул через зеркало в комнату, растерялся оттого, что у него больше нет бороды – лицо показалось ему красивым, но каким-то мягким и нежным, захотелось его погладить. Он зажмурился и сказал самому себе:
– Умойся сперва, даст тебе Бог завтра новую грязь!
Восьмого октября 1922 года в пять часов пополудни, во время женского обеда, в Панчево встретились в снегу четыре тишины. Где-то возле старой церкви остановился на минуту Петар Коич (как остановились и все остальные в Панчево в этот час) и впервые в жизни услышал все четыре фонтана. Звук доносился в тишине с Тамиша, из Нижнего переулка, от верхней церкви и с кладбища, и можно было сосчитать каждую каплю. Потом, словно считая эти капли, ударил барабан, и на вечернюю службу в Данилову церковь промаршировали пятнадцать солдат в великолепных мундирах XVIII века, белых и красных. Последний ряд был неполным, Коич, к своему ужасу, увидел, что не хватает одной красной пешки, рабочего со стекольной фабрики, который в тот день обжег себе рот.
Когда после вечерни солдаты торжественно проследовали через городскую площадь и вошли в зал «Трубача», Коич пришел к выводу, что ему самому придется переодеться и заменить недостающую пешку.
В зале были влажные окна, на сцене стоял Яцика, позади него курил трубку цимбалист, и уже играла виолончель Яцики, про которую говорили, что ее выдали замуж в другое село, и теперь, когда она играет в Панчево, ее слышно в Старчево.
«Домовой может быть и мужского рода, и женского», – думал Коич, глядя, как собираются и строятся фигуры – солдаты, офицеры, конница, артиллерия, как подходят красные король и королева – молодые Срдановичи; он заметил, что нет старого Шварца с красавицей дочкой. Пришли предсказатели судьбы по рыжей шерсти, пришла Ягодичка, появились лингвисты и дрессировщики собак со словарями собачьего языка, д-р Читинский, маэстро сердечных дел; молодые офицеры с поручиком Чириловым, бледным, как его седина, с конским потом между ног и кровью на шпорах; фотограф Ронаи с красивыми, как на иконе, руками; Вайферты, про которых ходили слухи, будто бы они спят в постели, черной от старинных книг, что они берут с собой в кровать; Ковачка, перешивающая мундиры и платья и тихо поскуливающая в свое декольте, где скрывалась одна грудь побольше, а другая – поменьше.
«Интересно, – думал Петар Коич, глядя на толпу, – можно бросить крейцер[27] или яйцо – на пол не упадет. Только Шварцев нет. Будто заранее почувствовали…»
С этими мыслями Петар Коич увидел, что под смех и рукоплескания идут десять кучеров в сапогах со шпорами, на которые надеты перчатки. Они шли в две колонны, потом резко остановились, одновременно трижды щелкнули кнутами, повернулись лицом друг к другу, и им поднесли по бутылке шампанского. Потом сквозь эти шпалеры гостиничный официант пронес на серебряном подносе запотевший бокал белого вина с минеральной водой. Наконец в дверях появился господин Шварц, выпил вино и под щелканье кнутов вошел в зал в сопровождении Ленки. Красивая, как никогда, она несла в муфте щенка, которому говорила «вы» и писала письма из Пешта. Во внутренних уголках ее глаз были прилеплены два драгоценных камешка, словно две слезинки.
Увидев их, Коич облегченно вздохнул и зашел на минуту за ширму. Снял потную рубашку и вытер ею спину, надел красный пехотный мундир и натянул золотистый парик. Затем велел Ковачке приготовить в глубине сцены роскошное красное платье для третьей, запасной королевы.
К этому времени на красно-белом полу уже стояли четыре кресла, обозначающие белые и красные престолы. Под громкую музыку промаршировало отделение пехотинцев, которое вели четыре офицера, а один солдат нес знамя в красно-белую клетку с надписью:
НЕБЫВАЛОЕ, ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ И НЕВИДАННОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
8 НОЯБРЯ 1922 ГОДА В ЗАЛЕ «ТРУБАЧА»
ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ С ЖИВЫМИ ФИГУРАМИ, БЕСПОЩАДНАЯ СХВАТКА
МЕЖДУ КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ.
УЧАСТВУЮТ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ОСОБЫ.
ИГРА БУДУЩЕГО В КОСТЮМАХ XVIII ВЕКА.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЗНОС В ПОЛЬЗУ ШАХМАТНОГО ОБЩЕСТВА ПАНЧЕВО.
Военные обнажили сабли и выстроились друг напротив друга. Петар Коич стоял крайним справа в красном мундире с платком под воротником и исписанными ногтями. Офицеры встали позади него, подкатили пушки, на их сиденья сели артиллеристы с горящими фитилями, с хлыстами в голенищах сапог, вошли белые и красные конники. На минуту наступила тишина, и тут с обеих сторон одновременно появились королевы, следом за ними – белый и красный короли и сели на свои престолы на колесиках. Музыка заглушила все, и аплодисменты отметили конец построения. С галерки, невидимый, безумным голосом закричал Величкович, словно командуя ротой в настоящем бою:
– Е четыре!
– С пять! – послышался ответ со сцены, где скрывался и отдавал приказы другой командир – Конда-младший.
Пешки сделали первые шаги навстречу друг другу. Помощник закройщика Коста Сарич взмахнул саблей как сумел и перешагнул ее свист. Судебный писарь Ружичка, чей белый парик едва скрывал его черные волосы, двинулся с другого конца поля боя навстречу Саричу. Под его белым шелковым доломаном скрывались сильные лопатки, которыми можно палец укусить. Белый конник, родственник Ленки д-р Стеван Михаилович, не захотел надевать золотистый парик поверх своих красивых волос, на которых идеально сидела треуголка, и размышлял о своих долгах, но при этом имел вид человека, бесконечно довольного жизнью.
– Эту выкормили левой грудью, – заключил он, глядя на Ленку, одетую в роскошный белый мех и восседающую напротив него в кресле в глубине юбки на кринолинах.
Но тут перед молодой белой королевой появляется красный офицер. Это Чирилов. Он галантно кланяется своей невесте, словно приглашая на танец, но они в противоположных лагерях, и на самом деле он представляет серьезную угрозу и для нее, и для других белых фигур. Это понимают и Конда-младший на галерке, и белые фигуры на доске. Капитан артиллерии Алекса Николич поворачивает ствол своего орудия на красного конника Чирилова, но конь, который ходит кочергой, имеет преимущество. Он повергает артиллериста, и «сбитого» капитана Алексу вывозят на лафете с поля боя. Чирилов опять поворачивается к белой королеве. Теперь на опасность отреагировал д-р Михаилович. Петлей своего хлыста он ловко захватывает саблю поручика Чирилова. В мгновение ока разоружает его, срывает с него, будто при разжаловании, эполеты и по команде Конды-младшего удаляет с поля. Все совершается настолько быстро, что белая королева успевает лишь вскрикнуть, поручик обессилен и бледен, как выжатая тряпка, а потом происходит нечто необычное. Д-р Читинский по команде подходит совсем близко к белой королеве. Его красный доломан прекрасно сочетается с париком, он умело марширует, смеется, протягивает руку и целует пальцы Ленки Шварц.
– Не подходите слишком близко! – восклицает она. – Я вас побью!
– Будто вы на меня сквозь сито смотрите, так я слаб, – шепчет д-р Читинский белой королеве. – Какую книгу вы взяли?
– Црнянского[28]. А вы?
Читинский чувствует, как мурашки бегают у него по спине, он кланяется еще ниже, словно приносит извинения, и, подчиняясь приказу, который читает с галерки судьба, съедает белую королеву Ленку Шварц. Он выводит Ленку с красно-белого поля, поднимая ее руку очень высоко, словно показывая всему свету. В этот миг они – самая красивая пара в зале, их белая и красная одежды гармонируют, золотые и черные волосы – тоже. Д-р Читинский возвращается в отчаянии, за обшлагом он несет Црнянского и ощущает на своей голове два вида волос – те, что выпадают, и те, что растут. Он чувствует, что в затылок ему давит толстый королевский палец, и слышит, как позади него кто-то хрипит или шумно чешется. Это белый король, господин Шварц, наказывает его за дерзость и предает его судьбу в руки своих воинов. Те выпроваживают Читинского, отобрав у него кавалерийскую саблю.
– Красная конница отступает! – кричит ему вслед Шварц.
Тем временем Петар Коич в красном пехотном мундире достигает глубины неприятельского лагеря. Шварц под короной из белого стекла изумленно взирает на бритый подбородок Коича и толкает его животом. Но красный пехотинец Коич непоколебим. Он получает новый приказ и сходит с доски. Минуту спустя, переодетый в красное платье с кринолином, с женской короной на голове, Коич возвращается еще одной королевой на поле. Теперь у красных – две королевы. Против них что-то нужно срочно предпринять. На новую красную королеву кидается белый пехотинец Ружичка. Он трясет своей кудрявой головой и нападает, примкнув штык к ружью. Но красный пехотинец Коста Сарич, помощник закройщика, поднимает саблю и подскакивает к белому. Ружичка кашляет, и упертая в его живот сабля от этого кашля врезается, впрочем не очень сильно, в жилет, посыпанный пряностями. Тогда помощник закройщика Сарич съедает белого пехотинца Ружичку и отсылает его с поля боя. Красная гвардия подбрасывает вверх треуголки, один из артиллеристов поджигает в пушке порох, и раздается гром выстрела, заглушающий капитуляцию белых. Шахматная партия с живыми фигурами закончена.
Красный лагерь победителей кричит, д-р Читинский достает Црнянского из-за обшлага и машет им, молодая красная королева, госпожа Срданович, бросает вверх свой «Географо-статистический ежегодник», ее брат вытаскивает «Коммунистический манифест» и листает его большим пальцем, точно колоду карт, поднимая книгу высоко над головой. Судебный писарь толкает Конду-младшего, а Коич в платье запасной красной королевы танцует первый танец с д-ром Михаиловичем. Белые демонстративно покидают зал «Трубача», следом за ними выходит большая часть гостей и переходит в пивную Вайферта. В «Трубаче» остаются красные, Яцика своей игрой заставляет их забыть о победе. На улице – холодная ночь, кажется, будто снег с метелью возвращается с земли на небо. Первая ночь, когда Тамиш в этом году нес замерзших птиц, и последняя ночь, когда видели Петара Коича. После нее след Коича навсегда теряется, и лишь на снегу остаются загадочные инициалы его ботинок: «ММ». Напрасно полиция проверяет костюмы и кассу, которая в целости и сохранности передана шахматному обществу. После Коича остались история о шахматной партии с живыми фигурами и полицейское донесение, которое гестапо будет внимательно изучать в 1941 году.
Говорят, большая разница, по какой линии наследуется борода – по мужской или женской. Та, что у меня, явно не принадлежит мужской линии и ничуть не похожа на черную курчавую бороду моего отца. Моя борода – мягкая, шелковистая и светлая, как табак или кукурузный початок, она легко завязывается в узел. Иногда я ее боюсь и прикасаюсь к ней с недоверием и страхом. И вот почему.
Моя прабабушка Магда, выйдя замуж за вдовца д-ра Стевана Михаиловича, застала в доме трое дочерей от первого брака прадеда: Миланку, Иванку и Виду. Когда в 1941 году пришли военные дни и разделили нашу семью, с прабабушкой осталась одна из них – моя бабушка. Было время, когда менялись ложками, время, когда немцы с аэродрома в Панчево приезжали по вечерам пить пиво, гоняя свои «штуки»[29], как автомобили по мощеной дороге. По воскресеньям до обеда Магда Михаилович и ее дочь надевали брюки и отправлялись на кладбище. Потом выпивали в «Трубаче» по рюмке водки, шли домой и обедали. После чего ложились поспать, и бабушка утверждает, что прабабушка никогда не видела снов – только слова, ясно и четко произнесенные, будто их кто-то диктовал. После пробуждения эти слова некоторое время витали перед ней, понятные и полные глубокого смысла, а потом блекли, как блекнут краски внутри только что раскрытого сундука под воздействием взглядов и света.
Потом пили кофе на оттоманке о шести ножках, и тут обычно появлялся судебный писарь Ружичка. Он приходил в гости незваным и приносил четыре кусочка сахара для своего кофе и длинные ресницы, как паутина налипшие поперек его прекрасных глаз. Ружичка целовал рукоять прабабушкиной палки, что она, по обыкновению, ему протягивала. Жесткие курчавые волосы жевали ему уши, а под рубашкой у него скрывались сильные подвижные лопатки, которыми можно палец укусить. Он работал больше в гестапо, чем в суде, и вел себя невероятно любезно. Сидел возле моей прабабушки и ее дочери и вел один и тот же разговор. Разговор начинал всегда он, а моя прабабушка избегала его или смеялась, и при этом на ее щеках, похожих на пышное дрожжевое тесто, появлялись ямочки.
Следует иметь в виду, что повод для своих разговоров с Магдой Михаилович Ружичка почерпнул в одном происшествии, случившемся до Второй мировой войны. В Панчево возле гостиницы «Трубач» есть улица, изогнутая наподобие кочерги. Она проложена так, что ловит «кошаву». На этой-то улице и случилось то, о чем следует помнить, рассказывая о разговорах Ружички. А именно, однажды утром поручик Чирилов был с такого похмелья, что в конюшне, где он обычно брился, намылился вместо помазка конским хвостом. Потом он трижды сунул в стремя руку вместо ноги, и посыльный не позволил ему ехать верхом, а усадил в фиакр и повез в казарму. Сзади на поводу трусил конь поручика. Где-то возле «Трубача» конь обогнал вдруг экипаж, лошади столкнулись, испугались и понеслись по изогнутой кочергой улице. Там они, на беду, налетели прямо на артиллерийского капитана Алексу Николича, следовавшего на службу. Он успел лишь повиснуть на дышле, чтобы кони его не затоптали. Висел на дышле, держась своими сильными руками и подбородком, и все бы кончилось хорошо, кони устали, и он бы не упал, ибо сам был силен, как лошадь, – если бы все случилось на любой другой улице. Но улица имела форму кочерги, и дышло с капитаном Николичем врезалось в дом на ее изгибе. Кони от внезапного удара остановились, а когда посыльный осадил фиакр назад, на дышле, наколотый как жук на булавку, висел капитан Алекса. Последнее, что он увидел в жизни, – как ветер гонит по мостовой поток его крови…
Это происшествие Ружичка как следует обдумал и, надо признаться, сделал это добросовестно, хотя и без того все было ясно. Его разговоры с Магдой Михаилович всегда начинались с этого случая.
– Помните ли вы, – начинал он, – того помощника закройщика Косту Сарича, что при ходьбе отставлял немного левую ногу и ходил так, словно перескакивает через годы? Знаете, где он сейчас? Ни за что не отгадаете!
И Ружичка, указывая ногой на юг, добавлял:
– В партизанах!
– Ты, чадо, все какими-то пустяками занимаешься, – перебивала рассказ прабабушка, открывала бутылочки с ацетоном и лаком и принималась красить ногти. Она смотрела своими косыми глазами на гостя и дочь, словно не узнавая их, каким-то коротким взглядом, который прерывался, не достигнув цели.
– А знаете, что я думаю, мамочка, – Ружичка любил так ее называть, – не обидитесь, если я скажу? Этот помощник закройщика Коста Сарич был красной пешкой, что в знаменитой шахматной партии сбивала белые пешки с нашей стороны. Разве не удивительно? Помните, мне как раз пришло в голову, он и меня сбил? Неужели вы не видите, что все происходит, как в шахматах?
– Если бы все происходило как в шахматах, – возражала прабабушка, – ты бы, чадо, не сидел здесь, а тебя этот, как ты его называешь, Коста Сарич давно бы уже сбил! Так что все это вздор и ерунда, дитя мое! Помощник закройщика Коста Сарич и судебный писарь Ружичка! Что ты выдумываешь! Где прибыль, там и убыток! Нет здесь ничего необычного. Один был на одной стороне в шахматах и в жизни, другой – на другой, такие роли им выпали.
– Хорошо, мамочка, а что тогда скажете про вашу Ленку?
– Про Ленку? – переспрашивала прабабушка, и ямочки на ее щеках вдруг исчезали. Косые темные глаза без ресниц, как два пупка, украшенных виноградинами, смотрели мутно, не пробивая лежащий на них серебристый туман.
– Да, про Ленку. Что на самом деле с ней было?
– Да ничего особенного. Печальные истории, когда их расскажут, уже не печальные. Такая красавица! Но и красота – тоже болезнь. – И прабабушка рассказала историю Ленки Шварц, хорошо известную и повторяемую в семье.
Красавица, богатая и влюбленная в поручика Чирилова, она, чтобы выйти за него, должна была уплатить так называемую кауцию – приданое, предписанное государством, с тем чтобы девушки из бедных семей не выходили за офицеров. Это приданое в золоте Ленка держала в кожаном сундучке, покрытом волосами ее матери Юлки из княжеского рода Тодоровичей, один из которых был князем в Панчево, а другой – монахом в Войловице, и оба оставили потомству богатое наследство. Мать Ленки Юлка умерла в шестьдесят лет, очень красивая, сохранив черные как деготь волосы, и народ говорил, что вслед за ней должен скоро умереть кто-то еще. У Ленки, таким образом, было чем уплатить кауцию, но беда пришла именно с этой стороны. Ее сводный брат д-р Стеван Михаилович, женившись, отправился в Испанию. Среди семейных бумаг он нашел турецкий фирман XVII века, который давал ему и его семье право на титул бека. Д-р Михаилович взял эту бумагу, поехал с женой в Испанию и подал там прошение местным властям о подтверждении фирмана XVII века. Поскольку в Кордове на протяжении столетий не раз переводили мавританские титулы в испанские, д-р Михаилович ходатайствовал о том, чтобы его титул бека на тех же условиях перевели, согласно иерархической системе, в испанский дворянский титул. Выяснилось, что фирман подлинный, и поскольку между арабскими бумагами, признанными в Кордове ранее, и этой не было никакой разницы, д-р Михаилович получил титул барона. Но бесплатных пирожных не бывает. Все это стоило денег. Чета Михаиловичей залезла в такие долги, что им грозил суд. Тогда прабабушка Магда пришла к Ленке и сказала:
– Ленка, дай денег! Вернем.
И Ленка, не задумавшись, дала и больше своего золота не видела. У Шварца дела шли хуже, чем раньше, прабабушка Магда рассталась с мужем, д-р Михаилович жил в Сомборе, а поручика Чирилова куда-то перевели, и он исчез. Несчастная Ленка осталась одна с отцом. Она сушила на чердаке чай, липовый цвет и ромашку, толкла перец в ступке, все время занималась какими-то второстепенными делами и ни разу не сварила обеда, не убрала в комнате и не застелила постель.
– Я в своей комнате не навожу порядок и в твоей не буду, – говорила она отцу.
В один прекрасный вечер она пришла к отцу в тонком светлом платье, почти прозрачном, на внутренних уголках ее глаз, как когда-то, были прилеплены два камешка, похожих на слезинки. Отец изумленно посмотрел на нее, из его рук выпала трубка, рассыпая искры по простыне. Теперь было совершенно ясно: Ленкин живот округлился, он был тяжелый, хоть в руках носи.
– От кого, бога ради? – воскликнул Шварц.
– Не знаю.
– Как не знаешь?
– А ты, когда выпьешь три рюмки ракии, знаешь, с которой напился?
С того дня Шварц начал стричь волосы, из волос плести фитили для свечей, которые сам отливал и ставил в церкви.
Однажды вечером Ленку принесли домой полумертвую. Она была без плода, но кровоточила так, что Шварц, не помня себя, помчался к доктору Читинскому. И с этого времени они втроем замкнулись в своем кругу. В квартире врача Шварц застал нескольких людей, которых разыскивали немецкие власти, в том числе – брата и сестру Срдановичей. О Читинском давно было известно, что он красит ногти в красный цвет, и это было очевидным и окончательным доказательством. Однако Шварц не решился на него донести.
– Доктор Читинский, мы дошли сейчас до точки, с которой видны все улицы города, – сказал Шварц врачу в тот вечер. – Из этой кожи невозможно быстро выскочить, ибо человек старится каждый день всего лишь на прыжок петуха с насеста. Ни я, ни вы не можем больше выбирать.
Так оно и было.
Шварц не хотел выдавать немецким властям д-ра Читинского, пока Ленка болела, а д-р Читинский, обожавший Ленку, в свою очередь, не хотел уходить к партизанам, пока у больной есть хоть пылинка надежды, хотя и знал, что Шварц донесет на него в гестапо, как только отпадет необходимость во враче. Он лечил Ленку как умел, она была целиком на его попечении, потому что о транспорте до белградской больницы не могло быть и речи. Настали тяжелые дни, обедали поздно вечером – только откладывали ложки, как пора было зажигать свет, а вскоре его уже и не гасили. Д-р Читинский сидел подле Ленки, сосал ее пальцы и убирал волосы из-под головы, чтобы не давили. Стаканы из толстого стекла и свечи в виде яблок бросали красные тени на стену, когда однажды вечером д-р Читинский попросил у Шварца немного гипса. Он залил гипс водой и замесил темное тесто. Потом вымыл руки, и пальцы, изъеденные гипсовым молоком, стали мягкими, как оленья кожа, они ощущались скулами так, будто сами отскакивают от поверхности, до которой дотронулись. Д-р Читинский собрался под бесчисленными пуговицами своего жилета и, готовый среагировать быстрее, чем обычно, попробовал пойти в последний, решающий приступ на Ленку. Говорят, она умерла у него на руках.
– Ты напился слез и сам не знаешь, что делаешь, – сказал д-р Читинский самому себе. Он стоял в темноте молча и вдруг услышал, как кто-то позади него хрипит или шумно чешется. Чей-то огромный палец ткнул его в затылок. Старый Шварц стоял в двустворчатых дверях и держал в руках докторский саквояж своего гостя.
– Красная конница отступает! – шепнул он д-ру Читинскому и передал его немецким солдатам, которые уже ждали во дворе…
– Но, мамочка, – прерывает в этом месте рассказ Ружичка и зажигает свет в комнате, – гнилой пень, хоть и не видит, зато светит! Разве эта история – не повторение шахматной партии? Вспомните! Д-p Читинский побил белую королеву, то есть Ленку, а потом его снял с доски белый король, вдовец Шварц! Что вы об этом скажете? Невероятно, но все совпадает!
– Глупости, дитя мое, – возражает на это прабабушка, – то одно у тебя, то другое. Надоел ты мне с этими шахматами. Нечем больше заняться? Иди поспи и все забудешь. Утро вечера мудренее.
– Но, мамочка, как вы не видите, что все сходится? Возьмите д-ра Михаиловича. В той партии он побил поручика Чирилова, как раз тогда, когда тот приблизился в своем красном мундире к Ленке. Помните, д-р Михаилович разоружил и разжаловал Чирилова и отогнал его от Ленки.
– Конечно, и, возможно, для нее это было самое лучшее. Я никому не говорила, но всегда считала, что они – не пара. И Стеван в той партии это почувствовал. Как он выхватил саблю у Чирилова! Помнишь?.. Это все Стеван придумал, и хорошо придумал. Уж поверь мне, потому что я его, грех сказать, не люблю даже мертвого.
Магда Михаилович замолкает. Она была стара, и гласные в ее словах все больше худели, сворачивались и высыхали. В ее постных речах оставались только кости языка – согласные. Поэтому очень трудно было следить за тем, что она говорит.
– Мамочка, вы мне душу наизнанку выворачиваете! – восклицает Ружичка.
Он встает, мерит комнату шагами и решает заострить разговор:
– Знаете, я обдумал случай с поручиком Чириловым. Все ясно как божий день. Лошади убивают артиллерийского капитана на улице, изогнутой наподобие кочерги. Все до мелочей сходится с той шахматной партией, о которой все, кроме меня, как вы утверждаете, забыли. Давайте освежим воспоминания. Кто в этой партии был красным конником? Чирилов, разумеется. Кого он съел на d2? Белую пушку – капитана Алексу. И вы мне будете теперь говорить, что поручик Чирилов, тот самый Чирилов, случайно убил того самого капитана Алексу? Это была уже не игра. На этот раз капитана отвезли на лафете прямо на кладбище!
– Лошади его убили, лошади, чадо мое! – усмиряет разговор прабабушка. – А ты всюду что-то загадочное видишь! Не забивай голову глупостями…
И прабабушка велит дочери принести вино. Та приносит подогретое вино с перцем, печеные яблоки с орехами и маленькие ложечки с дырочкой и короной на ручке.
– Хорошо, пусть будет так, – не отстает Ружичка, – а что же тогда, по-вашему, мамочка, случилось с Петаром Коичем? Куда он делся после шахматной партии? Последний раз его видели, когда он покидал доску как красная пешка, с обритой бородой, а потом появился в виде второй королевы, в кринолине и с веером. Коич наперед знал, что случится. И не надо меня обманывать, мамочка! И вы, и я знаем, где он сейчас. Мы прекрасно знаем, где та красная королева, в которую он превратился.
– Где? – испуганно спрашивает прабабушка.
– Здесь, в этой комнате, передо мной! – восклицает Ружичка, подходит к прабабушке и с силой разжимает ее стиснутые в кулаки ладони. Она смотрит своим косым взглядом прямо на Ружичку. Два ногтя на старческих руках покрыты лаком, остальные исписаны мелкими цифрами, среди них и счет за ракию, выпитую после кладбища в «Трубаче». Ружичка подходит к шкафу, открывает его и вынимает красное с кринолином платье королевы, с оторванным кружевом, а из-под него, со дна шкафа – прядь бороды с узелком и ботинки с монограммой «ММ».
– Посмотрите, мамочка! Магда Михаилович? – показывает он прабабушке пару ботинок с ее монограммой и добавляет: – Даже ботинки были умнее него. Они еще в Вене знали, что Петар Коич превратится в жизни в Магду Михаилович, и, как в шахматной партии, он обернулся из солдата красной королевой! Вы достаточно, мамочка, играли чужую роль! Или вам нужны еще доказательства, что вы и есть бывший Петар Коич? Признайтесь наконец, что вы – красная королева!
Прабабушка сидит, словно окаменев, в ее ладони лежит прядь бороды, и вдруг она произносит, словно про себя:
– Знаешь, чадо, один раз я умирала. Мне не припомнить точно, когда это было – при родах или раньше, кажется, раньше. Умираю и думаю: мне все равно! И вдруг все о жизни и смерти стало для меня ясно, не в мыслях, мысли – мушиный мед, а в чувствах, вот как запахи различаешь. Я вдруг все понимаю в чувствах, сильных и ясных, мимо которых столько раз в жизни прошла совсем близко, не свернув и не ощутив, что ответ – здесь, под рукой. Теперь я знаю, что забыла, – и прабабушка развязывает узел на волосах, – я забыла купить в Вене коробку красного бисера. Вот что я забыла.
А что до тебя, дитя мое, выброси все из головы – я родила детей, у меня внуки, а ты твердишь, что я бывший Петар Коич! Ну ладно, согласимся и с этой невероятной вещью. Подумай немного, что это значит для тебя. Ведь если все в жизни, как ты утверждаешь, повторяет ту партию в шахматы, если даже солдаты превращаются в королев, а венские франты выходят замуж, меняют пол и рожают, то это касается не только меня, красной королевы, но и вас, белых. Поразмысли над этим и не смей говорить, что я тебя не предупредила. Ты сам выбрал… Прошлое – как отрезанная нога. Может зудеть, но почесать невозможно…
Ружичка встает, довольный прабабушкиным признанием. Дело сделано, его кости хрустят, курчавые волосы жуют уши. Он ждет лишь, чтобы старая дама переоделась. За ширмой она сбрасывает брюки и надевает красное платье. Ружичка оборачивается, его лопатки по-прежнему сильны и подвижны – могут палец укусить. Он готов увести красную королеву.
Он не знает, что на улице пошел снег и в снегу с заряженным пистолетом в руке стоит помощник закройщика Коста Сарич. Тот, что ходит, словно перескакивает через годы.
Ход красной пешки.
Запись на конской попоне
На гравюрах Ромена де Хуго можно увидеть, что в Белграде, прежде чем в 1740 году его сожгли дотла, стояло множество дворцов с вынесенными вдоль всех залов и спален галереями для слуг. Этот лабиринт галерей не связывался с помещениями дворца ни одним проходом, так что в галереи можно было войти лишь снаружи и выйти из них – точно так же, а из залов и спален попасть туда было невозможно. Птицы, залетевшие в галереи, обречены были, если хотели вылететь наружу, сгореть, потому что, помимо входных дверей, в этом лабиринте находились еще дверцы печей многочисленных комнат, чтобы слуги топили их и чистили, не заходя внутрь помещений.
Слуги, работавшие в галереях, были хорошо вышколены; они могли измерить тяжесть пламени, упавший на пол хлеб поднимали губами, а основное правило их поведения гласило: никогда ничего не ронять, ни одним словом не нарушать тишину и покой тех, кто находится в комнатах. Делать свое дело бесшумно, как колокол в воде. И они так и работали: всю свою жизнь хранили огонь во дворце, как темноту в кармане, но никогда не заходили внутрь и не видели, как выглядят залы, которым они дарят тепло, печи, которые они топят, и люди, о чьих удобствах они заботятся. Галереи были темные и глухие, освещенные лишь отблесками из печей, а комнаты – залиты ярким светом, полны смеха, звяканья посуды и звона бокалов. Правда, порой, поздно вечером, можно было услышать, как кто-то в этих роскошных комнатах поскуливает в своей постели, накрытой покрывалом с четырьмя колокольчиками на углах…
Хотя наказание за нарушение тишины было строгим – изгнание и лишение куска хлеба, – один из слуг решился все же однажды шепнуть несколько слов сквозь огонь и стену. Этого оказалось достаточно, чтобы погубить свою жизнь и сохранить имя. Преступившего закон молчания слугу звали Павле Грубач.
Про него говорили, что он не может видеть то, что справа от него. Когда он смотрел в этом направлении, зрение ему изменяло. Налево, напротив, он видел хорошо и далеко, а там, как известно, можно разглядеть свою смерть, если глаза привыкнут к той темноте, что и днем пролегает между глаз каждого человека, отделяя левый взгляд от правого. Между тем, когда он оборачивался назад, все происходило наоборот. Через левое плечо он не видел ничего, а через правое взгляд уходил в необозримую даль, в туманное прошлое, и Грубач утверждал, что его воспоминания стали старше него самого, что они все глубже тонут в прошлом и он не в силах их удержать. Порой он вынимал изо рта, как из старого колодца, мелкую монету, отчеканенную в 1105 году в Константинополе, и выбрасывал ее, потому что она давно уже вышла из употребления.
Чтобы заработать на жизнь и по воскресеньям наливать в краюху хлеба немного вина, Грубач продавал огонь и подержанные шапки. Зимой на заре, выполнив работу во дворце, он шел от дома к дому с решетом, полным горящих углей, и предлагал их на продажу, загребая лопаткой, как жареные каштаны. Лопатка огня – один грош! Летом Грубач выходил на белградские улицы вместе с женой. Она шла впереди, с ежом на тарелке, иголки которого были украшены наколотыми на них сливами или клубникой. За ней следовал Грубач с десятком остроконечных шапок на голове, одна в другой. Он рекомендовал их клиентам, утверждая, что ношеная шапка лучше новой.






