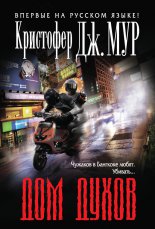Серые души Клодель Филипп
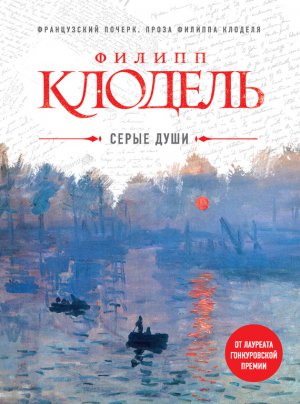
Домик пустовал уже давно. Мне предстоит навести там порядок. Как бы мне хотелось, чтобы ты увидел его когда-нибудь! Мне так тебя не хватает. Ты можешь писать на мое имя, на адрес Замка, улица Шам-Флери, в П… Мне не терпится узнать, что у тебя нового. Твое последнее письмо я получила уже три недели назад. Надеюсь, что ты не очень страдаешь, несмотря на этот холод. Здесь слышен только гул пушек, днем и ночью. От него содрогается все мое существо. Люблю тебя и нежно целую.
Твоя Лиз.
Любовь моя,
Я так тревожусь: от тебя по-прежнему нет новостей, а тут еще эти пушки, которые никогда не смолкают. Хотя говорили ведь, что война продлится недолго. Если бы ты знал, как я хочу, чтобы ты сжал меня в своих объятиях, как хочу увидеть твою улыбку, твои глаза. Я хочу быть твоей женой. Хочу скорого окончания этой войны, чтобы стать твоей супругой, подарить тебе прекрасных детей, которые будут дергать тебя за усы! Ах, если бы твои и мои родители не были так глупы в прошлом году, мы бы уже принадлежали друг другу на всю жизнь… Если тебе случится написать им, не говори, где я нахожусь. Я уехала, не сообщив им. Для меня они больше не существуют.
Здесь я увлеклась своим новым ремеслом. Дети послушные и, думаю, любят меня. Многие приносят мне маленькие подарки: яйцо, орехи, кусок сала. Мне с ними спокойно, и я немного забываю о своем одиночестве.
Печальный (так я называю своего хозяина, Прокурора) каждый день поджидает моего возвращения. Прогуливается по парку и кланяется мне. Я отвечаю на его поклон и улыбаюсь. Это одинокий человек, старый и холодный. Его жена умерла, когда они были очень молоды.
Скоро Рождество… Помнишь, как мы были счастливы в наше последнее Рождество! Напиши мне поскорее, любимый, напиши мне…
Люблю тебя и нежно целую.
Твоя Лиз.
Любовь моя,
Наконец-то письмо от тебя! Оно пришло только сегодня, хотя было написано еще 26 декабря. И это притом, что мы так близко друг от друга. Печальный лично вручил мне его. Он, должно быть, догадался, о чем там речь, но не задавал мне никаких вопросов. Просто постучал в мою дверь, поклонился, отдал мне конверт и ушел.
Я прочитала твои слова, плача от радости. Прижимала письмо к сердцу, да, к своему сердцу, прямо к коже, закрывала глаза, и мне казалось, что ты сам здесь, с твоим теплом…
Я так боюсь за тебя. Здесь есть госпиталь, куда привозят много раненых. Каждый день, полными грузовиками. Я так боюсь увидеть тебя среди них. Бедняги в нечеловеческом состоянии, у некоторых уже нет лица, другие стонут так, словно потеряли рассудок.
Береги себя, любимый, думай обо мне, я так тебя люблю и хочу быть твоей женой. Целую тебя нежно.
Твоя Лиз.
Любовь моя,
Мне так тебя не хватает. Уже сколько месяцев не видеть тебя, не говорить с тобой, не касаться тебя… Почему же ты не добьешься отпуска? Мне так грустно. Я пытаюсь не подавать вида перед детьми, но иногда чувствую, как слезы подкатывают к глазам, тогда я отворачиваюсь к доске, чтобы они ни о чем не догадались, и пишу буквы.
Хотя мне не на что жаловаться. Все здесь милы со мной, и мне хорошо в этом домике. Печальный по-прежнему держит со мной уважительную дистанцию, но никогда не упускает случая оказаться на моем пути, чтобы поздороваться, по крайней мере один раз за день. Вчера мне показалось, что он покраснел, может, из-за холода, не знаю. Тут есть старая служанка, Барб, она живет в Замке со своим мужем. Мы хорошо с ней ладим. Иногда они приглашают меня к своему столу.
У меня вошло в привычку каждое воскресенье подниматься на гребень холма. Там большой луг, и оттуда виден весь горизонт. Ты там, любимый. Виден дым, ужасные взрывы. Я сижу на вершине довольно долго, сколько могу, пока не перестаю чувствовать руки и ноги от холода, но хочу еще хоть немного разделить с тобой твои страдания. Любимый, бедный мой… Сколько еще это продлится?
Целую тебя нежно. Жду твоих писем.
Любящая тебя Лиз.
XXV
В красном сафьяновом блокнотике было еще много страниц, покрытых мелким наклонным почерком, напоминавшим изысканную вязь. Много страниц, воспроизводивших письма Лизии Верарен тому, кого она так любила и за кем последовала сюда.
Его звали Бастьен Франкер, двадцать четыре года, капрал 27-го пехотного. Она писала ему каждый день. Рассказывала о долгих часах, о детском смехе, о покрасневшем лице Дестина. О дарах Марсьяля Мера, дурачка, для которого она стала великим божеством, о весне, взрастившей в парке первоцветы и крокусы. Она писала ему обо всем этом своей маленькой легкой рукой и такими же легкими фразами, за которыми для тех, кто ее немного знал, угадывалась ее улыбка. А главное, писала о своей любви и о своем одиночестве, об этой щемящей тоске, которую скрывала от нас – от нас, которые видели ее каждый день и никогда ни о чем не догадывались.
В блокноте не было писем от ее возлюбленного. Впрочем, она получила их мало: всего девять за восемь месяцев. Конечно, она их сосчитала. И хранила их, без конца перечитывая. Где? Может, на груди, рядом с сердцем, прямо на коже, как сама писала.
Почему от него пришло так мало писем? Не было времени? Места? Или желания? Мы всегда знаем, что другие значат для нас, но никогда не знаем, что сами значим для них. Любил ли Бастьен ее так же, как она его? Хотелось бы в это верить, но, в сущности, я не уверен.
Как бы то ни было, маленькая учительница жила этой перепиской; в этих словах чувствовалась ее кровь, и свет в доме должен был гореть допоздна, когда, проверив тетрадки учеников, она брала перо, чтобы написать письмо, а потом скопировать его в красный сафьяновый блокнот. Поскольку все письма были скопированы, словно она нуждалась и в том, чтобы вести этот дневник разлуки, этот календарь сиротских дней, проведенных вдали от того, ради кого она и жила среди нас. Это немного напоминало календарные страницы, вырванные Дестина.
Печальный – это имя часто приходило ей на ум. Думаю, что она даже привязалась к этому холодному и одинокому человеку, который предоставил ей кров. Говорила о нем с нежной иронией, замечала его тайные усилия быть ей приятной, довольно беззлобно подтрунивая над его красневшим иногда лицом, над его заиканием, его чопорным нарядом, его круговыми прогулками вокруг домика, его взглядами, обращенными к окну ее спальни. Печальный ее забавлял, и, думаю, не слишком ошибусь, поклявшись, что Лизия Верарен наверняка была единственным человеческим существом, которое Прокурору удалось позабавить в своей жизни.
Тот ужин, о котором мне рассказывала Барб, девушка описала в длинном письме, помеченном 15 апреля 1915 года:
Любовь моя,
Вчера вечером я была приглашена к столу Печального. Это случилось впервые. Все было по правилам: три дня назад я нашла под своей дверью карточку: «Господин прокурор Пьер Анж Дестина просит мадемуазель Лизию Верарен принять его приглашение на ужин 14 апреля в 8 часов». Я приготовилась к светской трапезе, но мы были только вдвоем, он и я, наедине в огромной столовой зале, где могли бы поместиться шестьдесят человек! Настоящий ужин влюбленных! Это я тебя поддразниваю! Печальный, как я тебе уже говорила, – почти старик. Но вчера он был похож на министра или канцлера, прямой, как столб, в своем фраке, достойном представления в Опере! Стол был умопомрачительный, посуда, скатерть, серебро, у меня возникло впечатление, что я очутилась… даже не знаю где, в Версале, быть может!
И подавала не Барб, а маленькая девочка, сущий ребенок. Сколько же лет ей могло быть? Восемь, может, девять. Она отнеслась к своей роли очень серьезно и, похоже, привыкла ее исполнять. Иногда даже высовывала кончик языка меж губ, как делают дети, когда стараются. Порой она встречалась со мной глазами и улыбалась. Все это казалось немного странным: свидание, ужин, девочка. Барб мне сегодня сказала, что девочка – дочурка трактирщика из В… и что ее зовут Денная Красавица. Это меня очаровало. Ужин приготовил ее отец, и все было великолепно, хотя мы почти не притронулись к блюдам. Не думаю, что когда-либо видела подобное пиршество, но мне вдруг стало немного стыдно рассказывать тебе об этом, в то время как ты, должно быть, очень плохо питаешься, а может, и не досыта! Прости меня, любимый, я такая глупая… Пытаюсь тебя развлечь, а вместо этого сыплю соль на рану… Мне тебя так не хватает. Почему ты мне больше не пишешь? Твое последнее письмо я получила две недели назад… И тебе по-прежнему не дают отпуск… Однако я знаю, что с тобой ничего не случилось, я это чувствую, чувствую. Напиши мне, любимый. Твои слова помогают мне жить, как помогает быть неподалеку от тебя, даже если я тебя не вижу, даже если не могу сжать тебя в своих объятиях. Печальный во время ужина был не очень-то разговорчив. Робел, как подросток, а иногда, когда я смотрела на него чуть дольше, краснел. Когда я спросила, не слишком ли его тяготит одиночество, он, казалось, долго размышлял, а потом ответил мне, серьезно и тихо: «Одиночество – удел человека, что бы с ним ни случилось». Я сочла, что это очень красиво и при этом совершенно неверно: ведь ты не рядом со мной, но я чувствую тебя каждую секунду и часто говорю с тобой вслух. Чуть раньше полуночи он проводил меня до двери и поцеловал руку. Мне это показалось ужасно романтичным и старомодным!
О любимый, сколько же еще продлится эта война? Порой ночами мне снится, что ты рядом со мной, я тебя чувствую, касаюсь тебя в своем сне. А утром не сразу открываю глаза, чтобы подольше побыть во сне и верить, что все это на самом деле, а то, что ждет меня днем, – всего лишь кошмар.
Я умираю от того, что не в твоих объятиях.
Целую тебя так же крепко, как люблю.
Твоя Лиз.
Со временем письма молодой учительницы стали все больше окрашиваться горечью, подавленностью, порой даже ненавистью. У той, кого мы всегда видели со светлой улыбкой, у кого находилось приветливое слово для каждого, сердце постепенно наполнялось желчью и болью. В ее письмах все чаще говорилось об отвращении при виде идущих на Завод жителей городка, опрятных, чистеньких, свежих. Доставалось от нее даже ковылявшим по улицам калекам из госпиталя: она обзывала их «счастливчиками». Но все-таки первый приз получил я сам, прямо в морду. Мне было не по себе читать о своей особе. Она написала это письмо вечером того же дня, когда я видел ее на вершине холма, смотрящей вдаль, словно пытаясь отыскать там смысл своей жизни.
Любимый,
Твои письма истончились, размахрились, стали похожи на промокашки, так часто я разворачиваю их, снова сворачиваю, читаю, перечитываю и плачу над ними… Знаешь, мне плохо. Время кажется мне чудовищем, рожденным, чтобы разлучать любящих и заставлять их бесконечно страдать. Как же повезло тем женам, которых я вижу каждый день! Они-то разлучаются со своими мужьями всего на несколько часов, да и у детей из школы отцы всегда при них.
Сегодня, как и каждое воскресенье, я поднялась на холм, чтобы быть поближе к тебе. Шла по тропинке, ничего не видя, кроме твоих глаз, вдыхая только твой запах, который остался в моей памяти. Наверху сильный ветер доносил грохот пушек. И это гремело, гремело, гремело… Я заплакала, зная, что ты сейчас в этом потопе железа и огня, чьи зловещие дымы и вспышки я видела. Любимый, где ты? Где ты? Я просидела там долго, как обычно, и не могла оторвать глаз от этого огромного поля страданий, на котором ты томишься уже столько месяцев.
Вдруг я почувствовала чье-то присутствие за своей спиной. Этого человека я уже раньше видела, он полицейский, и я всегда недоумевала, что ему делать в этом городишке. Он старше тебя, но еще довольно молод. И уж он-то на правильной стороне, на стороне трусов. Он глупо таращился на меня, словно застал то, чего видеть был не должен. В руке у него было ружье, не винтовка, как у тебя, чтобы убивать людей или самим быть убитыми, нет, всего лишь охотничье ружье, нелепое, не то театральное, не то детское. Он и сам был похож на шута из комедии. В тот миг я возненавидела его сильнее, чем всех на свете. Он промямлил что-то, я не поняла. Повернулась к нему спиной.
Я отдала бы жизнь тысяч таких, как он, за несколько секунд в твоих объятиях. Отдала бы их отрубленные головы и сама бы их отрубила, только бы вновь ощутить на своих губах твои поцелуи, вновь ощутить на своем теле твои руки и твои взгляды. Мне неважно, что я отвратительна. Мне плевать на чужие суждения, на чужую мораль. Я убила бы ради того, чтобы ты был жив. Я ненавижу смерть, потому что она не разбирает.
Напиши мне, любимый, напиши мне.
Каждый день без тебя – жестокая пытка…
Твоя Лиз.
Я не рассердился на нее. Она была слишком права. Как она и сказала, я вправду был трусом, да и сейчас еще им остаюсь. И вдобавок тоже убил бы ради того, чтобы Клеманс осталась жива. Я тоже находил живых омерзительными. Бьюсь об заклад, что и Прокурор думал так же. Жизнь наверняка казалась ему плевком в лицо.
Я пробежал блокнот как дорогу, которая мало-помалу сворачивает с цветущей равнины к пылающим варварским пустошам, полным гноя, горечи, крови, черной желчи и грязных луж. Убегавшие дни меняли Лизию Верарен, хотя мы ничего не замечали. Красивая, нежная девушка превращалась в существо, молча кричавшее от боли и раздиравшее себе внутренности. Существо, которое падало. Безостановочно падало.
В некоторых письмах она принималась за своего жениха, упрекая его за молчание, за редкие письма, сомневаясь в его любви. Но уже на следующий день обвивала гирляндами извинений и валялась в его ногах. Тем не менее писем от него не прибавилось.
Я никогда не узнаю, на чьей стороне был этот Бастьен Франкер: мерзавцев или праведников. Никогда не узнаю, блестел ли его взгляд, когда он держал в руках письмо Лизии, открывал и читал. Никогда не узнаю, хранил ли он их на себе, как броню из любви и бумаги, в окопе, когда вот-вот дадут сигнал к атаке и вся его жизнь проносилась в голове гримасничающим хороводом. Никогда не узнаю, пробегал он их со скукой на лице или смеясь, а потом бросал скомканными в грязную лужу.
Последнее письмо, последняя страница блокнота, было датировано 3 августа 1915 года. Это было короткое письмо, где Лизия Верарен простыми словами по-прежнему говорила о своей любви, а также о лете, об этих неимоверно длинных, таких прекрасных днях, ничем не занятых для того, кто одинок и ждет. Я снова пересказываю. Немного сокращаю, но не слишком. Я мог бы скопировать его, но не хочу. Довольно и того, что мы с Дестина коснулись глазами этого блокнота, словно исподтишка смотрели на нагое тело. Не стоит другим это видеть, особенно последнее письмо, которое словно священно, словно прощание с миром, последние слова, даже если, написав их, молодая учительница и догадываться не могла, что они станут последними.
И к тому же после этого письма больше ничего нет. Только пустота. Множество пустых страниц. Пустота смерти.
Предначертанная смерть.
XXVI
Когда я говорю, больше ничего нет, я лгу. Лгу вдвойне.
Во-первых, есть письмо, но написанное не Лизией. Маленький листок, всунутый в блокнот после ее последних слов. Оно было написано неким капитаном Брандье. Дата: 27 июля 1915 года; его должны были доставить в замок 4 августа. Наверняка.
Вот что писал капитан:
Мадемуазель,
Я пишу вам, чтобы сообщить прискорбную весть: десять дней назад, во время атаки на вражеские позиции, капрал Бастьен Франкер был ранен в голову пулеметной очередью. Его люди пришли к нему на помощь и доставили в нашу траншею, где санитар всего лишь смог установить, что ранение крайне серьезно. К несчастью, всего через несколько минут капрал Франкер скончался, так и не придя в сознание. Могу вас уверить, что он погиб как солдат. Уже много месяцев он служил под моим началом и всегда храбро вел себя, постоянно вызываясь добровольцем для самых опасных заданий. Он был любим своими людьми и ценим командирами.
Я не знаю, какова природа ваших отношений с капралом Франкером, но, поскольку после его кончины от вас пришло много писем, я рассудил за благо известить о его трагической кончине, помимо его семьи, и вас.
Знайте же, мадемуазель, что я понимаю ваше горе и прошу вас принять мои самые искренние соболезнования.
Капитан Шарль-Луи Брандье.
Странно, как может прийти смерть. Ни ножа, ни пули или снаряда: вполне может хватить короткого письма. Простое письмо, полное добрых чувств и сострадания, убивает не хуже оружия.
Лизия Верарен получила это письмо. Прочитала. Я не знаю, закричала ли она, заплакала, завыла, это неизвестно. Не знаю. Знаю только, что несколько часов спустя мы с Прокурором стояли в ее комнате, и она была мертва. А мы смотрели, не понимая; в общем, это я не понимал, а он-то уже знал или ему вскоре предстояло узнать, потому что он утаил ее красный сафьяновый блокнот.
Впрочем, зачем он его взял? Чтобы продлить ту беседу за ужином, чтобы подольше купаться в ее улыбках и словах? Наверняка.
Смерть солдата, возлюбленного, ради которого она бросила все, ради которого каждое воскресенье поднималась на вершину холма, ради которого каждый день бралась за перо. Ради того, кто заставлял биться ее сердце. А он, кого видел он, когда смерть стукнула его по голове? Лиз? Какую-нибудь другую? Ничего? Тс-с. Молчок.
Я часто представлял себе, как Дестина читает и перечитывает блокнот, возвращаясь к этой написанной любви, которая должна была причинять ему боль, видеть, как его называют Печальным, видеть, как над ним подтрунивают, но подтрунивают мягко, нежно – ему-то не досталось прямо в рожу, как мне!
Да, беспрестанно читать и перечитывать, как переворачивают туда-сюда песочные часы, проводить время, глядя на текущий песок, и ничего другого.
Я сказал недавно, что лгу вдвойне: там было не только письмо, засунутое в блокнот. Были еще три фотографии. Три, наклеенные рядом, одна к другой, на последней странице. И эту сценку неподвижного кинематографа сочинил Дестина.
На первой узнавалась та, что послужила художнику моделью для большого портрета, висевшего при входе в Замок: Клелии де Венсе было на фотоснимке, наверное, лет семнадцать. Девушка стояла посреди луга, усыпанного какими-то зонтичными цветами, их еще называют «луговыми королевами». Она смеялась. На ней было дачное платье, и этот простой наряд только подчеркивал изящество Клелии. Половину ее лица затемняла тень от широкополой шляпы, но сияющие глаза, улыбка, блеск солнца на руке, которой она придерживала шляпу за поля, – все это придавало ее лицу ослепительную прелесть. Подлинной луговой королевой была именно она.
Вторая фотография была обрезана, на это указывали гладкие края справа и слева и странный зауженный формат. На ней прямо перед собой смотрела счастливая девочка. Ножницы Дестина отделили Денную Красавицу от ее сестер на карточке, которую дал ему Бурраш. «Настоящая Пресвятая Дева», – сказал мне отец. И он был прав. В лице малышки было что-то религиозное, какая-то безыскусная, добрая красота, незамысловатое великолепие.
На третьей фотографии оказалась Лизия Верарен, прислонившаяся к дереву. Руки лежат на стволе, подбородок немного приподнят, губы приоткрыты, словно ожидая поцелуя того, кто смотрел на нее и делал снимок. Она была такой, какой я ее знал. Иным было только выражение лица. Она никогда не одаривала нас такой улыбкой, никогда. Это была улыбка желания, безумной любви, невозможно ошибиться. И смотреть на нее такую можно было только со смущением, клянусь, потому что она вдруг предстала без маски, и наконец-то стало понятно, кем она была на самом деле и что была способна сделать ради мужчины, которого любила. Или с собой.
Однако самым странным тут было впечатление (и вовсе не водка, которую я пил, заставила меня увидеть это), что я смотрю на три портрета одного и того же лица, но снятого в разном возрасте и в разное время.
Денная Красавица, Клелия, Лизия были словно тремя воплощениями одной души, души, которая дала плоти, которой была облечена, одинаковую улыбку и несравненные прелесть и огонь. Та же снова возвращающаяся красота, родившаяся и уничтоженная, появившаяся и ушедшая. Вот так, бок о бок, они вызывали головокружение. Переходить от одной к другой, но снова находить ту же самую. Было во всем этом что-то чистое и дьявольское, безмятежность пополам с ужасом. При виде такого постоянства можно было почти поверить, что красота остается неизменной, что бы ни случилось, вопреки времени, и то, что было, опять вернется.
Я подумал о Клеманс. Мне вдруг показалось, что я мог бы добавить сюда четвертую фотографию, чтобы замкнуть круг. Я сходил с ума. Резко захлопнул блокнот. У меня слишком болела голова. Слишком много мыслей. Слишком много потрясений. И все – из-за трех маленьких фотографий, приложенных друг к другу одиноким стариком, которому было тоскливо.
Я чуть было все не сжег.
Но не сделал этого. Профессиональная привычка. Доказательства не уничтожают. Но доказательства чего? Что мы не умели видеть живых? Что ни один из нас никогда не говорил: «Ишь ты, а ведь малышка Бурраша как две капли воды похожа на Лизию Верарен!» Что Барб так и не сказала мне: «А учителка-то – вылитый портрет покойной мадам!»
Хотя, быть может, только смерть и могла это обнаружить! Может, только мы с Прокурором увидели это! Может, мы оба были похожи – похожи в своем безумии!
Когда я думаю о двух длинных руках Дестина, изящных, ухоженных, жилистых и покрытых пятнами, когда представляю, как они в конце зимнего дня сжимают тонкую, хрупкую шейку Денной Красавицы, а с лица ребенка исчезает улыбка, а в глазах застывает недоуменный вопрос, когда я представляю себе эту сцену, произошла ли она в действительности или нет, я говорю себе, что Дестина задушил не ребенка, но свое воспоминание и муку, что в его руках, под его пальцами, внезапно оказались призраки Клелии и Лизии Верарен, которым он и пытался сломать шею, чтобы избавиться от них навсегда, чтобы уже не видеть их, не слышать, не приближаться к ним ночами, никогда не имея возможности достичь, не любить их напрасно.
Трудно убить мертвых. Заставить их исчезнуть. Сколько раз я сам пытался это сделать. Все было бы гораздо проще, если бы происходило как-то иначе.
Другие лица слились с лицом ребенка, случайно встреченного на самом исходе снежного, морозного дня, когда ему на смену уже приходила ночь, а с ней – и все мучительные тени. И любовь вдруг смешалась со злодейством; запросто, ведь убить можно лишь то, что любил. Только и всего.
Я долго жил с этой мыслью: Дестина стал убийцей по ошибке, из-за иллюзии, надежды, памяти, страха. Прекрасная догадка. Она ничуть не облегчала тяжести преступления, но придавала ему некий блеск, вытаскивало из грязи. Мучениками становились оба, и преступник, и жертва: такое бывает нечасто.
А потом мне однажды пришло письмо. Известно, когда письма отправляют. Но неизвестно, почему они никогда не приходят вовремя, почему это происходит так долго. Быть может, маленький капрал тоже писал Лизии Верарен каждый день? Может, письма куда-то сворачивают, выбирают обходные пути, затерянные тропинки, лабиринты, блуждают, в то время как двое уже давно умерли?
Письмо, о котором я веду речь, было отправлено из Ренна 23 марта 1919 года. Ему понадобилось шесть лет, чтобы дойти. Шесть лет, чтобы пересечь Францию.
Послал его один коллега. Он меня не знал. Он, должно быть, разослал копии всем типам, что, подобно мне, дремали в маленьких городках рядом с бывшей линией фронта, проходившей во время войны.
Альфред Виньо, так его звали, хотел отыскать след одного малого, которого он потерял из виду в шестнадцатом. Мы часто получали подобные запросы – из мэрий, от семей, от жандармов. Война была большим котлом, в котором перемешались сотни тысяч человек. Некоторые умерли, другие выжили. Некоторые вернулись домой, а кое-кто захотел под шумок изменить жизнь. Большая бойня не только кромсала тела и души; она также позволила небольшому числу оказаться среди пропавших без вести и отправиться подышать воздухом подальше от родных краев. И надо было очень постараться, чтобы доказать, что они живы. Тем более что сменить имя и бумаги было тогда проще простого. Парней, которым уже никогда больше не понадобятся их имя и бумаги, насчитывалось около полутора миллионов: широкий выбор! Многие мерзавцы просто заново родились на свет вдали от мест, где напакостили, и все шито-крыто.
У пропавшего типа, которого искал этот Виньо, было на совести убийство. Мертвец. Вернее, мертвая, которую он методично пытал – в письме были подробности – прежде чем задушить и изнасиловать. Преступление произошло в мае 1916 года. И Виньо потребовалось три года, чтобы завершить расследование, собрать улики и убедиться в своей правоте. Жертву звали Бланш Фан'век. Ей было десять лет. Ее нашли в канаве на обочине проселочной дороги, менее чем в километре от деревни Плугазен, где она жила. Девочка, как и каждый вечер, пошла на выгон за четырьмя несчастными коровами.
Чтобы угадать имя малого, которого разыскивал Виньо, мне незачем было читать письмо. Едва я открыл конверт, словно что-то всколыхнулось вокруг меня и в моей голове.
Убийцу звали Ле Флок, Ян Ле Флок. В то время ему было девятнадцать лет. Мой маленький бретонец.
Я не ответил на письмо Виньо. Каждому свое дерьмо! Он наверняка был прав насчет Ле Флока, но это ничего не меняло. Обе малышки были мертвы – и та, что из Бретани, и наша. И мальчишка тоже был мертв, расстрелян по всем правилам. Да к тому же, убеждал я себя, Виньо мог ошибаться, у него, наверное, были свои причины навесить эту историю на мальчишку, как у тех двух подонков, Мациева и Мьерка, были свои. Поди узнай теперь.
Странно, но я привык жить в окружении тайны, в сомнениях, в потемках, без ответов и уверенности. Ответить Виньо значило уничтожить все это: внезапно пролившийся свет обелил бы Дестина и погрузил маленького бретонца во мрак. Слишком уж просто. Один из них убил, это точно, но ведь это мог сделать и другой, в сущности, разница между намерением и преступлением ничтожна.
Я взял письмо Виньо и раскурил им трубку. Пфф-ф! В дым! В пепел! В ничто! Продолжай искать, милейший, я тут не единственный! В сущности, может, это была месть. Способ сказать себе, что я не единственный, кто роет землю ногтями в поисках мертвых, чтобы вынудить их заговорить. Даже в пустоте хочется знать, что есть другие люди, похожие на нас.
XXVII
Ну вот, я подхожу к концу. К концу истории и к своему собственному. Могилы, как и рты, давно закрыты, а от мертвых остались всего лишь полустертые имена на могильных камнях: Денная Красавица, Лизия, Дестина, Важняк, Барб, Аделаида Сиффер, маленький бретонец, рабочий-печатник, Мьерк, Гашантар, жена Бурраша, Ипполит Люси, Мазерюль, Клеманс… Часто я представляю себе всех – в холодной земле и полной темноте. Я знаю, что глазницы их запали и давно пусты, а их сложенные на груди руки лишены плоти.
Если кто хочет знать, чем я занимался все эти годы, все это время, которое привело меня к сегодняшнему дню, я мало что могу ответить. Я не заметил этих лет, даже если все они показались мне очень долгими. Я поддерживал огонь и вопрошал темноту, так и не добившись ничего, кроме обрывков ответов, неполных и немногословных.
Вся моя жизнь держится на диалоге с несколькими мертвецами. Этого хватило, чтобы заставить меня погрузиться в жизнь, дожидаться конца. Я говорил с Клеманс. Вспоминал других. Почти каждый день призывал их к себе, чтобы оживить былые поступки, слова и задаться вопросом, правильно ли я их расслышал.
Когда я считал, что вижу, наконец, слабый свет, вскоре появлялось что-нибудь другое и задувало огонь, запорошив мне глаза пеплом. Все приходилось начинать сначала.
Но, быть может, именно это и заставило меня продолжать одноголосый диалог, всегда один и тот же, всегда только мой, а в непрозрачности этого преступления, возможно, повинна только непрозрачность самих наших жизней. Любопытная штука жизнь. Известно ли вообще, почему мы приходим в мир и почему в нем остаемся? Копаться в Деле, как это делал я, наверняка было для меня способом не задавать себе настоящий вопрос, тот, чье появление все отказываются замечать и на наших губах, и в наших мозгах, да и в наших душах – они ведь не белые и не черные, но серые, вполне себе серые, как мне сказала когда-то Жозефина.
Что до меня, то я здесь. Я не жил. Я всего лишь выжил. Меня охватывает дрожь. Я откупориваю бутылку вина и пью, пережевывая куски потерянного времени.
Думаю, я все сказал. Все сказал о том, чем я был, как мне кажется. Рассказал почти все. Мне остается сказать всего одну вещь, самую трудную, быть может, ту, о которой я ни словечка не шепнул Клеманс. Потому-то я все еще пью, чтобы набраться мужества и высказать это, рассказать это тебе, Клеманс, потому что лишь для тебя одной я говорю и пишу, с самого начала, всегда.
Знаешь, я ведь так и не смог дать имя малышу, нашему малышу, и даже не посмотрел на него по-настоящему. Я его даже не поцеловал, как это сделал бы любой отец.
Мне принесла его через неделю после твоей смерти монашка в чепце, длинная и сухая, как забытый в печи осенний плод. Сказала:
– Это ваш ребенок. Ваш. Его надо вырастить.
Сунула мне в руки белый сверток и ушла. Он был теплым, и от него пахло молоком. Наверное, он был кротким, податливым. Его личико высовывалось из пеленок, окутывавших его, как младенца Иисуса в яслях. Глаза были закрыты. Щеки были круглые, такие круглые, что в них терялся рот. Я искал в его чертах твое лицо, как напоминание о тебе, посланное тобой с того света. Но он ни на кого не был похож, во всяком случае, на тебя. Он походил на всех новорожденных, явившихся на свет после долгой уютной ночи, проведенной в месте, которое все забывают. Да, это был один из них. Невинный младенец, как говорят. Будущее мира. Человеческий детеныш. Продолжение рода. Но для меня он ничем таким не был, он был просто убийцей, маленьким бессознательным убийцей без угрызений совести, с которым мне предстояло жить в твое отсутствие. Он убил тебя, чтобы явиться ко мне, толкаясь локтями и остальным, чтобы наконец-то остаться одному, наедине со мной, и я уже никогда не увижу твое лицо и не прикоснусь губами к твоей коже, а он будет расти каждый день, отрастит себе зубы, чтобы и дальше все пожирать, научится хватать руками вещи и глазеть на них, а позже выучит и слова, чтобы всех вокруг потчевать своей гнусной ложью, что он тебя никогда не знал, что когда он родился, ты уже умерла, хотя правда, святая правда состоит в том, что это он тебя убил, только бы самому родиться.
Я думал недолго. Это произошло само по себе. Я взял большую подушку. Накрыл ею его лицо. Подождал, долго. Он не шевелился. Пользуясь словами тех, кто нас судит здесь, это было непредумышленно; это была единственная вещь, которую я мог сделать, и я ее сделал. Я убрал подушку и заплакал. Плакал, думая о тебе, а не о нем.
Затем пошел к Ипполиту Люси, доктору, чтобы сказать ему, что ребенок не дышит. Он пошел за мной. Вошел в комнату. Ребенок лежал на постели. У него по-прежнему было лицо невинно спящего младенца, умиротворенное и чудовищное.
Доктор его распеленал. Приник ухом ко рту. Послушал сердце, которое больше не билось. Ничего не сказал. Закрыл свою сумку, потом повернулся ко мне. Мы посмотрели друг на друга долгим взглядом. Он понял. Я понял, что он понял, хотя ничего мне не сказал. Он вышел из комнаты и оставил меня наедине с маленьким тельцем.
Я похоронил его рядом с тобой. Остран сказал мне, что новорожденные исчезают под землей, как запах на ветру, даже раньше, чем успеваешь это заметить. Сказал мне это, не думая ни о чем плохом. У него был такой вид, будто он восхищается этим.
Я не написал имя на могиле.
Хуже всего то, что даже сегодня у меня нет никаких угрызений совести; я бы сделал это снова и не будучи в том душевном состоянии, в котором был тогда. Я этим не горжусь. Но и не стыжусь тоже. Сделать это меня заставила не боль. Пустота. Пустота, в которой я остался, но в которой хотел оставаться один. А он был бы несчастным малышом, вынужденным жить и расти рядом со мной, чтобы жизнь стала всего лишь пустотой, наполненной одним-единственным вопросом, большой бездонной и очень черной могилой, по краю которой я бы кружил, вечно говоря с тобой, чтобы все мои слова превратились в стену, за которую можно было бы хоть немного уцепиться.
Вчера я потащился к Воровскому мосту. Помнишь? Сколько же лет нам было? Чуть меньше двадцати? Ты надела платье цвета смородины. У меня был подтянутый живот. Мы стояли на мосту и смотрели на реку. Ты мне говорила, что эта река течет, как наша жизнь, смотри, как далеко, смотри, как она красива здесь, меж глинистых берегов, среди кувшинок и длинноволосых водорослей. Я не осмеливался обнять тебя за талию. У меня сводило внутренности, так сильно, что я с трудом дышал. Твои глаза смотрели вдаль. Мои глаза смотрели на твой затылок. Я чувствовал исходивший от тебя аромат гелиотропа и запах реки, весь из свежести и перемолотых трав. Потом ты вдруг повернулась ко мне, улыбнулась и поцеловала. Это было в первый раз. Под мостом текла вода. Мир был ярок, как в прекрасное воскресенье. Время остановилось.
Вчера я долго простоял на Воровском мосту. Река была прежней. Все те же большие кувшинки, длинноволосые водоросли, глинистые берега. И все тот же запах свежести и перемолотых трав, но уже только он один.
Ко мне подошел какой-то мальчуган. Спросил: «На рыб смотришь?» И добавил немного разочарованно: «Их тут полно, но никогда не видно». Я ничего не ответил. Есть столько всего, чего никогда не видишь. Он облокотился о перила рядом со мной, и мы довольно долго стояли там, слушая музыку лягушек и водоворотов. Он и я. Начало и конец. И я ушел. Мальчуган шел за мной какое-то время, потом исчез.
Сегодня все кончено. Я исчерпал свое время, и пустота меня больше не страшит. Быть может, ты думаешь, что я тоже негодяй, не лучше других. Ты права. Конечно, права. Прости меня за все, что я сделал, а особенно за то, чего не сделал.
Надеюсь, скоро ты сможешь судить меня, глядя мне в лицо. Вдруг Бог существует, а вместе с ним – и все такое прочее, вся эта чушь, которой нам забивали голову в детстве? Если это так, тебе будет трудно меня узнать. Ты покинула молодого человека, а найдешь почти старика, потрепанного и израненного. Я знаю, что ты не изменилась, это свойство мертвых.
Недавно я снял со стены карабин Гашантара. Разобрал его, смазал, почистил, снова собрал. Я знал, что закончу сегодня свою историю. Он сейчас у меня под рукой. Снаружи светло и легко. Сегодня понедельник. Утро. Вот. Мне больше нечего сказать. Я все сказал, во всем исповедался. Пора.
Теперь я могу воссоединиться с тобой.