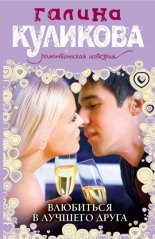Зеленый шатер Улицкая Людмила
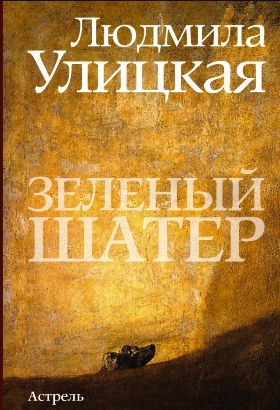
Никакого романа между ними не было. Так, по крайней мере, думал Илья, который знал толк в ухаживаниях, часто влюблялся в хорошеньких девушек и даже слыл среди своих друзей большим умельцем по части обольщения. Но этот случай — неяркая, увядающая девушка, которая, казалось, никогда и не знала цветения, — даже и не стоил усилий, упал в руки нежданно-негаданно.
Илья и в мыслях не держал, что из нечастых встреч, лишенных праздничной остроты и яркости, получится скучноватый, но вполне сносный брак.
На третьем году их вялых отношений Люда забеременела — ей было тридцать четыре года, на десяток лет старше Ильи. Они расписались незадолго до рождения ребенка, и, надо сказать, без особой со стороны Люды активности. Когда Илья предложил пожениться, она не проявила восторга, чем его даже разочаровала: все-таки он испытывал нечто вроде гордости за свое благородное поведение.
С рождением мальчика, названного Ильей — то ли в честь великодушного отца, то ли в честь равнодушного деда-академика Ильи Ивановича, — Илья почти окончательно переселился к Люде, даже перевез на дачу наиболее ценную часть своей книжной коллекции. Няня своей комнаты — рядом с Людиной — молодому мужу не уступала. Ему была выделена комната во втором этаже, где было холодновато, но просторно.
Люда заведовала лабораторией какого-то особого почвоведения, давно уже защитила кандидатскую диссертацию и, если бы не беременность, написала бы и докторскую. Но младенец, хотя был тихим и покладистым, да и вообще был полностью на руках няни Клавы, как-то лишил Люду былого научного энтузиазма, и докторская ее диссертация, уже заявленная, так и завяла на полдороге.
Илье все больше нравилось жить в Людином доме. С одной стороны к небольшому дачному поселку подступал город, но с другой стороны примыкали опытные поля, а неподалеку раскинулся огромный Тимирязевский парк с древними липовыми и еловыми аллеями, с прудами и старыми кормушками для копытных, которых давно уже не было видно.
Иногда Илья проводил в доме неделю безвыездно, потом уезжал на несколько дней. Отчета с него Люда не спрашивала, да и денег тоже. Приходил — как будто радовалась, уходил — не упрекала. Только просила предупреждать по возможности.
Малыш был в Илью, кудрявый и узколицый. Редко плакал, мало улыбался, Илья считал, что темперамент ребенок унаследовал материнский. К трем годам стали замечать странности: малыш говорил все, даже выучил наизусть нехитрые стишки, которые ему читали, но на вопрос: «Хочешь ли есть?» отвечал: «Хочешь». Няня Клава считала, что все в порядке, и странность его лишь в том, что он всех умнее, академиком будет. Уже и пять лет исполнилось, и сказки Пушкина он, восхищая няню, читал наизусть целыми книгами, а это незначительное расстройство речи все не проходило. Вызвали специалиста, тот поставил диагноз — аутизм. Им и объяснялись все небольшие странности и отклонения в развитии — хмурая сосредоточенность, необщительность, неспособность вести диалог… И ничего хорошего доктор не обещал.
В тот год, когда маленького Илью должны были отдать в школу, его отца в доме на Тимирязевке уже не было. Он постепенно — так же постепенно, как женился, — ушел из дому.
В тот же год умер отец Людмилы Илья Иванович, академик, и объявился новый академик, пожелавший занять дачу умершего. После недолгой тяжбы — хотя Людмила была заведующей лабораторией, но дача ей по чину не полагалась — ей выдали взамен отобранной дачи трехкомнатную квартиру неподалеку, в Красностуденческом проезде. При переезде Илья много помогал, вязал книги в пачки, паковал ящики с посудой, грузил в фургон.
Но на новой квартире он не задержался ни на день. Взял чемодан со своей коллекцией и собрался везти на квартиру к новой жене, о которой Люда смутно догадывалась.
Выйдя в прихожую, Илья поцеловал сына в голову.
— Веди себя хорошо, маму не обижай, — попрощался он с сыном.
— Маму не обижай, — отозвался сын.
Илья в который уж раз поежился — эти жалкие повторы чужой речи, слабое эхо чужих слов слишком уж часто звучали издевательски.
Грузная Людмила с пыльными от переезда и седины волосами стояла в дверях, Илья, не по годам рослый, прижимался к матери.
— Ты в следующий раз, как приедешь, полки не повесишь? — спросила Людмила.
— Не повесишь, не повесишь, — повторил сын.
Оля — луковка желто-розовая, со смехом, спрятанным в уголках рта, в ямках детских щек… Автобусом до «Новослободской», оттуда до «Рижской», и — в электричку до Нахабина, потом набитым автобусом до дачи, где радость, щенячий визг, снежки, лыжи, горка, говорливый Костя… И пишущая машинка стрекочет по ночам, и чулан с красным фонарем и черными кюветами, и Оля хохочет, и щекот, и жар, и любовь…
Илья приезжал к сыну Илье изредка. С книжками и конструкторами. И каждый раз было все то же, но только хуже: полная молчаливая Людмила, иссохшая злая няня Клава и Илья, который тянулся кудрявой головой вверх, но телом был узенький, хлипкий, как растение, которое вырастает в большой тесноте. Печально повторял окончания чужих фраз. Магнитофон был любимой его игрушкой, он слушал стихи, и память его легко вбирала в себя строчки. Что он в них понимал, никому не известно. Но если его просили, он мог часами декламировать стихи, копируя манеру радиоисполнителя. Читать книги так и не научился. Зато считал в уме очень быстро. Охотно слушал музыку и любил передачи про животных. Живую кошку, которая жила в доме, боялся. Боялся и собак, которых видел на улице, когда гулял с няней.
Илья с Людой развелся. Вскоре после развода умерла няня, а спустя полгода, что соответствовало двум визитам Ильи к сыну, Люда попросила дать разрешение на вывоз ребенка в Израиль. Это было то самое время, когда все окружение Ильи было озабочено выездом за границу, но в устах Люды эта просьба его ошеломила.
— Люда, какой Израиль? При чем тут Израиль?
— Мама моя покойная, знаешь, была необыкновенно педантична, ни одной бумажки у нее не пропадало. Я уже после ее смерти нашла свидетельство о смерти моей бабушки по материнской линии, она в 1922 году умерла. Барбанель ее фамилия. Алта Пинхасовна Барбанель. Известный раввинский род. У мамы все бумаги сохранились — и свидетельство о рождении бабушки, и запись о перемене фамилии при браке. Бабушка стала Китаева после замужества. Ну и мамины все бумаги сохранились… Когда евреи слышат фамилию Барбанель, качают головами и языками цокают от радости. — Она говорила, как всегда, вялым голосом, без всякого выражения, и только лицо было милое, со всегдашней полуулыбкой. Славянское-преславянское лицо, круглоротое и круглобровое…
— Какой еще Барбанель? Откуда?
— Искаженная фамилия, вообще-то Абрабанель, я теперь узнала, сефардский очень известный род, там ученые всякие, талмудисты.
— Ни фига себе! В голову не укладывается! Ты — и Израиль! Бред какой-то! Что ты там делать будешь? — Илью просто заколотило от неожиданности.
— Да мне все равно, может, и не в Израиль. Приглашение я получила из Израиля, а куда попаду, не знаю. Может, в Америку…
— Ну, хорошо, хорошо… Только объясни мне, как это тебе в голову пришло, черт-те что! — никак не мог успокоиться Илья.
— Чего же тут не понять, Илья? Мне к пятидесяти, сердце плохое. Моя мама в сорок три от сердечного приступа умерла. Мне Илюшу оставить не на кого. А там лечебные учреждения хорошие, его возьмут, он не погибнет. А здесь — что он без меня?
В комнату вошел Илюша маленький. Ростом он был несуразно велик и деформирован болезнью: руки с длиннющими кистями и тонкими вислыми пальцами, маленький подбородок и впалые глаза… бедный, бедный… Кроме аутизма, нашли и еще какой-то редкий синдром, но и аутизма вполне хватило бы…
— …без меня, без меня, без меня… — угрожающе произнес он.
Люда усадила его и сунула в руки яблоко.
— Хорошие клиники, человеческое обращение, уход, — у нас нет другого выхода, — очень спокойно говорила Люда.
— Нет другого выхода, — с нелепо-радостной интонацией повторил Илюша.
Илья в тот же вечер подписал приготовленную Людмилой бумагу: он не возражал.
Сына он видел еще несколько раз. Последний — когда провожал их в аэропорт.
Оля сунула Илье перед отъездом в аэропорт огромного плюшевого медведя:
— Отдай своему мальчику, пусть на память будет.
— Больно здоров мишка, — взвесил Илья игрушку на руке.
— Так и мальчишка, как я понимаю, здоровенный.
Илья никогда не дарил сыну мягких игрушек, да и вышел по возрасту парень из «плюшей». Илюша маленький засиял при виде медведя, содрал с него целлофановую обертку и прижался совсем уже взрослым лицом к мягкому брюху.
— Это Оля с Костей велели передать тебе медведика, — бормотал Илья, сам себе удивляясь: с чего это он назвал имена своих домашних, которых и не знал его неудачный сынок.
— Медведик, медведик, — радовался Илюша, а Илья-отец морщился от неловкости и боли.
Илья уже подъезжал к станции метро «Речной вокзал», когда Людмила попросила стюардессу пересадить их в первый ряд, где для длиннющих ног мальчика было побольше места, и Илюша устраивался, повторяя последние слова, услышанные им на родине:
— … хороший билет, хороший билет…
В Америке Людмила долго мучилась, прежде чем решилась сдать Илюшу в лечебницу. Может, и не сдала бы, но с годами он стал агрессивным, она не могла с ним справиться. Два года его продержали в лечебнице, а потом перевели в заведение, что-то вроде интерната, где он проходил специальные курсы, по окончании которых мог делать какую-то несложную работу.
Люда навещала его по воскресеньям. Привозила ему белый шоколад, который он очень любил, и большие бутылки с колой. Дорога в один конец занимала больше двух часов — от Брайтон-Бич, где ее поселили в доме для бедных, до отдаленной части Квинса. Шесть лет каждое воскресенье навещала она сына и каждый раз, возвращаясь домой, валилась на двуспальную кровать, выданную в благотворительной «Найане», закрывала глаза и благодарила Бога, что мальчик сыт, в тепле, обеспечен медицинской помощью. В одно из воскресений она не приехала, но он, кажется, этого и не заметил.
Программа по социализации шла очень хорошо, и еще через год он получил первую в жизни работу: два раза в неделю продавал газеты в киоске в одной остановке от заведения. За работу он получал десять долларов и шел в маленький магазинчик, где его знали, покупал себе гостинцы — плитку белого шоколада, бутылку кока-колы и лотерейный билет. Он показывал пальцем на плитку, и черный продавец говорил:
— Шоколад?
— Шоколад, шоколад, — отвечал Илья.
Потом указывал на лотерейный билет, и продавец протягивал ему запечатанную бумажку со словами:
— Вот тебе хороший билет…
— Хороший билет, — повторял он.
Жизнь его наладилась совершенно, у него были друзья, с которыми он проводил время перед телевизором. С тех пор как Люда перестала приезжать, русские слова как будто вовсе ушли из его странной памяти, которая держала много стихов, ставших с течением лет иностранными.
В последнюю неделю мая Илья отработал в киоске до полудня, получил свою десятку и купил плитку шоколада, колу и лотерейный билет. Билет оказался более чем хороший — он принес главный выигрыш, 4 миллиона 200 тысяч долларов.
Интернат, в котором он жил, был рассчитан на бедных. Миллионеров в нем не держали.
Миллионер же плохо представлял себе сложную задачу, которая перед ним возникла. По закону Илья считался недееспособным. Мать его умерла. Пытались разыскать отца, Илью Брянского. После долгой переписки и многочисленных запросов установили, что отец проживает в Мюнхене. Когда нашли его следы, оказалось, что он недавно умер. Адвокаты разыскали сводного брата Константина.
Костю вызвали, и он полетел в Нью-Йорк. Он смутно помнил, что у Ильи был сын от первого брака. Врачи предупредили его о болезни новоявленного брата. При виде его Костя ужаснулся, но виду не подал. Он похлопал тощего гиганта по плечу и сказал по-русски:
— Привет, брат.
Тот расцвел улыбкой:
— Привет, брат!
Костя вытащил из бумажника фотографию Ильи:
— Вот Илья.
Илья взял в руки фотографию и озарился:
— Илья.
— Я — Костя.
Илья немного посоображал и произнес с напряжением:
— Медведик.
Но Костя ничего не знал о последнем Олином подарке.
Илья еще несколько раз повторил «медведика», а потом стал читать стихотворение…
- Когда за городом, задумчив, я брожу
- и на публичное кладбище захожу,
- решетки, столбики, нарядные гробницы…
Дочитал до конца.
— Еще, — попросил Костя.
И Илья, сморщив лоб, изловил в своей больной, но необъятной памяти, следующее.
Он читал долго — все любимые стихи покойного Ильи, с той самой интонацией и похожим голосом.
Костя смотрел на этого больного немолодого уже мальчика, вспоминал отчима — остроумного, живого, талантливого, — одновременно прикидывал, что надо будет сейчас найти аналогичное заведение, не социальное, а коммерческое, для богатых, оформить опекунство, разобраться со счетами, заново наладить эту диковинную жизнь.
Потом Костя повел свежеобретенного брата в кафе. Тот показал пальцем на большой ягодный торт.
— Тебе кусок или целый? — спросил Костя.
— Целый, — ответил Илья, застенчиво опустив глаза.
Костя немного подумал, и спросил еще раз:
— Тебе целый торт или одну порцию?
Илья еще более застенчиво устремился взором на свои кроссовки немыслимо огромного размера и промолчал.
— Понятно. Есть своя логика, — кивнул Костя.
— Логика, — радостно подтвердил Илья и сел за столик, как послушный ребенок.
Официантка принесла торт и колу для Ильи и минеральную со льдом для Кости. Была только середина июня, но нью-йоркская жара уже началась, и кондиционера, конечно, не было в этом захудалом месте.
Илья с серьезным детским наслаждением ел пластмассовой вилочкой кусок за куском. Голова у Ильи была точь-в-точь как у покойного отца — темно-каштановая, кудрявая, с ранней проседью. Да и по лицу гуляло сходство, но несколько карикатурное.
Костя вспомнил с кинематографической отчетливостью, как сидят они втроем — он, восьмилетний, — на берегу озера — Валдай? Ильмень? Плещеево? — на закате солнца возле костра, отчим длинными грязными пальцами очищает картошку от припекшейся золы, а по озеру ходят полосы света, розовые, малиновые, желтые от заходящего солнца, и мама, сияя рыжиной в волосах, смеется, и отчим смеется, и он, Костя, счастлив и любит их навеки.
Бедный Илья! Бедная Оля!
Бедный кролик
Доктор Дмитрий Степанович Дулин, когда было время задуматься о своей жизни, расценивал ее как удачную, даже как незаслуженно удачную. Но об отвлеченных вещах он редко думал. Зато по субботам, когда на глазах подпрыгивающей от нетерпения дочки Мариночки за уши вытаскивал из портфеля запеленутого в старое полотенце крольчонка, чувствовал благодарное довольство. Дочка была похожа на крольчонка, мягонькая, серенькая, с устроенной немного по-кроличьи верхней губой, а там, где у кролика торчали белесые ушки, у нее свисали голубые ленточки. Жаль, снимочка не сделал: Маринка с кроликом…
Дмитрий Степанович отдавал крольчонка дочке, а полотенце вместе с сухими шариками жене Нине, та вытряхивала их в мусорное ведро, а полотенце относила в ванную стирать. Это было специальное кроличье полотенце, в котором крольчонок путешествовал каждую субботу домой и каждый понедельник обратно, в лабораторию.
Крольчонок всякий раз бывал другой — первый попавшийся, из клетки, где жили подопытные животные. Брал Дулин, конечно, не из тех, которые были в эксперименте, а из «контрольных». Экспериментальные тоже были более или менее здоровые, но рождены были от крольчих-алкоголичек, которым доктор вливал разведенный спирт с их юного возраста, потом спаривал с кроликом-алкоголиком и наблюдал потомство. Такая была у него диссертационная тема — влияние алкоголя на потомство кроликов. Потому что о влиянии алкоголя на потомство человека наука знала уже очень хорошо. Лаборантка Маша Вершкова, половиной ставки которой Дулин располагал, была именно из этой части народонаселения: глазные яблоки часто и меленько дрожали — нистагм, и пальчики тряслись — тремор. И родилась она семимесячной, от пьющих родителей, но — повезло! — умственно не поврежденной. Что было свидетельством того, что и у пьяниц бывают удачи.
Мариночке никогда ничего такого не угрожало — отец ее алкоголя просто не выносил, даже пива не пил, также и не курил, вел жизнь здоровую во всех отношениях. Мать выпивала рюмки три в год, по праздничным случаям.
Мариночка тащила субботнего крольчонка в свой угол, укладывала на кукольную кроватку, умывала понарошку, тискала, целовала и кормила морковкой.
Дмитрий Степанович был родом деревенский, привычный к животным, и оставался деревенским до тех пор, пока город Подольск, разрастаясь, не проглотил их некрасивой деревеньки и деревенская жизнь постепенно не разрушилась. Впрочем, городская жизнь для Дулина не сразу началась. Пятиэтажки строили по причудливому плану, и по этому плану ломали не все крестьянские дворы подряд, а только те, которые занимали место будущих новостроек. Дом Дулиных тогда не сломали, но хозяйство рухнуло, остались только куры, кошка да собака, а козу и поросенка отдали бабушкиной сестре в дальнюю деревню.
Корову к этому времени уже не держали.
Колодец, что был рядом с домом, почему-то засыпали, а водопровод не подвели. Ходили на колонку за полтора километра. Так и жил мальчик Митя между городом и деревней: ходил в деревенской нищенской одежде в городскую школу, учился неважно, был презренным сельским меньшинством среди городского большинства.
Мать наказывала за плохую учебу: когда были силы, била худыми кулачками куда придется и орала высоким пресекающимся голосом, пока сама не падала. Много лет спустя, когда Митя стал врачом, он поставил ей задним числом диагноз — истерия. И щитовидочка была заинтересована. Но когда Митя научился ставить диагнозы, матери уже на свете не было.
Доставалось Мите и от дяди Коли — тот, правда, не бил, а таскал за ухо, ловко зажимая верхушку между большим и указательным пальцами. Обидно было, что мать ему позволяла. А бабушка Митю защищала. Дядя Коля, высохший от пьянства деревенский мужик, ко многим одиночкам захаживал, бабушка называла его «прихажер», презирала, но побаивалась. Они почти одновременно умерли — дядя Коля от запоя, а бабушка от старости лет. Мать была, в отличие от Мити, полная неудачница: когда пришел черед ломать ее избу, а ей получать квартиру в новом доме — райским селением казалась ей эта однокомнатная квартира с газом и горячей водой, — тут она упала и умерла, мгновенно, как и ее мать. Достигла положенных ей райских селений, но не на основании всех собранных уже справок — что вдова солдата, что инвалид незначительной третьей группы, что ударник коммунистического труда, — а просто так. Ни за что. Выходило, напрасно Митя мечтал, что перевезет мать в Москву, сделав умный обмен новой, так и не полученной квартиры в Подольске на комнату в Москве. Так, по своей неудачливости, мать освободила сына от хлопот обмена и переезда.
Он всегда жалел ее, беднягу. Но рано, очень рано принял решение, что жить как мать он не будет, уйдет, как-нибудь да выберется, отрежет от себя всю постылую деревенщину. После семилетки пошел в фельдшерское училище. Там мальчиков было мало, его ценили, а он старался. Потом армия, где служил он уже по специальности, в медсанчасти. А после армии в Подольске не остался, поступил в Москве в мединститут, куда взяли по льготе, без конкурса. Вот с тех пор он и стал по-настоящему городским человеком.
От всего его деревенского детства осталась у Дулина привычка общения с животными. Он даже скучал немного по кошке в доме и субботнего крольчонка Маринке приносил, потому что чувствовал приятность животного тепла в руках человека. Но Нина животных в доме держать не хотела, даже кошку. А чего Нина не хотела, того Дулин и не делал.
Они поженились еще на третьем курсе мединститута. Дмитрий был старше Нины на шесть лет и прельстил ее, замухрышку, большим ростом, серьезностью и скромностью. Она ни в чем не обманулась, а уж он — тем более. Митя всем был обязан своей жене: и пропиской московской, и ординатурой по неврологии, а потом и аспирантурой. Он сам о таком и не мечтал, но Нина нашла через знакомых это место в научном институте и направила мужа. Сама же работала участковым врачом в поликлинике, за что и дали им квартиру без очереди.
Дулин сначала аспирантуре сопротивлялся — понять не мог, зачем она? Уж если на то пошло, пусть бы сама поступала и защищала научную диссертацию. Но Нина решила иначе. Поскольку институт, в который он поступал в аспирантуру, был психиатрический, а Дулин специализировался по неврологии, то пришлось ему подобразовываться в психиатрии — учебники проконспектировал и сдал вступительный экзамен. Назначили ему тему по алкоголизму — он все изучил, что мог по тем временам: про изменения психики, поведенческие реакции алкоголиков, про делирий и другие интересные вещи.
Три года Мариночка играла с приходящими кроликами, пока Дулин поил своих кроликов разведенным спиртом, вливая его через воронку, потому что добровольно принимать алкоголь подопытные отказывались. Потом Дулин защитил диссертацию и стал младшим научным сотрудником. Крольчат в дом больше не носил, но Марина теперь иногда ходила с отцом на экскурсию в институтский виварий: там были и кролики, и белые крысы, и кошки-собаки. Даже обезьяны одно время жили.
Когда Дулин заканчивал диссертацию, на него вдруг напала неуверенность: результаты были точно такие, каких и ожидали, и никакого, решительно никакого открытия в работе не содержалось. Заведующий лабораторией Карпов, он же и руководитель, его успокаивал:
— Требовательность к себе — замечательное качество ученого. Уверяю вас, можно всю жизнь достойно прожить в науке, не совершая никаких открытий. Мы — рабочие лошади науки, именно мы ее двигаем, а вовсе не те, кто совершает открытия, нередко даже сомнительные. А гении… Знаем мы этих гениев!
Дулин прекрасно понимал, на кого заведующий намекает. На Винберга. Дулин сблизился с ним случайно, благодаря пожару, случившемуся в лаборатории Винберга. Два года тому назад, когда Дулин сидел один на всем этаже, обсчитывал свои цифры, там загорелась проводка. Он-то и обнаружил пожар чутким носом, вызвал пожарную команду и еще до приезда пожарных успел отключить щиток и все сам загасить. И пожарных в лабораторию уже не впустил, так как понимал, что от них могут произойти только всякие беды и кражи. Решительно поговорил с пожарным начальником, дал ему все осмотреть и подписал протокол. Винберг оценил. С тех пор Дулин к нему и захаживал.
Вот он-то, Винберг, и был настоящим профессором, блестящего образования. И престранный: любил поговорить о науке. Хлебом не корми, задай только вопрос, и он полную лекцию прочитает. Дулин, по своему скромному положению и интеллектуальной невинности, прежде никак не мог рассчитывать на общение с известной всем звездой. Но пожарный эпизод дал Дулину право заходить вечерами к Винбергу «на чаек».
От него доктор Дулин услышал такое, что в советских учебниках не написано: и про доктора Фрейда, и про архетип, и про психологию толпы. Сам Винберг занимался геронтологией, какими-то старческими психозами, но знал все подряд, и на все у него была интереснейшая теория. В том числе и на алкоголизм.
Был Винберг для многих подозрительным, бежал из Германии от фашистов в СССР еще до войны. В России арестовали его через месяц, а потом сохраняли от фашистов чуть не двадцать лет в лагерях, а после смерти Сталина реабилитировали — взят был по ошибке, как оказалось. Он вышел и быстро-быстро, за несколько лет занял свое законное место — не в карьерном, конечно, смысле, а в научном. Столько лет провел в лагерях! Казалось бы, что он там, врачом в «больничке», мог как ученый наработать, а оказался не то что вровень с современной наукой, а как будто даже и впереди: две монографии сразу написал, и присудили ему докторскую без защиты. Со всей страны психиатры ездили к нему на консультации. Авторитет непререкаемый. Но не для всех. Ненавистников тоже было достаточно. Не всем нравилось, что этот чужак из чужаков, мало того что еврей, еще и немец, развивал свои баснословные учения и держался с таким европейским самоуважением, которого почти и не водилось в отечественных широтах.
— Дмитрий Степанович! — обращался он к Дулину со свирепым немецким акцентом, но безукоризненно правильно грамматически. — Никто еще не исследовал социальной природы алкоголизма и особенностей социального поведения алкоголика. Нет лучше места, чем Россия, чтобы это исследовать. Здесь целая страна является плацдармом для лабораторного исследования. Но где статистика взаимосвязи потребления алкоголя и агрессивных реакций? Нет такой статистики. Был бы я моложе, непременно занялся бы этой темой. Работайте, здесь интереснейшие перспективы! Что же касается соматики, это не так интересно. Здесь имеет смысл работать на генетическом уровне. Но кролики ваши — плохой объект. Это не дрозофила! С другой стороны, алкогольдегидрогеназа — фермент простой, у всех один и тот же. Нет, нет, я на вашем месте занялся бы алкогольной агрессией.
Но Дулин никакой алкогольной агрессии не наблюдал. Пьяненькие кролики сначала тряслись мелким трясом, потом засыпали. Аппетит у них снижался, вес тоже, но они оставались мирными тварями: не кусались, на людей не бросались. Словом, никаких протестных действий. Более того, главный кроль, отец этого алкоголического гарема, вопреки рассуждениям профессора, не только не становился более агрессивным, но, напротив, терял знаменитую кроличью потенцию. Каждые три месяца на место прежнего производителя назначали какого-нибудь его подросшего сына.
Когда же Дулин осмелился профессору Винбергу сказать, что его опыты никак не подтверждают агрессивности алкоголиков, профессор только засмеялся:
— Дмитрий Степанович, а высшая нервная деятельность? Человек все-таки высокоорганизованное существо, не кролик! К тому же обращаю ваше внимание на то, что кролики вегетарианцы, а люди — скорее, хищники. По способу питания люди ближе всего к медведям, которые всеядны! Обратите внимание: ни один вид не может в этом отношении — я имею в виду разнообразие питания — сравниться с Homo sapiens. Северные народы по типу питания плотоядны, в то время как в Индии, например, мы встречаем огромные популяции исключительно вегетарианского питания. Ни те, ни другие, насколько можно оценить без научно поставленного эксперимента, не обладают высокой степенью агрессивности.
Профессор радовался своим собственным рассуждениям, растирал чистые шелушащиеся ладони медицинским движением, как перед осмотром пациента:
— Забавно, забавно! Надо начинать с биохимии, я думаю. Der Mensch ist was er isst. И пьет! — и ни с того ни с сего смеялся, показывая свои сплошь металлические зубы, поставленные еще в Воркуте местным стоматологом, уроженцем Вены. Дулин не то вспомнил, не то сам догадался — учил в школе немецкий: человек есть то, что он ест.
Винберг все на свете знал, куда ни копни: и антропологию, и латынь, и самую генетику. А вот чтобы привести зубы в порядок, времени у него не было. Он торопился жить, читать, думать, торопился записать все свои причудливые и крайне несвоевременные мысли, пришедшие ему в голову в северных широтах.
Он очень многое рассказывал всем подряд, в том числе и Дулину. Но кое-что от посторонних удерживал.
— Детская страна! — говорил он своей жене, обретенной в лагерной больничке. — Детская страна! Культура блокирует природные реакции у взрослых, но не у детей. А когда культуры нет, блокировка отсутствует. Есть культ отца, послушание, и одновременно неуправляемая детская агрессия.
Вера Самуиловна отмахивалась пренебрежительно — она была единственной, кто мог себе позволить такую отмашку:
— Эдвин, ты говоришь глупость! А немцы? Самая культурная страна Европы, нет? Почему у них культура не блокировала примитивные реакции?
Вера Самуиловна нападала на мужа азартно и молодо, а Эдвин Яковлевич привычно теребил нос, как будто именно в этом органе сосредотачивался его несравненный интеллект:
— Другой механизм сработал, Вера, другой механизм. Das ist klar. Selbstverstaendlich. Это можно обосновать. Уровни осознания, вот о чем надо думать!
И он надолго замолкал, чтобы дать теоретическое обоснование. Детей у них не было. В свое время в лагере родился мальчик, но тогда не удалось младенца сохранить. И вся их мощь, весь заряд случайно выжившего таланта направлены были на профессию. Вера Самуиловна была помешана на своей эндокринологии, работала в лаборатории, где синтезировала искусственные гормоны, с которыми связывала чуть ли не бессмертие человечества. Эдвин Яковлевич жену не одобрял. Бессмертие его совершенно не увлекало. Здесь конфликтным образом смыкались их научные интересы — геронтология категорически не желала встречи с бессмертием. В этом Винберг был уверен. Но Верочка веровала в гормоны.
Было о чем супругам поговорить поздними вечерами. Это и было их счастье: после утраты всего, чем жили они до войны — консерватории, библиотеки, науки и литературы, — после лагерных бараков, больнички, лечения чего угодно без ничего, сидеть в ночной тишине своей собственной крошечной квартиры, заставленной и заваленной книгами и пластинками, в тепле, в сытости, вдвоем.
Дулин, как и прежде, занимался алкоголизмом, теперь не только с научной, но и с прикладной стороны. В отделении шла лечебная работа, хотя особенно хороших результатов не получали. Зарплата была хорошая — сто семьдесят плюс надбавка.
Три года прошло — еще раз повезло, на этот раз без Нининого содействия. Одна старая сотрудница вышла на пенсию, освободив место старшего научного, и неожиданно ушел самый перспективный, докторскую диссертацию уже подготовивший врач Рузаев — соблазнился заведовать кафедрой в Казанском мединституте.
Объявили конкурс сразу на два места. Дулину и в голову не приходило претендовать, но заведующий отделением сказал: собирайте, Дмитрий Степанович, документы. И осенью семьдесят второго Дулина провели в старшие научные! Это была ошеломляющая карьера — всю зиму Дулин привыкал. По утрам, когда брился в ванной, сгребая безопасной бритвой пенный бугорок бурой щетины со щек к подбородку, смотрел на себя в зеркало и говорил про себя: Дмитрий Степанович Дулин, старший научный сотрудник. Он-то полагал, что ему лет десять-пятнадцать расти до такого положения, а оно — вот оно!
И гордость, и неуверенность сразу.
Дела в отделении шли хорошо. Теперь у него была новая тема, по алкогольному параноиду, две палаты больных, которых он изучал и лечил. Одержимые бредом ревности, распаленные галлюцинациями, измученные манией преследования, возбужденные или, наоборот, подавленные, утратившие достоинство, буйные или распластанные нейролептиками, они мало походили на теплоухих мягких кроликов. Чего-чего, а агрессии было хоть отбавляй. Некоторых привязывали к кровати, других усмиряли препаратами, но случалось, что буйный больной пробивал стекло, чтобы выйти из своей болезни прямо наружу, к Господу Богу. Всего-то два окна незарешеченных на все отделение было, у заведующего в кабинете и маленькое, в процедурной. В начале весны оттуда и сиганул один такой больной. Хорошо, этаж невысокий — второй. Но руку сломал. Неприятность для всех огромная — больной был заслуженный артист, всенародно любимый. И делирий был у него тоже глубоко народный: гонялись за ним маленькие человечки, он их всё с себя снимал, с брезгливым страхом стряхивал.
Человечков Дулин отогнал с помощью амитала и галоперидола.
Потом артист поправился, и приехала за ним красавица жена, тоже артистка. Подарила медсестрам шесть коробок шоколадных конфет, а заведующему отделением портрет пациента — он висел теперь у него в кабинете с размашистой подписью. Непьющему Дулину — бутылку коньяка. Дулин был очень доволен — не коньяку, конечно, а тому, что скандала не вышло: пришел-то артист целенький, а уходил в гипсе. Недосмотрели.
Параноиков своих Дулин мало сказать не любил — презирал. Всех считал пропащими, а самый алкоголизм в глубине души рассматривал не как настоящую болезнь, а как обыкновенную человеческую распущенность. Жена Нина ходила с утра до ночи по участкам, слушала со стетоскопом, умела и живот пальпировать, выписывала бюллетени и рецепты, и была это настоящая врачебная работа. Здесь же, подозревал Дулин, была научная «тень на плетень». Но в целом он был работой доволен. Хорошая работа.
Однажды посреди лета, в разгар отпусков, Дулина вызвали в дирекцию — секретарша Элеонора Викторовна, зрелая красавица в черном цвете волос, с богатыми неподвижными бровями и необъятной властью в пределах института, кивнула ему и улыбнулась кисленько:
— Дмитрий Степанович, просят консультацию дать, по вашей части, в спецотделении.
Дулин занервничал. Просьба была на самом деле распоряжением. В спецотделении содержали «политических», это все знали, и работали там все люди с «допуском», особые, молчаливые. Да никто со стороны и не хотел туда лезть. Обычно, если нужна была консультация, туда приглашали заведующего Карпова, но тут он как раз был в отпуске. Уехал на конференцию в Ленинград и заслуженный Кульченко, старший научный сотрудник. Дулин попытался отбиться:
— Элеонора Викторовна! Я с удовольствием, конечно. Но не могу. У меня допуска нет.
Элеонора Викторовна поправила волосы — модный пучок, увеличивающий голову вверх и взад, — и улыбнулась:
— Да сделали вам допуск. Вот здесь распишитесь.
И протянула ему малахитовую ручку, торчащую из малахитовой подставки. Дулин взял ручку, все еще сопротивляясь:
— Да я никогда не участвовал в экспертизах. Карпов вернется через две недели, а Кульченко вообще в следующий понедельник выходит на работу.
Рот Элеоноры Викторовны изобразил недовольство:
— А вы разве не знаете, что любой дипломированный специалист может быть привлечен к экспертизе? Обязан производить экспертизу! Таково наше законодательство. А тут вообще речь идет о консультации. — Элеонора сделала паузу, которая длилась ровно столько времени, чтобы Дулин понял, что сопротивление бесполезно. Поставил подпись на бумаге…
— В четверг, пожалуйста, к 11 часам, в спецотделение. Пропуск вам закажут. А сейчас с вами хотел побеседовать заведующий спецотделением профессор Дымшиц. Вы подождите его здесь, он сейчас выйдет от директора.
— Конечно, конечно, — кивнул Дулин, предчувствуя недоброе.
Сел на стул, приметив его тревожную багровую обивку. Он уже слышал про этого Дымшица что-то дурное, но сейчас не мог вспомнить, что именно.
Ожидал довольно долго. Наконец дверь открылась, из директорского кабинета вышел толстый коротышка с заемом серых тощих волос справа налево, через белую лысину.
— Ефим Семенович, доктор Дулин вас ожидает, вы хотели его видеть, — поднялась Элеонора навстречу Дымшицу.
На голову выше, старая красавица склонилась, а он был перед ней гном гномом, но от нее исходил страх, а от него угроза. Тревога у Дулина все нарастала: чего-то он не понимал в происходящем, как будто присутствовал на спектакле, который играли на иностранном языке.
Никто не рассказывал Дулину, что Элеонора до войны была за Дымшицем замужем, перед войной ушла от него к совсем молодому человеку, пропавшему без вести, а в сорок шестом вернулась к Дымшицу и, прожив с ним недолго, снова его бросила. Так что Дулин оказался случайным наблюдателем запутанных и странных отношений.
Дымшиц перевел взгляд на Дулина:
— Да, да, хорошо. Вы когда-нибудь принимали участие в психиатрической экспертизе?
Дулин проводил экспертизы сотни раз, по алкоголикам, разумеется. Но вдруг смешался, испугался неизвестно чего так, что вспотел подмышками, спиной и грудью.
— Да, конечно.
Гном оценивал его. Оценка была невысока:
— Я хотел с вами предварительно переговорить, но сейчас я спешу. Вы приходите в четверг к половине одиннадцатого и, прежде чем осмотреть пациента, загляните ко мне.
И Дымшиц пошел по лестнице наверх, на третий этаж, громко стуча маленькими полуботинками.
«В „Детском мире“ небось обувь покупает», — раздраженно подумал Дулин. И не ошибся. Тридцать шестой размер ноги был у профессора…
В восьмом часу вечера, выходя из института, вспотевший, обсохший и окруженный облаком боязливого пота Дулин столкнулся с Винбергом. Прямой, тощий, в потрепанном сером костюме с шелковым галстуком в полоску, в одеколонной дымке — элегантный, как всегда…
«Не в галстуке дело, конечно, — отметил про себя Дулин. — Природа такая. Сушеный, как сухарь».
Сам Дулин раздался последние два-три года: ел много — за мать, за бабку, за весь тот детский голод, который засел в каких-то глубинах, ведомых психиатрам.
Пошли вместе к метро.
— Вызвали на консультацию в спецотделение, — сразу же доложил Дулин.
Винберг поднял подстриженную бровь:
— Вот как? Доверие оказали. А вы член партии, Дмитрий Степанович?
— Конечно. Я же в армии после училища служил. Тогда всех принимали.
— Да, да, партийная дисциплина. Надо идти, — хмыкнул Винберг.
— Обычно Карпов… он в отпуске. — Дулин как будто оправдывался и сам себе удивлялся. — Видно, там у них алкоголик, или просто так, алкогольный эпизод в деле. Да в нашей стране, Эдвин Яковлевич, все пьют: и артисты, и академики, и космонавты. У нас недавно… — И Дулин рассказал про народного артиста.
— Я в лагере сидел с одним талантливейшим литератором. Исключительно образованный человек — Рильке в тюрьме переводил, чтобы не деградировать. Впрочем, вы вряд ли знаете Рильке. Здесь, в институте Сербского, этот самый литератор еще в начале тридцатых проходил экспертизу — мечтал, чтобы признали алкоголиком. Признали. И его тогда не посадили, а отправили на лечение. Три года провел в лечебнице. Бога благословлял и книги читал. Но потом все-таки посадили. Да, Рильке, Рильке… Вот вам парадоксы времени: до войны в психбольнице от преследований скрывались, а ныне именно в психбольницы…
— Меня Дымшиц вызвал, поговорить… — тихо пожаловался Дулин.
Но Винберг как будто не расслышал. Вдруг резко развернулся:
— Простите, мне в книжный надо зайти, я совсем забыл! Всего доброго!
И зашагал в сторону Метростроевской.
Винберг был в замешательстве. Этот решительный молодой человек, в одиночку справившийся с пожаром, недалекий, малоразвитый, но добросовестный и по-своему порядочный, кажется, хотел получить у него совет.
Что можно сказать простодушному и добросовестному дураку? Здесь и умному не выкрутиться. Винберг прошел мимо книжного магазина. Не нужно было ему туда.
Его отец, знаменитый берлинский адвокат Якоб Винберг, после прихода Гитлера к власти сказал: «Как адвокат я всегда ищу выхода, и я знаю, что в каждом деле есть как минимум один выход. Чаще их бывает несколько. Эта власть не дает ни одного». Якоб Винберг умер, так и не узнав, насколько он был прав. «Здешняя власть тоже не дает человеку выхода. Ни одного. Она всегда переигрывает тех, в ком есть честь и совесть», — печально размышлял Винберг.
Спецотделение находилось в другом здании, в трех троллейбусных остановках. В четверг, в половине одиннадцатого Дулин позвонил в суровую дверь. Открыла привратница в белом халате:
— Вы к кому?
Дулин показал пропуск:
— На консультацию. Мне надо к профессору Дымшицу.
— Одну минуточку, — кивнула тетка и захлопнула перед носом дверь. Через несколько минут дверь открыла уже другая женщина, высокая, с прической. Не в халате — в розовом платье.
«Джерси, — заметил Дулин. — Нинка об нем умирает. Неудобно спросить, где брала».
— Мы вас ждем, добрый день, добрый день! — и протянула сильную руку. — Маргарита Глебовна. Я лечащий врач. Вас Ефим Семенович ждет. А потом я покажу вам больного.
Коридор, двери — с виду все как в обычном отделении. Только в коридорах — никого.
Вот двери двойные, тяжелые, с медной табличкой. Кабинет поразил размером и полной стерильностью. На холеной столешнице — ни бумажки, ни пылинки. Гном за столом был на этот раз почти приветлив:
— Прошу вас, Дмитрий Степанович.
Дулин сел за неудобный, посреди комнаты стоящий стол. От заведующего его отделяло море сверкающего паркета. Метра три.
«Как у следователя», — подумал Дулин. Пришлось ему однажды посидеть на таком вот одиноком стуле в районном отделении КГБ. Один его сокурсник что-то отчудил, Дулина вызвали, но неглупые тамошние ребята быстро поняли, что он так далек от всего эдакого, и отпустили.
Дымшицу тоже в разные годы жизни пришлось посидеть на таком же отдаленном стуле. Не понравилось. Но произвело сильное впечатление.
— Итак, — почти не разжимая губ, сказал Дымшиц. — У нас очень интересный больной.
Тут откуда ни возьмись появилась картонная папка. Дымшиц зазывно помахивал ею издали.
«Ишь, играет», — подумал Дулин раздраженно.
— Человек заслуженный. Генерал-майором был, — веско, с нажимом, произнес Дымшиц. — С фронтовой биографией. Два ранения, контузия, обратите внимание. С большими заслугами. С наградами. Все потерял. Поведение неадекватное. Пьющий… Психика определенно нарушена. Завышенная самооценка, бред величия. Там есть заключение амбулаторной комиссии. Я думаю, что они не совсем разобрались. А вы, я надеюсь, разберетесь!
Последние слова он произнес с нажимом, ставя ударение на каждый слог.
Тревога, глубокая, до тошноты, охватила Дулина.
«Хотя чего, чего психую?» — задал себе вопрос Дулин. Но обдумывать времени не было.
— Здесь история болезни, вот — эпикриз. Проект заключения комиссии. Вам для обоснования диагноза предстоит оценить роль алкогольного эпизода. И внести соответствующую запись в историю болезни. — Дымшиц раскрыл папку и стал перебирать вложенные листы: — Имеется еще и прошлая экспертиза, она сделана в амбулаторных условиях. Так, заключение, сделанное в шестьдесят восьмом году. Вызывает у нас сомнения. Мы бы хотели, чтобы вы осмотрели больного и обосновали свое мнение. У нас создалось предварительное впечатление… Ну, словом, посмотрите…
Он подошел к Дулину, тот встал, взял папку.
— Мнение комиссии неблагоприятное… некоторые параноидальные черты. Нет ли здесь алкогольного параноида? Последнее слово за вами, вы специалист. Но есть предварительное мнение. Словом, посмотрите больного. Маргарита Глебовна!
Маргарита Глебовна возникла как из воздуха.
— Есть алкогольные эпизоды? — робко спросил Дулин.