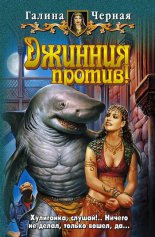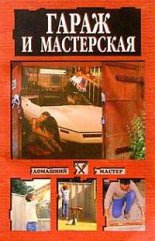История Плавинский Николай
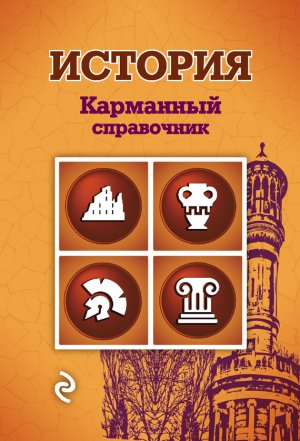
— Считаете ли вы полезным для дела, чтобы этой ночью среди вас был депутат, член комитета, опоясанный трехцветной перевязью?
— Конечно, — ответил он.
— Так вот — я здесь! Располагайте мною! — сказал я
— Мы все пойдем! — подхватил Жюль Фавр.
Достаточно, заявил делегат, если один из нас будет на месте в тот момент, когда ассоциации выступят, затем будут оповещены остальные члены комитета, они присоединятся к первому. Мы условились, что как только ассоциации назначат места предварительных встреч и сборные пункты, Кинг пошлет кого-нибудь известить меня и провести туда, где соберутся члены ассоциаций.
— Меньше чем через час я смогу вам кое-что сообщить, — сказал он, прощаясь со мной.
Не успели делегаты уйти, как явился Матье (от Дромы). Весь бледный, он остановился на пороге и крикнул нам:
— Вы уже не в Париже, у вас уже нет республики. Вы в Неаполе, при короле Бомбе.
Он пришел с бульвара.
Позднее я снова встретился с Матье. Я сказал ему;
— Он хуже короля Бомбы; он — Сатана.
XVIII
Непреложность нравственных законов
Избиение на бульваре Монмартр придает декабрьскому перевороту некоторую оригинальность. Без этой кровавой бойни Второе декабря было бы всего лишь повторением Восемнадцатого брюмера. Резня спасла Луи Бонапарта от плагиата.
До этого он был только подражателем. Булонская треуголка, серый походный сюртук, прирученный орел — все это казалось карикатурным. Люди говорили: «Что за нелепая пародия!» Он вызывал смех; внезапно он вызвал трепет.
Гнусность — вот выход из положения для тех, кто смешон.
Он довел гнусность до предела.
Он завидовал размаху великих преступлений и решил совершить нечто, равное наихудшим из них. Это стремление к чудовищному дает ему право на особое место в зверинце тиранов. Жульничество, силящееся стать вровень со злодейством, маленький Нерон, надувающийся до размеров огромного Ласенера, — таков этот феномен. Искусство для искусства, убийство ради убийства.
Луи Бонапарт создал новый жанр.
Так Луи Бонапарт вступил в область неожиданного. Он вполне проявил себя.
Бывают умы, подобные бездне. Очевидно, Бонапарт давно уже носил в себе эту мысль — убить, чтобы властвовать. Однажды зародившись, страшный замысел завладевает преступником; с этого начинается его злодеяние. Преступление долго живет в нем, расплывчатое, туманное, едва осознанное; души чернеют постепенно. Такие чудовищные дела не могут быть импровизацией; они возникают не вдруг, не сразу; смутные, едва намеченные, они долго развиваются и зреют; круг идей, в котором они всходят, поддерживает в них жизнь; они всегда наготове для подходящего случая, и от них веет ужасом. Мы подчеркиваем — мысль учинить резню, чтобы взойти на престол, с давних пор угнездилась в уме Луи Бонапарта. Его душа допустила ее. Эта мысль копошилась там, как личинка в аквариуме, сливаясь с темными желаниями, сомнениями, хитросплетениями, с неясным образом какого-то небывалого кесарского социализма, мелькавшим там порою, словно гидра в просвете хаоса. Луи Бонапарт и сам вряд ли знал, что эта уродливая мысль живет в нем. Когда возникла надобность в ней, он нашел ее во всеоружии, готовую служить ему. Она созрела в темных недрах его мозга. Пучина таит в себе чудовища.
До страшного дня 4 декабря Луи Бонапарт, возможно, сам еще не знал себя по-настоящему. Те, кто изучал эту любопытную личность, метившую в императоры, не усматривали в ней признаков дикой, бесцельной кровожадности. Луи Бонапарт казался каким-то двойственным существом, сочетавшим ловкость шулера с мечтой об империи; человеком, который, даже став венценосцем, остался бы плутом, который совершил бы отцеубийство так, что люди воскликнули бы: «Какое жульничество!» Полагали, что он ни в чем не сумеет достичь вершины, хотя бы даже вершины позора, а застрянет посередине, повыше мелких мошенников, пониже крупных злодеев. Его считали способным на все, что делают в игорных домах и воровских притонах, только навыворот: в воровском притоне он был бы шулером, а в игорном доме — убийцей.
Резня на бульваре внезапно обнажила перед всеми эту душу; ее увидели такой, какая она была на самом деле. Смешные прозвища — Горлопан, Баденге — исчезли; увидели бандита, увидели подлинного Контрафатто, скрывавшегося под личиной Бонапарта.
Все содрогнулись. Так вот что таил в себе этот человек!
Пытались найти для него оправдание. Эти попытки были обречены на неуспех. Восхвалять Луи Бонапарта нетрудно, ведь восхваляли же Дюпена; но обелить его — дело весьма мудреное. Как быть с 4 декабря, как справиться с этим затруднением? Оправдывать — сложнее, чем воспевать. Труднее действовать губкой, нежели кадилом; панегиристы переворота усердствовали понапрасну. Как это ни печально, сама г-жа Санд эта возвышенная душа, пыталась реабилитировать Луи Бонапарта; но, как бы ни старались, эту цифру — число убитых — смыть нельзя.
Нет! Нет! Здесь ничего нельзя смягчить! Злосчастный Бонапарт! Кровь нацежена, придется ее выпить!
Событие 4 декабря — самый жестокий удар, когда-либо нанесенный — скажем прямо, не одному народу, нет: всему человечеству — озверелым разбойником, с ножом в руке ринувшимся на цивилизацию. Удар был ужасен и сразил Париж. Сразить Париж — значит сразить совесть, разум, свободу человечества. Это значит, что все, достигнутое людьми за многие века, повержено в прах, что светильник правосудия, истины и жизни опрокинут и погашен. Все это совершил Луи Бонапарт в тот день, когда он учинил резню.
Успех негодяя был полным. Второе декабря было проиграно. Четвертое декабря стало спасением для Второго декабря. Герострат, спасающий Иуду. Париж понял, что ужасы еще не исчерпаны и что в поработителе живет убийца. Вот что происходит, когда мошенник крадет порфиру кесаря. Этот человек был ничтожен, что и говорить; но он был страшен. Париж покорился страху, отказался от борьбы, лег наземь и прикинулся мертвым. Удушливым смрадом веет от этих событий. Это преступление не имеет себе равных. Тот, кто по прошествии многих веков, будь он даже Эсхил или Тацит, приподнимет над ним крышку — ощутит зловоние. Париж покорился, Париж отрекся от власти, Париж сдался; в самой неслыханности преступления была его сила; Париж почти что перестал быть Парижем; на другое утро во мраке было слышно, как усмиренный титан стучал зубами от ужаса.
Повторим еще раз — нравственные законы непреложны; даже после 4 декабря Луи Бонапарт остался Наполеоном Малым. Совершив огромное преступление, он от этого не перестал быть карликом. Размеры преступления не прибавляют роста преступнику. Пусть убитых несметное множество — убийца остается все столь же ничтожным.
Как бы там ни было, пигмей одолел колосса; унизительное признание, но от него не уйти.
Вот какой позор становится уделом истории, уже много раз бесчестившей себя.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
ПОБЕДА
I
Ночные события. Улица Тиктонн
Едва Матье произнес слова: «Вы при короле Бомбе», как вошел Шарль Гамбон. В изнеможении опустившись на стул, он прошептал: «Какой ужас!» Следом за ним явился Бансель. Он сказал: «Мы прямо оттуда». Тамбову удалось укрыться в какой-то подворотне. Перед одним только магазином Барбедьена он насчитал тридцать семь трупов. Но что же все это означало? Какую цель преследовало чудовищное повальное истребление? Этого никто не понимал. В резне таилась загадка.
Мы находились в пещере сфинкса.
Явился Лабрус. Нужно было уходить, так как полиция готовилась оцепить дом Дюпона Уайта. С каждой минутой на обычно пустынной улице Монтабор появлялось все больше подозрительных личностей. Какие-то люди внимательно наблюдали за домом № 11. Некоторые из них, по-видимому, сговаривались между собою — это были члены бывшего «Клуба клубов», поддерживавшего благодаря стараниям реакции связь с полицией. Нужно было разойтись как можно скорее. Лабрус сказал нам: «Я только что видел Лонжепье, он бродит поблизости».
Мы расстались. Ушли поодиночке, в разные стороны. Мы не знали, где встретимся снова, да и встретимся ли вообще. Что ожидает, что постигнет всех нас? Этого никто не мог сказать. Все вокруг дышало ужасом.
Я поспешил на бульвары. Я хотел своими глазами увидеть, что происходит.
Я уже рассказал читателю об этих событиях.
Ко мне присоединились Бансель и Версиньи.
Когда, увлеченный людским потоком, в ужасе хлынувшим с бульваров, я снова почти машинально направился к центру города, чей-то голос торопливо шепнул мне на ухо: «Я должен кое-что вам показать». Я узнал этот голос. Со мной говорил Э. П.
Э. П. — драматург, талантливый человек, которого я при Луи-Филиппе избавил от военной службы. Я не встречал его уже лет пять, а теперь столкнулся с ним в этом водовороте. Он говорил со мной так, будто мы виделись вчера. Это — следствие общего смятения. Людям уже не до светских приличий. Разговаривают друг с другом без церемоний, словно во время повального бегства.
Я тотчас отозвался:
— А, это вы? Что вам угодно?
Э. П. ответил:
— Я живу совсем близко, — и прибавил: — Идемте!
Он увлек меня в темную улицу. Где-то стреляли. В конце улицы чернели обломки баррикады.
Я уже упоминал, что со мной были Версиньи и Бансель. Обратясь к ним, Э. П. сказал:
— Пойдемте с нами, господа.
— Что это за улица? — спросил я.
— Улица Тиктонн. Идемте.
Я рассказал этот трагический эпизод в другом месте.[32]
Э. П. остановился перед высоким мрачным домом;
Он открыл незапертую входную дверь, потом другую, и мы вошли в просторную низкую комнату, где горела лампа и было очень тихо.
По-видимому, эта комната прилегала к лавке. В глубине белели две кровати, большая и маленькая, стоявшие рядом; над маленькой висел портрет женщины, а над портретом — веточка освященного букса.
Лампа стояла на камине, в котором едва тлел огонь. Подле лампы на стуле сидела старуха. Подавшись вперед, сгорбившись, как будто ее сломали пополам, она держала на руках что-то, скрытое тенью. Я подошел ближе; на руках у нее был мертвый ребенок.
Несчастная тихо всхлипывала.
Э. П., по-видимому знавший эту семью, слегка коснулся ее плеча и сказал:
— Дайте взглянуть.
Старуха подняла голову, и я увидел на коленях у нее хорошенького мальчика, бледного, полураздетого. На лбу у него алели две раны.
Старуха посмотрела на меня невидящими глазами; говоря сама с собой, она пробормотала:
— Подумать только — сегодня утром он говорил мне «бабушка»!
Э. П. тронул ручку ребенка; она бессильно повисла.
— Семь лет, — сказал мне Э. П.
На полу стоял таз с водой, ребенку обмыли личико; из отверстий на лбу двумя тоненькими струйками сочилась кровь.
В глубине комнаты, возле шкафа, сквозь полуоткрытые дверцы которого виднелось белье, стояла женщина лет сорока, бедно, но опрятно одетая, с красивым строгим лицом.
— Это соседка, — шепнул мне Э. П.
Он объяснил, что в доме живет врач и что врач, осмотрев ребенка, сказал: «Ничего нельзя сделать». Ребенка ранило двумя пулями в голову, когда он перебегал улицу, «чтобы где-нибудь укрыться». Его принесли домой, к бабушке, у которой «он один на свете».
Портрет, висевший над кроваткой, изображал его покойную мать.
Глаза ребенка были полуоткрыты. Они смотрели таинственным взглядом мертвецов, переставших видеть реальный мир и созерцающих бесконечность. Время от времени старуха сквозь всхлипывания восклицала:
— И господь допускает такое! Мыслимое ли это дело! Ах, разбойники!
Вдруг она крикнула:
— Так вот оно какое, правительство!
— Да, — ответил я.
Тем временем мы раздели ребенка. В кармане у него был волчок. Головка никла то на одно, то на другое плечо. Я поддержал ее и поцеловал мальчика в лоб. Версиньи и Бансель сняли с него чулки. Бабушка встрепенулась.
— Не сделайте ему больно, — попросила она и, обхватив старческими руками окоченевшие белые ножонки, пыталась отогреть их.
Когда мы обнажили жалкое маленькое тельце, пришлось подумать о саване. Из шкафа вынули простыню.
Тут бабушка заплакала навзрыд. Она кричала: «Верните мне его!» Она выпрямилась и вдруг, обведя нас взглядом, стала говорить грозные слова, путая в своей бессвязной речи Бонапарта, и бога, и внука, и школу, куда он ходил, и свою умершую дочь и горько упрекая нас. Обезумевшая, вся бледная, с блуждающими глазами, она больше, чем мертвое дитя, походила на призрак.
Потом она опять закрыла лицо руками, низко склонилась над ребенком и зарыдала горше прежнего.
Женщина со строгим лицом подошла ко мне и, не проронив ни слова, платком вытерла мне рот. На губах у меня была кровь.
Увы — что можно было сделать? Мы вышли подавленные.
II
Ночные события. Квартал Центрального рынка
Я направился на улицу Ришелье, № 19, в свое убежище.
Я хотел было постучаться, но раздумал; у двери стоял человек, очевидно поджидавший кого-то. Я подошел к нему вплотную и спросил:
— Мне кажется, вы кого-то ждете?
— Да.
— Кого именно?
— Вас.
Понизив голос, он прибавил:
— Мне нужно поговорить с вами.
Я пристально взглянул на незнакомца; свет газового фонаря падал на его лицо, и он не пытался укрыться в тени.
То был молодой белокурый человек с бородкой, одетый в синюю блузу. У него было кроткое лицо мыслителя и сильные руки рабочего.
— Кто вы? — спросил я его.
Он вполголоса ответил:
— Я из ассоциации литейщиков. Я хорошо знаю вас, гражданин Виктор Гюго.
Тут я спросил:
— Кто вас направил ко мне?
Он все так же тихо ответил:
— Гражданин Кинг.
— Хорошо, — сказал я.
Неизвестный назвал себя. Он пережил события ночи с 4 на 5 декабря и впоследствии благополучно избежал доносов; отсюда понятно, что я не раскрою здесь его имени и буду в дальнейшем называть его по его профессии, литейщиком.[33]
Он объяснил, что положение отнюдь не безнадежно, что он и его друзья намерены продолжать сопротивление, что места, где должны встретиться представители ассоциаций, еще не определены окончательно, но что этот вопрос решится сегодня же вечером; мое присутствие, прибавил он, очень желательно, и если я согласен прийти к девяти часам под арку Кольбера, он или кто-нибудь другой из членов ассоциаций встретит меня и проводит, куда нужно. Мы условились, что во избежание ошибки посланец, подойдя ко мне, произнесет наш пароль: «Что поделывает Жозеф?»
Возможно, ему показалось, что во мне шевельнулось сомнение или что я ему не доверяю. Прервав свою речь, он сказал:
— В самом деле, вы не обязаны верить мне на слово. Обо всем не подумаешь, мне следовало взять записку к вам. В такие дни не доверяешь никому.
— Напротив, — возразил я, — доверяешь всем. Я буду в девять часов под аркой Кольбера.
Мы расстались.
Я вошел в свое убежище. Усталый, голодный, я бросился в кресло, съел кусок хлеба и шоколад Шарамоля и заснул тяжелым сном, полным мрачных видений. Мне мерещился мертвый ребенок с двумя ярко-красными ранами на лбу, обратившимися в две пасти; одна говорила: «Морни», другая — «Сент-Арно». Но историю пишут не для того, чтобы рассказывать сны. Я проснулся, будто от внезапного толчка. Неужели сейчас больше девяти? Я забыл завести свои часы, они остановились. Я торопливо вышел из дому. Улица была безлюдна, все лавки заперты. На площади Лувуа я услыхал бой часов (вероятно, Библиотеки). Напряженно прислушиваясь, я насчитал девять ударов. Я ускорил шаг, мигом дошел до арки Кольбера и стал вглядываться в темноту. Под аркой — никого.
Я сообразил, что стоять здесь с видом человека, поджидающего кого-то, невозможно; вблизи арки Кольбера полицейский участок, патрули проходили поминутно. Я пошел дальше по улице. Там никого не оказалось. Я дошел до улицы Вивьен. На углу какой-то человек, стоя перед плакатом, старался разорвать или отодрать его. Я подошел к нему; он, по-видимому, принял меня за полицейского и опрометью бросился бежать. Я повернул назад к арке Кольбера. Когда я дошел до того места улицы Вивьен, где обычно вывешивают театральные афиши, со мной поравнялся какой-то рабочий и скороговоркой тихо спросил меня: «Что поделывает Жозеф?»
Я узнал литейщика.
— Идемте, — сказал он мне.
Мы пустились в путь, ни слова не говоря друг другу, притворяясь, будто мы незнакомы; он шагал впереди, я следовал на некотором расстоянии.
Сначала мы пошли по двум адресам, привести которые здесь значило бы обречь людей на изгнание. В обоих домах — полное неведение, никаких указаний. Никто не являлся туда от имени ассоциаций.
— Пойдемте по третьему адресу, — сказал литейщик.
Он объяснил мне, что ассоциации наметили для встречи три дома; таким образом, если бы полиция открыла первое и даже второе условленное место, они все же могли быть уверены, что совещание состоится. Мы тоже всегда старались соблюдать эту предосторожность, когда дело шло о заседаниях членов левой и комитета.
Мы находились в квартале Центрального рынка. Там весь день шли бои. На улицах не осталось ни одного фонаря. Время от времени мы останавливались и прислушивались, чтобы не наткнуться на патруль. Перешагнув через дощатую загородку, почти совершенно разрушенную — доски, по-видимому, были взяты для постройки баррикад, — мы пошли по обширному участку, покрытому развалинами домов, недавно снесенных в самом конце улиц Монмартр и Монторгейль. На полуразрушенных старинных фронтонах, сиротливо черневших там и сям, играли красноватые блики — должно быть, отсветы бивачных огней полков, расположенных у рынка и вблизи церкви св. Евстахия; эти блики освещали нам путь. Но все же литейщик едва не провалился в глубокую яму, оказавшуюся подвалом снесенного дома.
Выбравшись из развалин, среди которых там и сям попадались деревья, остатки исчезнувших садов, мы попали в узкие, кривые, совершенно темные переулки, где, казалось, невозможно было найти дорогу. Но литейщик шагал уверенно, словно среди бела дня; у него был вид человека, идущего прямо к цели. Один только раз он на ходу обернулся ко мне и сказал:
— Весь квартал покрыт баррикадами. И если, как я твердо надеюсь, наши друзья явятся сюда, — я вам ручаюсь, здесь мы долго продержимся.
Вдруг он остановился со словами:
— А вот и баррикада.
Действительно, перед нами, шагах в семи-восьми, чернела баррикада, сложенная из булыжников; она была не выше человеческого роста; во мраке ее можно было принять за полуразвалившуюся стену. С одного края был оставлен узкий проход. Мы пробрались сквозь него. За баррикадой не было ни души.
— Здесь сегодня уже шел бой, — шепнул мне литейщик и, помолчав, прибавил: — Теперь совсем близко…
На развороченной мостовой образовались выбоины, которые нужно было обходить. Мы перескакивали через них, иногда прыгали с камня на камень. Как бы тьма ни была густа, в ней всегда мерцает какой-то тусклый свет; осторожно пробираясь вперед, мы различили на земле, подле тротуара, нечто, похожее на распростертое тело.
— Черт возьми! — пробормотал мой спутник. — Мы чуть не наступили на кого-то.
Вынув из кармана восковую спичку, он потер ее о свой рукав; вспыхнул огонек. Свет упал на иссиня-бледное лицо, остекленелые глаза смотрели на нас. То был труп старика; литейщик быстро осветил его, обведя спичкой с головы до ног. Мертвец лежал, широко раскинув руки, словно распятый. Седые, на кончиках окровавленные волосы прилипли к грязи мостовой; тело лежало в луже крови; большое темное пятно на фуфайке указывало место, где пуля пробила грудь; одна подтяжка отстегнулась; на ногах были грубые шнурованные башмаки.
Литейщик приподнял руку убитого и сказал: «У него сломана ключица». От этого движения голова качнулась и раскрытый рот обратился в нашу сторону. Казалось, мертвец вот-вот заговорит с нами. Я смотрел на это видение, я даже стал прислушиваться… вдруг оно исчезло.
Мертвеца снова поглотил мрак; спичка потухла.
Мы молча продолжали путь. Шагов через двадцать литейщик, словно говоря сам с собой, молвил вполголоса: «Кто бы это мог быть?»
Мы шли и шли. От подвалов до крыш, от нижних этажей до мансард — нигде ни проблеска света. Казалось, мы блуждали в огромной могиле.
Вдруг из мрака нас окликнул сильный, смелый, звонкий голос:
— Кто идет?
— А! Вот они где! — воскликнул литейщик и начал свистать на какой-то особый лад.
— Сюда! — крикнул тот же голос.
Перед нами снова оказалась баррикада, отстоявшая от первой шагов на сто; она была немного выше и, насколько я мог различить, сложена из бочек, наполненных булыжниками. На гребне баррикады, между бочками, торчали колеса какой-то повозки; местами виднелись доски и балки. Сбоку был оставлен проход, еще более узкий, чем в первой баррикаде.
— Граждане, — спросил литейщик, углубляясь в проход, — сколько вас здесь?
Голос, окликнувший нас, ответил:
— Двое.
— И больше никого?
— Никого.
Действительно, их было двое; и вдвоем, во мраке, на этой пустынной улице, за грудой камней, они ожидали натиска целого полка.
Оба в блузах; оба рабочие; несколько патронов в кармане, ружье на плече.
— Значит, — с оттенком нетерпения в голосе продолжал литейщик, — наши друзья еще не пришли?
— Ну что ж, — сказал я, — подождем их.
Литейщик заговорил вполголоса с одним из защитников баррикады; по всей вероятности, он назвал ему мое имя; тот подошел, поздоровался и сказал:
— Гражданин депутат, скоро здесь будет жарко.
— Пока что, — ответил я смеясь, — здесь холодно.
Действительно, было холодно. Мостовая позади баррикады сплошь была разобрана, и улица превратилась в клоаку; вода доходила до щиколоток.
— Я вам говорю: будет жарко, — настаивал рабочий, — и вы хорошо сделаете, если уйдете подальше.
Литейщик положил руку ему на плечо и заявил:
— Товарищ, мы должны остаться здесь; встреча назначена совсем близко отсюда, в походном лазарете.
— Все равно, — упорствовал его собеседник; он был очень маленького роста и стоял на камне. — Гражданин депутат хорошо сделает, если уйдет подальше.
— Разве я не могу быть там, где вы? — возразил я.
Улица тонула во мраке, не видно было даже неба; с внутренней стороны баррикады, налево от прохода, чернел высокий дощатый забор, сквозь щели которого кое-где мерцал слабый свет. Позади забора врезался в темную высь шести- или семиэтажный дом; весь нижний этаж его ремонтировался и сплошь был загорожен этим забором. Полоска света, пробиваясь между досками, падала на противоположную стену и освещала выцветшую, изодранную афишу, на которой значилось: «Аньер. Гонки на воде. Большой бал».
— Найдется у вас еще ружье? — спросил литейщик того из рабочих, который был повыше ростом.
— Будь у нас три ружья, нас было бы трое, — ответил рабочий.
Низкорослый прибавил:
— Неужели вы думаете, что у нас нет желающих драться? Музыканты нашлись бы, да кларнетов не хватает.
Рядом с дощатым забором была узкая низенькая дверь, больше напоминавшая вход в жалкую лавчонку, чем в настоящий магазин. Окна лавки, куда вела эта дверь, были наглухо закрыты ставнями. Дверь тоже казалась запертой. Литейщик подошел и легонько толкнул ее. Она поддалась.
— Войдем, — сказал он мне.
Я вошел первый, он последовал за мной и тотчас плотно закрыл дверь. Мы находились в просторной комнате с низким потолком. Там было темно. Только из приотворенной двери, находившейся в глубине комнаты, слева от нас, тянулась полоска света. В полумраке мы смутно различали прилавок и печь, выкрашенную черной и белок краской.
Откуда-то, очевидно из соседней комнаты, где мерцал свет, доносилось сдавленное, глухое, прерывистое хрипенье. Литейщик быстро направился к приотворенной двери. Я последовал за ним, и мы вошли в какое-то убогое обширное помещение, где тускло горела сальная свеча. Теперь мы находились по ту сторону дощатого забора; только этот забор отделял нас от баррикады.
Убогое помещение находилось в том нижнем этаже, который ремонтировался. В правильных промежутках стояли железные столбы, выкрашенные в красный цвет и вделанные в каменные подножия кубической формы; они подпирали балки потолка. Спереди, против самой середины дощатого забора, огромный сруб поддерживал главную поперечную балку второго этажа, иначе говоря — нес на себе тяжесть всего дома. В углу лежали инструменты каменщиков, груда отбитой штукатурки и большая стремянка. Там и сям — стулья с соломенными сиденьями. Вместо пола — сырая земля. Рядом со столом, на котором стояли аптечные склянки и сальная свеча, старуха и девочка лет восьми щипали корпию. Старуха сидела на стуле, девочка — просто на корточках; перед ними стояла большая корзина, доверху набитая тряпьем. В глубине помещения царил полумрак; там, поодаль от стола, была навалена солома, на ней лежали три тюфяка. Хрипенье доносилось оттуда.
— Это и есть наш лазарет, — сказал мне литейщик.
Старуха повернула голову и, заметив нас, вздрогнула; но, увидев блузу литейщика, она успокоилась, встала и подошла к нам.
Литейщик шепнул ей несколько слов на ухо. Она ответила:
— Я никого не видела. — Помолчав, она сказала: — Но меня беспокоит, что муж еще не вернулся. Весь вечер не переставая стреляли из ружей.
На двух тюфяках, поодаль от стола, лежали двое раненых. Третий тюфяк был свободен и ожидал.
Раненому, лежавшему ближе ко мне, картечная пуля попала в живот. Это он хрипел. Старуха подошла к нему со свечой в руке и шепотом сказала нам:
— Если б только вы видели, какая у него рана! Мы напихали ему туда вот сколько корпии, — она указала на свой кулак.
Она продолжала:
— Ему самое большее двадцать пять лет. К утру он умрет.
Второй раненый был еще моложе: юнец лет восемнадцати.
— На нем был хороший черный сюртук, — сказала старуха, — наверно, студент.
У второго раненого вся нижняя часть лица была обвязана окровавленными тряпками. Старуха рассказала нам, что пуля попала ему в рот и раздробила челюсть. Он был в жару и смотрел на нас лихорадочно блестевшими глазами. Время от времени он протягивал правую руку к тазу с водой, в котором лежала губка и, прикладывая губку к лицу, сам смачивал повязку.
Мне показалось, что он смотрит на меня с каким-то особым вниманием. Я подошел к нему, наклонился и протянул ему руку; он крепко сжал ее.
Я спросил его:
— Разве вы меня знаете?
Он ответил да немым пожатием, растрогавшим меня до глубины души.
Обращаясь ко мне, литейщик сказал:
— Подождите здесь минутку, я сейчас вернусь. Посмотрю, нельзя ли где-нибудь раздобыть ружье.
Помолчав немного, он спросил:
— А вам ружье понадобится?
Я ответил:
— Нет. Я останусь здесь без ружья. Я только наполовину участвую в гражданской войне. Я готов умереть в борьбе, но убивать не хочу.
Я спросил, как ему кажется, придут ли его друзья. Он сказал, что не понимает, в чем тут дело, что людям из ассоциаций давно уже пора прийти, что эту баррикаду должны были защищать не два человека, а двадцать, да и самих баррикад на этой улице должны были построить не две, а десять, — наверно, что-нибудь случилось, — и добавил:
— Впрочем, я пойду на разведку; обещайте, что вы дождетесь меня здесь.
— Обещаю, — ответил я, — если потребуется, я прожду всю ночь.
Он ушел.
Старуха снова уселась рядом с девочкой, по-видимому лишь смутно понимавшей, что происходило вокруг, и время от времени устремлявшей на меня большие ясные глаза. Обе были одеты очень бедно; мне показалось, что девочка без чулок. Старуха с тоской в голосе повторяла «Мой муж все не идет! Мой муж, бедняга, все еще по идет! Только бы с ним не случилось чего-нибудь! О господи, господи!» — и горько плакала, не переставая проворно щипать корпию. Я с мучительной тревогой думал о старике. Труп которого мы видели на мостовой, в нескольких шагах отсюда…
На столе лежала газета. Я взял ее и развернул. Я прочел: «П…» остальная часть названия была оторвана. На первой странице широко отпечаталась чья-то окровавленная рука. Вероятно, какой-то раненый, войдя, оперся на стол в том месте, где лежала газета. Мой взгляд упал на строки:
«Г-н Виктор Гюго опубликовал призыв к грабежу и убийству».
В таких выражениях газета Елисейского дворца характеризовала прокламацию, продиктованную мной Бодену и приведенную в первом томе этого повествования.
Я бросил газету на стол. В эту минуту вошел один из защитников баррикады — тот, что был маленького роста.
— Дайте воды, — сказал он.
Возле аптечных склянок стояли графин и стакан. Рабочий пил с жадностью. Он держал в руке ломоть хлеба и кусок колбасы и ел стоя.
Внезапно раздались несколько ружейных выстрелов, быстро следовавших один за другим. Стреляли где-то неподалеку. В глубокой ночной тишине эти звуки напоминали стук дров, сбрасываемых с повозки на мостовую.
С улицы второй защитник баррикады спокойным, твердим голосом крикнул: «Начинается».
— Успею я доесть хлеб? — спросил низкорослый.