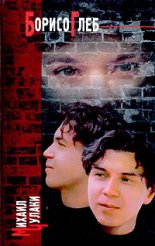Неон, она и не он Солин Александр

Шло время, и все больше тускнела та сказочная пора, где остался ее Володя. Все дальше отставал от нее призрак, как отстает от тронувшегося поезда провожающий нас человек. Но еще долго колокол ее сердца звонил по нему, не уставая…
25
И вот после двух лет тихого печального существования в ее жизни наметился, как говорят в таких случаях, перелом. Перемены принес ее отец, занявший к тому времени видное положение на своем новотрубном заводе и получивший доступ к кнопкам управления. Будучи отцом любящим и заботливым, он придумал, как тонко и невинно учесть интерес дочери и расширить ее юридические угодья: следовало поменять фирму, занимавшуюся делами завода на Северо-западе, на другую и встроить туда Наташины услуги.
Он обсудил с дочерью свой план, она согласилась и указала на юридическое бюро «Феноменко и партнеры», имеющее на тот момент солидную в профессиональных кругах репутацию. Николай Михайлович приехал в Питер, встретился с Алексеем Феноменко и предложил защищать интересы завода, где только возможно, при условии, что этим у него будет заниматься его дочь. По правде говоря, для такого сытого и самодовольного заведения иметь клиентом еще один завод – все равно, что любовнице олигарха прибавить к коллекции бриллиантов лишний перстень. Но когда выяснилось, что папино предложение подкреплено необыкновенными достоинствами дочери, вопрос решился быстро и положительно. Были подписаны нужные документы, после чего мэтр обменялся рукопожатием с папой и поцеловал руку дочери.
Его бюро славилось связями, основательностью и продвинутостью, а сам он, несмотря на относительную молодость (сорок лет), считался одним из самых удачливых и успешных юристов города. Это был яркий, плотный брюнет с повелительными наклонностями, львиным рыком, хорошими зубами, раскатистым смехом и густым баритоном, которым он умело владел. Густые короткие волосы на голове полулежали стерней, закручиваясь на макушке воронкой. Обильная черная растительность произрастала на руках и, как потом выяснилось, покрывала все тело. Он умел производить впечатление свойского парня – при знакомстве стискивал руку, заглядывал в глаза и улыбался широко и доверительно. Естественно, играл в теннис и баловался горными лыжами. Был женат на некрасивой женщине и имел от нее пятнадцатилетнюю дочь.
Он был сколочен из той молодой деловой породы, что творческим возрастом удачно совпав с лихими переменами, набиралась соков, опыта и сил в самую зловонную пору всероссийского разложения. Он освоил и практиковал европейскую кабинетную систему, которая строит дело на плечах крепкого юриста, как строят спектакль на личности ведущего актера. Собственные таланты в сочетании с многозначительными московскими связями позволили ему занять влиятельное место в том замкнутом мире власти, к которому во все века принадлежит лукавая каста юристов, торгующая писаными законами себе на пользу. Вдобавок к внутреннему рынку его бюро являлось членом Европейской юридической ассоциации, которой он поставлял богатых российских клиентов, поскольку с другими дел не имел.
Стоит ли удивляться, что сорокалетний фавн, одолеваемый здоровьем, состоянием и завидными достижениями, сразу же положил на Наташу глаз, искривив занимаемое ею пространство пристальным, чутким и небескорыстным вниманием. Уж если самый угрюмый мужчина при общении с красивой женщиной способен обнаружить неожиданную учтивость и обходительность, то можно себе представить, какие средства при этом пускает в ход самоуверенный состоятельный сердцеед. Ласковый обволакивающий взгляд, приспущенный голос, вкрадчивые льстивые интонации, заманчивые предложения – вот дешевый набор современного делового гусара, взирающего на поле битвы из окна кабинета или через тонированное стекло автомобиля, и планирующего все и вся, в том числе собственную похоть.
Наташа довольно скоро почувствовала его к ней непрофессиональный интерес. Она даже пожалела, что поддалась на уговоры отца и покинула свой привычный независимый мирок. Впрочем, особой необходимости видеться с Феноменко у нее поначалу не было, а та формальная встреча, на которую он ее вскоре пригласил, была обставлена им с напускной серьезностью и преувеличенной деловитостью. Он сообщил, что рад сотрудничеству с такой успешной и увенчанной годами фирмой (каких, на самом деле, в городе хоть пруд пруди) и ее истинным украшением – Натальей Николаевной, которая теперь, как он надеется, украсит и его бюро. Он упомянул, между прочим, некоторых его клиентов – таких значительных по сравнению с ее клиентурой, что сквозь намеренное упоминание ясно блеснул намек на разницу масштабов. Наташа намек проглотила: а что прикажете делать, когда имеешь дело с акулой? Затем он как бы невзначай похвалил ее за то, что она вовремя разглядела и оставила первого мужа, который впоследствии показал себя на редкость непорядочным человеком и обманул уважаемых людей. Вслед за тем, добавив в тарелку своего любезного лица ложку постного сочувствия, он выразил опоздавшие на два года соболезнования по поводу гибели ее последнего мужа, а также поздравил с приобретением квартиры в престижном месте Васильевского острова.
Что и говорить – такая осведомленность ее впечатлила: оказывается, кое-кому хорошо известно то, что на самом деле представлялось ей делом сугубо личным и непрозрачным! Первой ее мыслью было встать и хлопнуть дверью, потому как этот плотный тип с круглым лицом бульдожьей масти явно перешел границы необходимого любопытства. Какое его собачье дело, с кем она спала и что с ними стало! Зачем ему знать, где и за сколько она купила квартиру! Одно дело навести справки о репутации фирмы (это нормально, это святое!) и совсем другое – копаться в интимных подробностях жизни ее директора! А сколько из того, что он о ней накопал, он не назвал! Да если он еще питается слухами! Нет, нет, встать и уйти, не забыв хлопнуть дверью! Но не встала, не ушла, не хлопнула, а справившись с собой, язвительно сообщила, что ей жаль его драгоценного времени, которое он потратил, собирая о ней сведения – все это она могла рассказать ему сама. Тем более что в жизни ее не было и нет ничего такого, чего бы ей следовало стыдиться. Он в ответ рассмеялся и сказал, что если бы было по-другому, они бы здесь не сидели и так мило не общались.
Далее он намекнул, что в приватном разговоре с ее батюшкой он обещал приобщить ее к настоящим, большим делам международного значения. К чему откладывать – он приглашает ее в Париж, где нужно быть через месяц на полугодовом коллоквиуме Европейской ассоциации юристов, куда входит его бюро. Вот там ей и представится случай рассказать ему о себе. Наверное, прозрачнее попытки склонить ее к постели было трудно вообразить.
«А если я откажусь?» – сухо поинтересовалась она.
«Мы найдем для этого другое время!» – невозмутимо отвечал он.
«Тогда в другой раз, сейчас мне действительно некогда. С учетом того, что я буду отвлекаться, мне нужно настроить мой маленький слабый оркестр, чтобы он мог звучать без моего участия…»
«Это разумно» – с кислой миной поддержал он ее намерения, после чего провел Наташу по комнатам, где представил ее персоналу.
«Наталья Николаевна Ростовцева, наш новый, верный и надежный союзник! Прошу любить и жаловать!» – говорил он. Вышколенный персонал откликался самым вежливым образом, и лишь бесцеремонная Юлька не постеснялась смерить ее с головы до ног и обратно.
Так внезапно и с размахом Наташа вернулась к жизни. Ее возвращение и вправду оказалось увлекательным. Феноменко, надо признать, недаром числился в юридических элитах – дело свое он знал, а оно его боялось. С его чутьем и хваткой бесполезно было соперничать. Его виртуозным приемам пытались следовать, но только затем, чтобы испытать бессильную зависть. Он был многолик и умел предстать перед собеседником в том образе, в котором его желали видеть – качество, совершенно необходимое хорошему политику, актеру и юристу. Обмануть его было невозможно, удивить – нереально. К людям бесполезным он относился равнодушно и невежливо. То, чего Наташа достигала красотой и сердечностью, он, обладатель плоского невыразительного лица, добивался изворотливым умом и хирургической точностью манер. Его коротышка-нос сразу учуял, какой дуэт они могли бы составить.
Завлекая ее на липкую ленту соучастия, Феноменко умно и методично открывал перед ней простор своих интересов. Он стал возить ее на мероприятия презентабельного характера, приучая нужную публику видеть ее рядом с собой. Она не отказывалась – его соседство отвечало ее интересам. С волками жить – по-волчьи выть, решила она, не задумываясь на первых порах, что для того, чтобы стать волчицей, придется не только выть, но и жить с ним. Заботясь о ее развитии, он поручал своей прекрасной ученице запутанные дела, и от этого ей приходилось много времени проводить у него в бюро, каким, возможно, и был его дальний умысел. Он, не скупясь, делился с «Юстинианой» новыми клиентами, принимая на себя ответственность за результаты работы. Это было щедро и благородно. Стоит ли говорить, что Наташино благосостояние от его щедрот резко улучшилось, отчего она позволила себе через полгода обставить квартиру и купить «Туарег». Она так радовалась своей роскошной, лакированной словно рояль игрушке, что когда Феноменко поздравил ее с достойным ее красоты и положения приобретением, она в ответ порывисто и расчетливо поцеловала его в щеку. Феноменко растрогался и смутился, что уже само по себе было необычно.
Надо отдать ему должное – гусарские замашки, с помощью которых, как ей показалось вначале, он собирался ее домогаться, при ближайшем знакомстве не разрослись, а напротив, стушевались. Прошедшие полгода он вел себя терпеливо и сдержанно, выбрав в качестве защиты от самого себя роль мудрого, заботливого шефа. Что ж, в ее поцелуе он мог увидеть первую награду своему смиренному терпению.
С некоторых пор Наташа не обманывалась насчет способа предстоящей благодарности. Когда она однажды впервые об этом подумала, то испугалась. Но не того, куда завела ее неразумная благосклонность, а того равнодушия, с которым она встретила эту мысль. Словно все уже было решено, и осталось только выбрать время и место, чтобы переспать с ним всем назло. Могла ли она этого избежать? Могла, но… не хотела. И в этом была странность ее нового самоуничижительного состояния. То, что он был женат, ее нисколько не смущало. Неужели горе, поразившее ее душу, сделало ее бесчувственной и циничной?
26
В феврале две тысячи пятого он пригласил ее с собой в Париж, где располагалась штаб-квартира ассоциации. Приняв приглашение, она за неделю до отъезда начала принимать противозачаточные таблетки, и завывающим морозным утром отправилась с ним туда, чтобы расплатиться по счетам.
Они остановились в отеле «Бальзак», расположенном в весьма выгодном с точки зрения пошлых восторгов месте. Тут тебе и Елисейские поля, и Триумфальная арка. В другое время и при других обстоятельствах она, возможно, была бы в восторге. В холле, перед тем как зарегистрироваться, он предупредил извиняющимся тоном:
«Наталья Николаевна, у нас один номер, но комнаты смежные. Надеюсь, вы простите мне мою вольность…»
Она, естественно, простила.
Это было ее второе посещение второго по вечности города. Пасмурный и озябший, он вполне соответствовал ее предпродажному состоянию. Ни теплый прием коллег («Алекс, почему вы прятали от нас такое сокровище?»), ни шумное размалеванное варьете «Мулен руж», ни неоновая феерия молодящихся фасадов, ни жадные взгляды местных, похожих на Мишку узкоплечих жеребцов, ни лихорадочная доза «Шато Марго» 1999 года, ни старательные ухаживания самого Феноменко, чья чуткость росла по мере приближения ночи, не могли ослабить в ней напряженного ожидания грядущего позора. Когда в полночь они вернулись в отель, она чувствовала себя пьяной развратной девкой.
Поднялись в номер и разошлись по комнатам, не пожелав друг другу спокойной ночи. Чтобы избавить себя от пошлой процедуры раздевания она голой залезла под одеяло и лежала, подрагивая в ожидании его появления. Наконец разделяющая их дверь приоткрылась и оттуда показалась его голова:
«К вам можно, Наталья Николаевна?»
«Да…» – ответила она, чувствуя, как споткнулось сердце.
В халате до колен, тускло отсвечивая толстыми голыми икрами, он прошел на середину комнаты и остановился:
«Я пришел сказать вам спокойной ночи…»
«Только выключи, пожалуйста, свет…» – ответила она и закрыла глаза.
«Весь?» – спросил он.
«Весь…»
Под веками исчез красноватый сумрак, и она почувствовала, как кровать справа от нее прогнулась. Чужой запах мятной пасты коснулся ее губ. Она замерла, и тут властное головокружение восстало и заслонило все прочие чувства. Глаза ее под веками закатились и она, нащупывая остатками трезвости твердую почву, попыталась унять светло-зеленую пятнистую карусель.
«Наташенька!» – легла на ее тело тяжелая, незнакомая рука.
Он что-то бормотал, но смысл его слов не доходил до нее: все ее ощущения находились за пределами безвольного, бесчувственного тела, и потому когда он торопливо и поверхностно опустошил себя, она с вялым удивлением подумала: «Как, уже?»
Натянув на себя одеяло, она затихла. Немного погодя ягодицы пожаловались на сырость, но она лишь брезгливо поморщилась, ожидая, когда головокружение отпустит ее в ванную. Тем временем Феноменко нашел ее руку, неловко подтянул к себе и приложил к губам. Затем последовали сбивчивые слова про то, как много она для него значит, как давно он этого хотел и как он счастлив. Он никогда не встречал такого совершенства, и пусть она его простит, что он так мало для нее делал, но теперь он будет делать для нее все, что только возможно! И пусть она не думает – он вовсе не из тех, кто добившись женщины, охладевает к ней!
Она молчала, слушая головокружительную пустоту внутри себя, а он говорил и говорил, и вот уже рука его под одеялом гладила ее грудь, оттуда спустилась на дрогнувший живот, обожгла липкий, беззащитный пах и снова перебралась на грудь. Он подтянулся к ней, задержался на губах, но не найдя там ответного чувства, откинул одеяло и принялся покрывать ее тело до самых лодыжек долгими, выстраданными терпением поцелуями. Она никак не отвечала и лишь слегка подрагивала. Он заставил ее раздвинуть бедра и погрузился лицом в свою же сперму. Долго не отрывался, а оторвавшись, взгромоздился на нее тесно и основательно.
«Тяжело…» – уперлась она руками ему в грудь. Он безропотно перенес вес на локти и короткими пальцами ухватил ее снизу за плечи.
Было что-то воловье в его грузных размеренных движениях. В этот раз он трудился смачно и со вкусом, при каждом погружении двигая ее, безвольную, вперед, пока она почти не уперлась головой в спинку кровати. Тогда он просунул толстую руку под ее поясницу и опустил ниже (отчего на сырость теперь пожаловалась спина), а затем продолжил с той же основательностью. Пытаясь удержать себя на месте, она обхватила его спину. Руки ее неприятно заскользили по сырой шерсти, и она уронила их на кровать. Отступившее было опьянение снова вернулось к ней, и она, плохо соображая, вдруг тихо застонала, и уже не умолкала до тех пор, пока он, превратившись в скрюченного, пыхтящего кролика, короткими, спешными толчками не довел себя до исступления. И когда он оплывшей волосатой тушей затих на ней, к горлу ее из глубины неожиданно метнулся тугой комок. Она опрометью кинулась из-под него и ничего по дороге не задев, успела добежать до ванны, где ее вырвало темной горячей струей.
Никогда, никогда в жизни с ней не случалось ничего более омерзительного! Плохо соображая, она схватила душ и затрясла им над фиолетово-красным содержимым своего желудка, торопясь вернуть ванне непорочную белизну. Слезы застилали глаза, тело сотрясала крупная дрожь, рот наполнился сладковато-кислым вкусом тухлятины. Она ловила ртом хлесткие струи и с отвращением сплевывала их в ванну.
«Наташенька, что с тобой?» – послышался из-за двери его испуганный голос.
Она хотела ответить, но вместо этого новая порция рвоты обагрила дно ванны. Кашляя, давясь и отплевываясь, она трясла душем, с отвращением глядя, как бордовое пятно бледнеет и нехотя исчезает в недрах канализации. Он стучал и просил открыть. Ощутив внезапное облегчение, она на дрожащих ногах подошла к двери и слабым голосом попросила: «Принеси халат, пожалуйста…»
Он сбегал за халатом, она приоткрыла дверь, приняла его и сказала: «Все нормально, я скоро выйду…»
Тут она обнаружила, что его подсохшее семя стягивает кожу ее ягодиц и спины и даже испятнало пол. Торопливо пустив горячую воду, она встала под душ. Согревшись, намылилась и принялась оттирать от чужой испарины грудь, живот и с особым ожесточением промежность. Закончив, она намотала на голову тюрбан, запахнулась в халат и вышла. Он ждал ее под дверью.
«Бедная моя, что с тобой?!» – с тревогой спросил он, глядя на ее белое лицо.
Она слабо улыбнулась:
«В следующий раз не давай мне так много пить…»
Он захлопотал, подвел ее к полосатому, похожему на черно-золотую зебру дивану, усадил, укрыл одеялом, подоткнул концы, не забывая нежно и быстро целовать. Она не противилась. «Может, горячего чаю?» – спросил он участливо. «Можно…» – подумав, согласилась она. Он позвонил, и им принесли чай.
«Наташенька, солнышко, как ты меня напугала! – сел он рядом с ней. – Неужели это я виноват?!»
«Успокойся… Просто я никогда так много не пила…» – откинув голову, закрыла она глаза.
«Прости, – заторопился он. – В следующий раз я буду делать ЭТО очень нежно – ты у меня, оказывается, настоящая недотрога!»
«Господи, во что я ввязалась! – ощутила она нарастающее отчаяние. – Ведь он же теперь не отстанет! Ну, конечно, будет следующий раз, а потом еще, и еще, и это самодовольное животное будет лизать, сопеть, потеть и гордиться собой! Господи, какая же я дура!»
Она почувствовала, как к горлу ее снова подкатывается комок. Отбросив одеяло, она устремилась в ванную. На этот раз, однако, обошлось.
Он все же заставил ее выпить чай и уложил, подшучивая, что начал ее обучение не с того: следовало вначале научить ее пить. Нежно поцеловав и пожелав спокойной ночи, он потушил свет и вышел. Она осталась одна и долго еще лежала, не вытирая слез, которые, скапливаясь в уголках, тихо скатывались по нежным бархатным скулам на подушку…
27
Проснулась она, как просыпаются после тяжелой, но успешной операции, с тревожным удивлением прислушиваясь к тому месту в груди, откуда, наконец, ушла боль. «Что сделано, то сделано» – вот лейтмотив, которым она за утро расправилась с остатками совести. Однако как новый любовник ни увивался, утром она ему не далась.
«Вечером! – твердо сказала она. – Давай дождемся вечера!»
Изобразив шутливое разочарование, он подчинился. Она ушла в ванную, где глядя на себя в зеркало, обнаружила на плечах синяки от его пальцев.
«Посмотри, что ты наделал…» – выйдя из ванной, упрекнула она его, принуждая испытать вину.
Он расстроился и, обняв ее сзади, стал нежно целовать ей плечи и шею, пока она, почувствовав стремительно крепнущую силу его желания, не выскользнула из его объятий.
«Вечером, вечером!» – по-хозяйски осадила она его и вдруг разом осознала свою возникшую над ним власть.
Париж любит удачливых и состоятельных.
Позавтракав, они вышли из номера, и он тут же нацепил на себя публичную личину, похожую на парадный мундир с регалиями, одной из которых теперь была она. Во всяком случае, умной женщине, переспавшей по своей воле с нелюбимым мужчиной, непременно следует поддержать это самодовольное мужское заблуждение. За утро ее отношение к нему быстро и незаметно поменялось, и сидя рядом с ним на совещании в штаб-квартире Ассоциации, она не без гордости наблюдала за его тонким профессиональным лицедейством, прислушивалась к точным репликам его почти беглого английского, подмечала внимание и одобрение на лицах европейских соратников. Когда он ловил ее взгляд, его лицо озарялось непривычно радостной улыбкой. Им явно владело вдохновение, и этим вдохновением была она.
«Ну, и ладно! – улыбаясь в ответ, думала она. – Померла, так померла…»
Похожий на Вольтера француз, с лица которого стекали щеки, веки, лоб, нос, сидел напротив и смотрел на них с мудрой проницательной улыбкой.
Париж любит состоятельных и влюбленных.
Покончив с делами, они заторопились на волю, где он взял такси и повез ее на авеню Монтень.
«Наташенька, солнышко, хочу сделать тебе скромный подарок!» – так он объяснил их маршрут.
Остановились напротив роскошного здания, которое внутри оказалось не менее роскошным ювелирным магазином.
«Гарри Уинстон! Лучший из лучших! Выбирай!» – сделал он широкий купеческий жест в сторону богатых витрин.
Она попыталась убедить его не тратить понапрасну деньги, но он не стал ее слушать и сказал:
«Иди и выбирай, или я куплю что-нибудь сам, мы пойдем к этой чертовой Сене, и я выброшу в нее подарок у тебя на глазах!»
Ах, какой мужчина! Какой дивный мужчина! И, кажется, не на шутку влюблен! Ну, почему она его не любит?
«Хорошо, но только что-нибудь самое неприметное и заурядное…» – вздохнув, сдалась Наташа.
Самым неприметным и заурядным оказалось кольцо белого золота с бриллиантом за три тысячи долларов. При этом она с трудом уберегла его от еще больших трат.
«Такова твоя нынешняя цена. Вот теперь ты настоящая шлюха!» – подумала она, подставив палец и поцеловав растроганного дарителя.
Они вышли из магазина, и он, взяв ее под руку, предложил прогуляться. Они отправились по авеню, разглядывая витрины. На одной из них были выставлены женские пальто. Она предложила зайти. Магазинчик был пуст, и Наташа к удовольствию двух любезных продавщиц принялась перебирать и примерять эту оборонительно-наступательную часть женского наряда, равную по важности доспехам. Она выбрала черное, приталенное, с высоким воротником пальто и отстояла свое право заплатить за него. Вышли наружу, и она, забегая на пару часов вперед, представила, как пойдет в нем на ужин и улыбнулась. Он понял это по-своему и поцеловал ее у всех на виду.
Ужин состоялся в знаменитой La To u r d’Argent, места куда были заказаны заранее. Собралась компания прожженных, циничных, остроумных крючкотворов со всей Европы и потеснила свое постатейное существование едкими шутками, поучительными историями, острыми саблями мнений, мудрым разочарованием и неумеренными комплиментами в ее женский адрес, на что Феноменко всякий раз напоминал, что у нее имеется еще и адрес профессиональный, не менее достойный и лестный. Каждый из присутствующих почитал за удовольствие к ней обратиться, и она по мере своих английских сил отвечала, иногда прибегая к помощи любовника, если мысль была слишком уж заковыристой. Когда она брала бокал, Феноменко тихо напоминал ей об умеренности. Видя в его заботе корыстное беспокойство, она про себя отвечала ему: «Не волнуйся, будет тебе сладкое…» Впрочем, если бы она присмотрелась внимательно, то обнаружила бы в его глазах неподдельное самоотверженное участие, свойственное мужчинам в самую раннюю пору обладания женщиной, когда они подобны грозным и нежным орлам, раскинувшим крылья над своими подругами. Ко всему прочему следует добавить, что знаменитая утка в собственной крови ей не понравилась.
Париж любит влюбленных и ненасытных.
Они возвращались в отель на такси, и каждый из них думал о том, что их там ждет. И если мужское предвкушение не нуждается в представлении, то ее смирившееся вроде бы море чувств имело своим дном такие монолиты, которые, однажды вздохнув, могли легко его взбунтовать. А между тем все, что ей было нужно – это выбрать из двух императивов один: «Нельзя целоваться (и все такое прочее) без любви» или «Можно целоваться (и все такое прочее) без любви». Устранить, так сказать, внутреннюю коллизию между экзистенциальным опытом и химерами идеального. И тогда ее воля избавилась бы от разрушительной амбивалентности и подчинилась бы смиреной гармонии неизбежности. Проще говоря, следовало плюнуть на все и жить с новым любовником, пользуясь его расположением. А если он, к тому же, сможет подарить ей оргазм, то оно стоит того, чтобы нарушить самый нравственный императив!
Сбросив на ходу пальто и пиджак, он вместе с ней прошел в ее комнату, где лаская голодным взглядом, помог освободиться от ее нового пальто. Она не стала испытывать его терпение и не пошла в ванную.
«Пусть целует меня немытую… Может, его тоже стошнит…» – мелькнуло в ней мстительным сполохом.
Покружив по комнате, она потушила свет, встала перед ним живой черной тенью и велела себя раздеть. Сдерживая суетливое нетерпение, он освободил ее от платья и скинул мягкие оковы лифчика. Затем, прижав ее к себе спиной и целуя в плечи и шею, принялся твердыми ладонями тискать грудь, оглаживать живот и дерзко нарушать беззащитную границу колготок. Она стояла, опустив руки и не испытывая ни малейшего трепета. Неужели проститутки такие же безразличные? Он подхватил ее на руки и уложил на широкую, словно площадь кровать. Затем торопливо обнажился и присоединился к ней.
С каким-то отстраненным любопытством наблюдала она за голым мужчиной у себя в ногах, словно дело касалось не ее тела. Смотрела, скосив глаза, как с затяжным наслаждением стягивая с нее колготки, он истово и протяжно целовал обнажавшиеся бедра, как двигались волосатые рычаги его рук, как черной мишенью на бледном жирном теле мелькала волосатая грудь, как подрагивал у живота его вздернутый черный бивень. Смотрела, как он, раздвинув ее ноги, устраивался в завоеванном пространстве, а затем с легкими поцелуями подбирался к ее цитадели, чтобы предпринять имитацию штурма. Смотрела, как на фоне смешно отставленного зада шевелится его макушка, пока он чавкал, погрузив в нее лицо.
«И как ему только не противно!» – брезгливо скривилась она.
Он укусил ее, она дернулась и тихо ахнула. Возможно, он сделал это намеренно, а может, просто увлекся. Решив ускорить события, она потянула его к себе. Он нехотя оторвался от лакомства и, мазнув по пути скользким ртом по ее животу и груди, впился в ее губы.
«Господи, неужели я так ужасно пахну?» – покоробленная гадливым засосом, задохнулась она. Не выдержав, она освободилась, перевела дух и, быстро осушив запястьем губы, велела: «Иди ко мне!» Лишь оргазм интересовал ее сейчас. Он заворочался, пристраиваясь, и она помогла ему поймать цель. Его первичные половые признаки оказались весьма внушительными. Странно, что она не почувствовала этого прошлой ночью. Впрочем, ей, пьяной и страдающей, было тогда не до того. Оказалось, что он недостаточно разогрел ее равнодушие, и пока его глубиномер продирался ко дну, она несколько раз дергалась и останавливала его.
«Больно! Подожди! Ты такой большой!» – давилась она шепотом, не догадываясь, что необыкновенно его этим возбуждает. Кончилось тем, что он, едва достигнув дна, задергался, обмяк и, навалившись на нее всем телом, с досадой пробормотал:
«Да что же это такое, а…»
Придавленная им, она терпела, как терпела когда-то под Мишкой и как терпела бы под любым другим своим мужчиной, преждевременно сраженным избытком страсти. Распавшись, они некоторое время молчали, пока он не сказал:
«Пожалуй, надо чего-нибудь выпить. Хочешь?»
«Нет. А ты выпей…»
Он встал, запахнулся в халат и пошел на свою половину. Пока он ходил, она посетила ванную и подобрала разбросанную одежду. Он вернулся с бутылкой виски.
«Я передумала. Пожалуй, я тоже выпью» – сказала она.
Он налил и подал ей полстакана виски. Она, не отрываясь, выпила до дна и со стуком поставила стакан на столик. Затем сбросила халат, откинула одеяло на край кровати и легла, поманив его невянущей наготой. Он потушил свет, и они продолжили.
«Поцелуй меня!» – велела она, бесстыдно разбрасывая ноги.
Он заботливо расположил ее поперек кровати и опустился на колени. Погрузив в нее лицо и шаря по ее телу слепыми жадными руками, он довел ее до состояния глухого волнения, дал отползти от края, после чего припал к ней и заполнил до отказа. Не считая вчерашней полуобморочной пытки, это был ее первый полноценный контакт после почти трехгодичного воздержания. Запрокинув голову и закрыв глаза, она несколько минут прислушивалась к тому, как тугие мерные усилия распирают ей бедра, наполняя ровным теплом и обещанием чего-то судорожного и неведомого. Почувствовав, как ОН бьется головой в неизведанное дно ее хлюпающего озера, она обхватила любовника руками и ногами и заспешила ЕМУ навстречу, приговаривая: «Сильней, сильней!». В ответ он выпрямил руки, прогнулся и, отбросив политесы, принялся с размаху вгонять в нее свою непомерную сваю.
«Еще сильнее!» – просила она, ухватив его за руки выше локтей. Он начал потеть.
«Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста!» – умоляла она, пытаясь удержать соскальзывающие пальцы. Он засопел и запыхтел, сопровождая свои старания сырым шлепаньем.
«Лешенька, миленький!» – задыхалась она, и по тому, как он вдруг сбился с ритма, поняла, что все кончено. Что ж, теперь его можно пожалеть. Только кто пожалеет ее?
Он подкатился и затих у нее на груди в ожидании материнской похвалы.
«Ты успела?» – спросил он.
«Да, два раза. Ты молодец…» – ответила она в воронку его затылка.
«Ты обещала рассказать о себе…» – напомнил он.
«Да, помню… За два с половиной года после смерти мужа ты у меня первый мужчина…»
«Бедная моя… Сочувствую… Не волнуйся, теперь воздержанию конец. Я измучаю тебя, обещаю!»
«А я тебя, но при одном условии…» – сказала она.
«Каком?»
«Я никогда не делала и не буду делать минет»
«Согласен! Не царское это дело!»
Ах, какой мужчина! Какой дивный мужчина! И, кажется, не на шутку влюблен! Ну, почему она его не любит?
Любовником он оказался ненасытным, но потливым и бесплодным. С какой стороны она к нему ни заходила, добиться оргазма не смогла. Новый опыт ее изрядно опечалил: уж если бесполезным оказалось орудие ТАКОГО калибра, на что же тогда можно было надеяться?
Возвращались, отмеченные капризным жребием судьбы: он с запавшими, тающими от нежности глазами, она – тихая и повзрослевшая. В Питере их ждали февраль, мороз и полная луна. Войдя к себе домой, она сказала встретившей ее кошке Катьке:
«А я себе, Катюша, мужика завела…»
28
За все время их пребывания в Париже Наташе никак не удавалось запустить внутреннее судебное разбирательство по факту своего падения. Можно было, конечно, не принюхиваться к запаху морального разложения, а делать вид, что пациент вполне здоров и неплохо себя чувствует, как это делала страна, не замечая поразившей ее чумы, но тут уж дело хозяйское. А потому, оказавшись, наконец, наедине с собой и стараясь не глядеть на их с Володей фотографию, она принялась бродить по квартире, более всего заботясь о непредвзятости.
Итак, что для нее Феноменко, и что ему она? Кто она, в конце концов – расчетливая шлюха или слабая одинокая женщина?
Начать с того, что она живая, и ей нужен мужчина, чтобы по мере необходимости оказываться с ним голой и вульгарной в постели. И пусть она при этом не достигает упоения – без ЭТОГО портится характер и вянет кожа. Два с половиной года – достойный срок для траура, также как полгода достаточно, чтобы приглядеться к новому производителю гормонов. Рано или поздно освободившееся рядом с ней место должен был кто-то занять. И если сердце, или что там у нее, выбрало его, значит, на то были причины. Ну, почему сразу – материальные? Правильнее сказать: в том числе материальные. И не нужно прокурорской прямотой чернить ее мотивы – позвольте добавить в них белила смягчающих обстоятельств.
Да, он человек состоятельный, но в первую очередь он – талантливый юрист, вызывающий у нее, помешанной на профессии, искреннее уважение и, может даже, тайное преклонение, в котором она стесняется себе признаться. Да, он вольно или невольно способствовал ее обогащению, а разве всякая доброта не нуждается в благодарности? В итоге: уважение, преклонение, благодарность – весьма основательные чувства, заслуживающие того, чтобы выразить их самым убедительным способом. Между прочим, желая ее, он был деликатен и предупредителен, и будь она неблагодарной недотрогой, между ними все оставалось бы по-прежнему.
Да, сейчас она его не любит. Но ведь даже Наташа Ростова, фонетическое родство с которой она привыкла распространять на все свои устои, умудрилась уместить за короткое время у себя в душе две одинаковые по силе любви, и это во времена дремучего домостроя! Почему же с ней не может случиться что-то подобное? Конечно, полюбить кого-то, как Володю она уже не сможет, но разве мертвому этого недостаточно, чтобы не преследовать ее по ночам? И потом, это же не рабство, от которого невозможно бежать!
Таковы были доводы рассудка. Но как же тогда быть с пустынею души?
Что-то случилось с ней за последние два с половиной года. Она определенно ожесточилась, отсюда и неразборчивость. Одно дело – спать с кем-то без любви и совсем другое – за деньги, как бы ни пыталась она приглушить шелест купюр болтовней об уважении, преклонении и благодарности. Между прочим, если бы она отдалась первому встречному, было бы гораздо понятней и простительнее. Связавшись же с шефом, она предала Володю. И не надо себя обманывать: то, что она называет резким набором высоты, есть на самом деле стремительное падение, которое и вывернуло ее внутренности.
Если даже допустить отсутствие у нее меркантильного интереса (что на самом деле не так, но – допустим), то придется признать, что она спуталась с женатым и нелюбимым – горбатая, шокирующая глупость! И что еще важнее: тайна того, как из однообразных фрикционных движений рождается нестерпимое безумие, грозит при его участии остаться по-прежнему нераскрытой. В итоге имеем продажные, бесплодные, бесчувственные отношения. И это она называет возвращением к жизни?! Loveless love – любовь без любви, вот как это называется! Шлюха ты, да и только!
Так отчитало ее в сердцах униженное сердце.
Их поездка дала повод о них говорить. Особенно старалась Юлька, с которой Наташа к тому времени сблизилась на почве затейливой женской дружбы. Вульгарная, бесцеремонная, но не лишенная привязанности, Юлька жадно интересовалась деталями поездки. Обнаруживая удивительное знание подробностей, она спрашивала, в каком отеле они останавливались, жила ли она с ним в общем номере или в отдельном, заходил ли он к ней пожелать спокойной ночи, водил ли в «Мулен Руж», поил ли дорогим вином, брал ли с собой на совещания, был ли с ней в магазинах, предлагал ли что-нибудь ей купить, и так далее. Наташа умеренно возмущенным образом отвергла унизительные подозрения в свой адрес.
«Ты не думай, я не ревную, наоборот – мне так даже лучше! Ты же понимаешь, каково мне, замужней…» – понизив голос, фамильярничала Юлька, давая понять, что она девушка сообразительная и независтливая.
Когда он при следующей их встрече в очередной раз подкатился и затих у нее на груди, Наташа, невинно спросила:
«А что, Юльку Штейниц ты тоже водил в ювелирный магазин?»
Он оторвал голову, пронзительно посмотрел на нее и процедил:
«Юлька – дура, и тебе в подметки не годится!»
Затем снова уложил голову ей на грудь и оттуда добавил:
«Если честно, то было дело. Но с тобой у меня все по-другому. Я бы хотел на тебе жениться. Ты не представляешь, какие дела мы могли бы с тобой ворочать!»
Однажды звонок жены застал его перед тем, как они собирались лечь. Отвернувшись, он заговорил с ней ласково, по-домашнему, а в конце, понизив голос, сказал:
«Малыш, не волнуйся, я скоро буду!»
Она равнодушно исполнила свои обязанности и постаралась его поскорее выпроводить, после чего перестала бывать у него на Московском, сухо отвечала по телефону и отказывалась от встреч. В конце концов, он не выдержал и примчался к ней, требуя объяснить, в чем дело.
«Ты воркуешь по телефону с женой, а потом, как ни в чем не бывало, ложишься со мной в постель! Может, ты считаешь меня своей шлюхой?» – отступив на шаг, встала она перед ним, скрестив на груди руки.
«Но, Наташенька, солнышко мое! – растерялся поначалу он, пытаясь, видимо, вспомнить, когда это было. – Что бы и кому бы я ни говорил, знай, что для меня есть только ты! Ты же знаешь, ты же видишь – я делаю для тебя все возможное!»
И это была правда. Сразу после Парижа он сделал ее своей правой рукой, делясь с ней самыми лакомыми кусками, как если бы это был их семейный бизнес.
Он насильно завладел ее рукой, поцеловал и добавил:
«И если хочешь знать – с женой я уже давно не сплю! И уж если на то пошло, то вот тебе мое слово – я женюсь на тебе, обязательно женюсь! Ведь я люблю тебя, Наташенька, неужели ты не видишь?» – извлек он, наконец, из рукава затертый мужской козырь.
Через неделю после обещания жениться он явился к ней смущенный и рассказал о попытке объясниться с женой и как при этом неожиданно возникли истерические осложнения с дочерью, которая находится в переходном возрасте. Он попросил любимую Наташу проявить понимание и набраться терпения. Она тогда промолчала, он же взамен открыл ей доступ к новым источникам доходов, продолжая оставаться внимательным и щедрым там, где дело касалось ее настроения. Например, когда в конце мая ей должно было исполниться тридцать два, он увез ее в Париж, где перед этим тайно забронировал тот самый их номер, наивно полагая вернуть ее к неловкому и трогательному, как он считал, началу их близости. Откуда ему было знать, что вместо этого ее окатили чувства, какие неизбежно возникли бы у всякой щепетильной женщины при виде сарая, в котором ее обесчестили.
Все же, какими странными были их отношения! При всех его вроде бы твердых намерениях вместе они посещали только деловые мероприятия, не имея возможности бывать там, где их появление вызвало бы кривотолки. Например, на теннисных кортах, где он мечтал покрасоваться перед ней скороспелым аристократизмом, или в театрах и тесных компаниях. Дважды или трижды в неделю он появлялся у нее, чтобы два-три раза за вечер прилипнуть к ней и обсудить между делом нюансы бизнеса. Возмещая питерские неудобства, он часто брал ее с собой в Москву, где они могли проводить вместе ночи и бывать там, где обычно принято бывать супругам. И, разумеется, за ней были наперед забронированы все его зарубежные поездки. И хотя их насыщенные тесным общением и постелью встречи в совокупности своей создавали впечатление благополучного супружества, со стороны это выглядело так, будто он брал Наташу напрокат у ее квартиры и, попользовавшись, возвращал обратно.
И все же не сексом единым жив человек. Причины того, что она так долго сносила свое двусмысленное положение, заключались в тех горизонтах, которые он перед ней открыл. Глубины и просторы профессии – вот что удерживало ее рядом с ним, помогая сносить его пустые обещания и вызовы ее терпению. Будучи, как всякая женщина в меру консервативной, она была способна, тем не менее, поменять в себе и вокруг себя многое, если оно, по ее разумению, того стоило. Таких возможностей, как возле него она бы не имела долго, если бы имела вообще. И не потому, что они приносили деньги – в конце концов, за это она сполна расплачивалась своим телом. Но дела его могучих клиентов предполагали таких же могучих соперников, победить которых было в высшей мере почетно и радостно. Спорные суммы на кону исчислялись таким количеством нолей, что проигрыш грозил обратить в ноль не только гонорар успеха, но и репутацию. Взвесив шансы, которые в таких делах всегда подобны женщине, тщательно скрывающей беременность, следовало либо убедительно отказаться, либо взяться и потерять право на ошибку. Поначалу ей приходилось пускать в ход все профессиональные и эмоциональные ресурсы, изводя себя порой до такой степени, что праздновать победу не было сил. Никогда бы она не решилась на подобные испытания, если бы рядом с ней не находился он с его феноменальным чутьем, опытом и самообладанием.
Когда им случалось разбирать какое-то горячее дело, и он становился похож на проницательного полководца, планирующего диспозицию победного сражения, она, восхищаясь его точностью, краткостью, решительностью и рокочущей компетенцией, испытывала вместе с тем фамильярную снисходительность, вспоминая его Эдипову привычку искать у нее на груди похвалы своему мужскому достоинству.
С ним она была свободна от некоторых действий щекотливого характера. Например, помимо извлечения из клиентов законной оплаты своего труда, часто похожего на извлечение звука из поломанного инструмента, она была избавлена от подкупа судейских – обычая столь же неприятного, сколь и привычного, в котором ей виделось унылое и безнадежное свидетельство общественного бессилия. В сравнении с ним даже циничный девиз Феноменко «клиент всегда прав, даже если он не прав, при условии, что он платит», мог бы считаться верхом благородства, способным занять место на его будущем дворянском гербе.
29
Следом за масштабами ей открылась глубина.
Он заставил ее подтянуть английский и увлек в международное право. Довольно скоро она овладела шаблонами делового письма и усвоила необходимый словарный запас, чтобы вести переписку и уверенно чувствовать себя на переговорах. Пять раз она выезжала с ним в Стокгольм, чтобы ассистировать шведским партнерам на заседании Арбитражного суда, где впервые познала неподкупную, уважительную силу европейских институтов. Несмотря на их внешнюю простоту и разумность, обращение с ними требовало высочайшей квалификации, и поскольку выливалось в состязание умов, а не кошельков, то и решения, принимаемые ими, можно было по праву считать истиной в последней инстанции. Именно из-за подобных открытий она великодушно прощала ему паралич воли и свое невнятное положение. Простила даже тот отвратительный случай, что произошел однажды в марте во время их короткого летучего визита в Стокгольм.
Из-за спешности им пришлось довольствоваться непритязательным, не соответствующим их статусу отелем, где демократичные, распущенные кровати гулким стуком спинки о стенку, как деревянным кулаком сообщали о совокуплении очередной парочки.
Он, как водится, получил свое и перебрался на соседнюю кровать. Посетив ванную и смыв следы его визита, она повозилась, повздыхала и уснула. Ей приснилось, что она в непривычно короткой, не скрывающей голых бедер сорочке находится среди одетых людей. Ей стало стыдно и захотелось убежать, но ноги не подчинились, и тогда она поспешила проснуться и открыть глаза. Тлеющая темнота номера отличалась от сумрачного пространства сна тем, что в ней жил голый, смутно белеющий призрак. Она испугалась и коротко ахнула.
«Это я, это я!» – забормотал призрак голосом Феноменко, и тут она проснулась окончательно.
Подол ее сорочки забрался ей на живот, а стоявший на коленях Феноменко оглаживал ее раздвинутые бедра. Как и когда он там оказался?! Рывком подтянув сорочку к подмышкам, он обнажил ее грудь и принялся месить короткими, твердыми пальцами.
«Леша, ты что, с ума сошел?! Что ты делаешь?!» – возмутилась она, отказываясь принимать сюрреализм происходящего.
«Иди ко мне, мое солнышко, иди скорей…» – навалившись на нее, пытался он целовать ее лицо.
Она растерялась, но вдруг мутная злоба затмила ей белый, если так можно выразиться ночью, свет. Вместо того чтобы уступить, она уперлась руками ему в грудь и принялась выворачиваться.
«Не хочу, не трогай меня, уйди, дурак!» – шипела она, пытаясь бороться, но он, утвердившись на ней неповоротливым бревном, по-жабьи раскинул жирные ляжки и подмял ее под себя, лишив возможности барахтаться. Тогда она впилась ногтями ему в спину. Глухо зарычав, он поймал и стиснул, словно клещами ее руки, рывком завел их ей за голову и придавил всем телом, как горой.
«Уйди, гад, уйди!..» – мотала она головой, спасаясь от его кислых торопливых поцелуев. Ему пришлось освободить руку, чтобы помочь своему уродливому, каменному снайперу поймать трепещущую цель. Она воспользовалась этим и, стиснув зубы, принялась свободной рукой таскать его за волосы, пока он, справившись, не вернул ее на место, после чего принялся продираться в ее глубины. К ее злобе прибавилась сухая боль. Она задергала ногами и запрокинула голову: «Пусти, пусти, гад, бо-ольно-о-о!..», но он грубо и безжалостно заполнил ее своим тугим безразмерным нетерпением и сначала медленно, а затем все быстрее задвигался на ней.
«Гад, гад, урод!» – сотрясаемая его напором, выталкивала она из себя в темноту.
Кровать набрала ход и застучала о стенку, как поезд на стыках. С ужасом обнаружив свое полное бессилие, страдая от боли и унижения, она заплакала.
«Гад, гад, урод, тварь!» – давилась она словами и слезами.
Деревянный поезд, разогнавшись и равномерно постукивая, бежал в ночи среди молчаливых неоновых бликов, и вскоре тугое чавканье громко и некрасиво оповестило мир о предательской неразборчивости ее арфы, готовой, как оказалось, распевать в любых руках. Умирая от стыда и отвращения, она залилась слезами, подвывая тоненько, по-детски.
Похожий на уродливую пыхтящую жабу, ее благообразный любовник обратился в бездушную маслобойку. Он сопел, пыхтел, потел, неутомимо и размашисто гоняя туда-сюда свой набухший масляный поршень. Его одержимое усердие передалось кровати, и та, скрипя коленями и раскачиваясь, словно в трансе, обнаружила в его занятии неожиданный смысл, который извращенный наблюдатель вполне мог понять, как эстетическое резюме некоего перформанса, где голый пациент сумасшедшего дома, для которого женское тело – всего-навсего эластичная муфта, превращает кровать в метроном, предлагая уловить в его гулком, бездушном монологе отзвук космических ритмов.
Она вдруг сдалась и ослабела. Зажатая между пирсом кровати и грузной баржей его тела, она колыхалась, словно попавшая в плен волна, отзываясь сырым шлепаньем и издавая тот безвольный, безродный звук, который получается, если к искусственному дыханию добавить мычащую жалобу. Неожиданно что-то мутное, уродливое и незаконное взорвалось у нее в паху и растеклось по телу с горячим стыдом и отвращением. Голова ее запрокинулась, глаза закатились, сознание помутилось, и первобытный утробный стон расправил горло. Ее мучитель перехватил и проглотил его, словно возбуждающую таблетку, после чего запрыгал на ней с еще большим остервенением.
Оглушенная взрывом, сраженная тупой покорностью, она различала густое некрасивое чавканье ее лона, куда она вопреки своей воле добавила зычный и сочный подголосок. Ей чудилось, что пот, которым обливался ее насильник, скапливается у нее в паху, и оттуда, щекоча промежность, стекает на постель. В сыром шлепанье ей слышались мокрые дьявольские аплодисменты, брызги от которых летели во все стороны. Ей казалось, что еще немного, и она сойдет с ума!
Ее закинутые за голову руки находились в его распоряжении, и он принялся ползать по ним пляшущим ртом, оставляя на нежной сливочной коже болезненный щекочущий след. Спустившись к ее подмышке, он широким влажным языком принялся лизать пряную складку, едва не доведя ее дрожащую руку до конвульсии.
«Ну, не на-а-адо!..» – дергая рукой, простонала она, не узнавая свой сдавленный жалобой голос.
Он отстал и еще сильнее навалился на нее.
«Тяжело…» – произнесла она тем же придушенным голосом.
Тогда он, не снимая с ее запястий наручники железных пальцев, напряг руки, сгорбился и освободил ее грудь, после чего, неловко изгибаясь, принялся гоняться за ней, стараясь совместить в прицеле жадного рта тяжелый ритм маслобойки и норовистые соски.
«Хватит, хватит, не могу больше, не могу, не хочу-у-у!» – вдруг простонала она и вновь принялась выворачиваться, чувствуя, как из-за боли в быстро и зверски покусанных сосках, из-за сдавленных запястий, из-за тупого головокружительного ритма и стесненного дыхания у нее вот-вот начнется бурная истерика, которая даст ей нечеловеческие силы и пустит под откос проклятый поезд.
Он не послушался, а напротив, обрушился на нее и, сдавленным уханьем заглушая ее прерывистые жалобные стенания, принялся размашисто насиловать, терзая ее разбухшим до предсмертных размеров зверем, с каждым погружением приближавшимся к разрушительному апофеозу. Неизвестно, что с ней случилось бы, если бы не чутье ее муфты сцепления, которая по одним только ей известным признакам подсказала о приближении конечной станции, смирив тем самым ее порыв.
И действительно: в движении локомотива наметилось суетливое беспокойство, и вместо того чтобы тормозить, он добавил жару. Сигналя о своем приближении частыми «а-а-а» пассажирки и собачьим дыханием машиниста, поезд влетел на станцию, сбросил ход и, потряхиваемый стрелками, пополз к перрону, где долго и жалобно освобождался от судорог, прежде чем затихнуть окончательно…
Ощутив слабину, она напряглась и, изловчившись, одним толчком рук и всего тела, скинула с себя гнусную жабу. Он неловко свалился на спину, не удержался на краю узкой кровати и сорвался туда, где его ждал глухой короткий стук. Она кинулась в ванную.
Закрывшись там, она с плачем принялась вымывать из себя его свинство. Дважды намылилась и смыла его гадкий пот, и потом еще долго стояла под душем, пытаясь успокоиться. Вернувшись в комнату, она бросилась на кровать, завернулась в одеяло и разрыдалась в подушку.
Он встал на колени у ее кровати – голый, липкий, волосатый – и принялся успокаивать:
«Наташенька, ну посмотри на меня! Ну, успокойся!»
Она резко повернула к нему лицо и выкрикнула:
«Сволочь! Грязное, мерзкое животное!» – после чего спрятала лицо в подушку.
Он смутился и попытался через одеяло погладить ее.
«Не трогай меня, грязная свинья!» – рыдала она.
Он обиделся и удалился в ванную. Вернувшись, забрался в свою кровать, и через несколько минут она услышала его сонное сопение.
Она еще долго лежала с открытыми глазами, горестным шмыганьем подытоживая унизительный урон и спотыкаясь о немигающие неоновые отсветы на потолке, которые подглядывали за ней подобно государственным интересам.
«Шлюха, подстилка, содержанка, так тебе и надо!» – изводила она себя, прислушиваясь к саднящему нытью остывающей дырки, которую ей прожгли между ног. Перед тем как провалиться в скорбный сон, доля неуместного любопытства, всегда присутствующая во всяком горе, вернула ее к тому незнакомому, мутному и уродливому, как лопнувший нарыв извержению, чья лава, словно гной растеклась по ней с горячим стыдом и отвращением.
«О, господи, неужели это и есть ваш хваленый оргазм? Тогда лучше избавьте меня от него…» – простонала она.
На ее счастье они уезжали в тот же день, иначе невозможно представить, как бы она провела с ним еще одну ночь. Все время, пока они добирались до Питера, она не глядела на него и молчала, отвечая только в крайних случаях и в сторону. Она даже не предъявила ему синяки на запястьях. В аэропорту она, не обращая внимания на его заплечные уговоры, взяла такси и уехала.
Целый месяц она не появлялась у него в бюро, сбрасывая звонки, которыми он ее изводил, и говоря ему через дверь, чтобы он убирался прочь. Немного потоптавшись, он так и делал, после чего подсылал к ней на работу Юльку. Та говорила Наташе, что ей лично все равно, что у них там случилось, но, между прочим, на шефа страшно смотреть и он даже начал пить, на что Наташа отвечала: «Да пусть он хоть сдохнет!»
Через месяц она подумала:
«А что, собственно, случилось? Девочка оказалась не в настроении? Девочке показалось, что она уже большая и важная? Хватит дурить – сама виновата! Надо было не выкобениваться, а расслабиться и получить удовольствие!»
И еще она спросила себя, откуда родом эта внезапная злоба, что помутила ее разум. Ответ здесь был слишком очевиден: он позволил себе оскорбительную бесцеремонность, которая поставила ее в один ряд с проститутками, тогда как она в порыве самобичевания если и относила себя к таковым, тем не менее, ревностно следила за переносным смыслом этого слова.
На следующий день она ответила на его звонок и, поводив на крючке еще две недели, приняла его. Переступив порог, он взглянул на нее, и в глазах его обнаружилось новое для нее собачье унижение. Он явился со своим чертовым «Шато Марго», цветами и небольшой черной коробочкой.
«Неужели кольцо?» – подумала она. Но нет, там оказалась роскошная бриллиантовая подвеска.
«Что это?» – разочарованно спросила она.
«Мои глубочайшие извинения…» – склонился он.
«И сколько они стоят?»
«Зачем тебе, Наташенька?»
«Хочу знать, сколько стоит меня изнасиловать!»
«Но Наташенька!..» – умоляюще склонился он, и далее последовали оправдания, которые скопились у него за полтора месяца. В тот вечер он был воздушно нежен и до смешного робок, опасаясь и избегая ее малейшего неудовольствия.
Уже потом, когда история эта приобрела все признаки досадного недоразумения, он мечтательно делился с ней в темноте:
«Знаешь, Наташка, когда в соседнем номере застучала в стенку кровать, я проснулся и страшно возбудился! Ничего не мог с собой поделать! А когда ты стала сопротивляться, вообще озверел! Никогда в жизни не испытывал такого кайфа! Ты вот обиделась, а между прочим тебе ведь тоже было хорошо, я знаю – ты никогда раньше ТАК не стонала!»