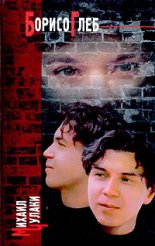Неон, она и не он Солин Александр

– Хорошо. Где, когда?
– Где хочешь и когда хочешь! Это в первую очередь тебя касается!
– Тогда завтра. У метро «Московские ворота», в час дня.
– А почему не «Парк Победы?»
– Нет, у «Московских ворот»! – отрезал он.
Назавтра он ждал ее в условленном месте, ломая голову, зачем ей понадобился. Она опоздала всего на десять минут. Видимо, дело действительно важное.
– Пойдем, прогуляемся! – сказал он, коснувшись губами ее щеки.
Выглядела она неплохо – исчезли легкие тени под голубыми кукольными глазами, на щеках играл румянец. Видно, спать она стала дольше и крепче, чем в одной постели с ним.
– Хорошо выглядишь! – похвалил он ее. – Я же говорил, что без меня тебе будет лучше!
– Нет, Максимов, без тебя мне плохо! – резко ответила она.
– Что случилось, Ириша? – смутился он.
Она остановилась, порылась в сумочке, достала платок, промокнула им кончики глаз и беспомощно пробормотала:
– Дима, я беременна…
– Вот это здрово! Поздравляю! – искренне обрадовался он. – Я же говорил, что у тебя все будет хорошо!
– Ты не понял… Я беременна от тебя…
– Как… от меня? Когда? – вытянулось его лицо.
– Ну, тогда… помнишь… месяц назад, когда я прощаться приходила… Веры Васильевны еще дома не было… – отводила она глаза.
Он молчал, пытаясь уместить новость в голове.
– Зачем, Ира? – наконец спросил он.
– Потому что я люблю тебя, и мне без тебя плохо! – некрасиво скривилось ее лицо.
– То есть, ты решила удержать меня таким способом? – с тяжелым недоумением произнес он и резко спросил: – И почему я должен верить, что это мой ребенок?
– У меня справка от гинеколога есть, вот, смотри! – суетливо полезла она в сумочку. – Вот, смотри, срок – около четырех недель! Видишь? Все совпадает!
Вскинув на него голубые преданные глаза, она совала ему бумажку, а он отталкивал ее руку, чувствуя, что готов ее ударить и зная, что никогда этого не сделает.
– Зачем, зачем, ну, зачем? Ты можешь мне сказать – зачем ты это сделала? – почти кричал он в ее широко раскрытые глаза.
Она заплакала. Проходившие мимо люди оборачивались на них.
– Ну, все, все, успокойся! – взял он ее за плечи. – Успокойся, мы что-нибудь придумаем!
– Что придумаем? – осветилось надеждой ее обворожительное кукольное личико со слипшимися ресницами.
– Мы сделаем аборт у самого лучшего врача! Ведь еще не поздно?
– Дима! Ведь это твой ребенок! – раскрылись до крайней степени ее глаза. – Что ты такое говоришь! Ведь ты всегда хотел детей!
– Я? Неправда! Я никогда тебе такого не говорил, и мне не нужен этот ребенок!
– Дима… – сморщилось и намокло ее личико, – что ты такое говоришь… Ведь я думала, что ты обрадуешься…
Черт, черт, черт! Ну, как ей объяснить, что он не любит ее и что ему не нужны ни она, ни ее будущий рбенок, даже если это его ребенок?! Ну, почему он должен быть таким жестоким?!
– Ириша, Ириша, послушай меня… – торопливо и умоляюще заговорил он. – Я дам тебе денег, сколько скажешь, только сделай аборт, я тебя прошу! Пойми, я не смогу быть с тобой, не смогу! Ты, конечно, можешь оставить ребенка, и я, конечно, буду вам помогать, но зачем тебе это? Все пройдет, и ты встретишь другого человека, лучше, чем я – надежного, достойного, ведь ты настоящая красавица и умница! Зачем тебе ребенок? Он будет тебе только мешать! Ну, Ириша, милая моя, ну, послушай меня! – заглядывая в гаснущее лицо, встряхивал он ее за плечи.
Она повела плечами, освободилась от его рук, затем осушила платком слезы и сказала чужим голосом:
– Ты подлец, Максимов, и мне не нужны твои деньги, и сам ты мне больше не нужен. Ты трус и ничтожество и мне жалко тех лет, которые я провела с тобой. Я уйду, но знай, что ты еще пожалеешь об этом…
Она повернулась и ушла, стараясь держаться прямо, а он остался и глядел ей вслед, пока она не затерялась среди прохожих…
Вечером Наташа, пристально глядя нас него, сказала:
– Вы, Дима, сегодня какой-то озабоченный. Я бы даже сказала, невеселый!
– А, пустяки! – отмахнулся он. – Это оттого, что рынок дурит!
– Кстати, давно хотела вас спросить про этот ваш рынок. Что это такое и как на нем зарабатывают?
И он с напускным усердием принялся расписывать то невидимое глобальное чудовище, которое, являя людям лишь свой пульс, героиновыми пальцами зависимости держит мир за горло, бывая иногда щедрым, но чаще коварным и беспощадным.
– Теперь все на нервах, потому что ждут большой коррекции, – закончил он.
Она слушала его внимательно, а в конце пожелала ему быть осторожней и не нервничать.
– На войне, как на войне, – пожал он плечами, – а в финансовой войне мира не бывает.
Что же касается Ирины, то поразмыслив, он пришел к выводу, что по большому счету его устраивает любой исход. И даже если она захочет родить, он к тому времени уже успеет жениться на Наташе и найдет нужные слова (а тут он честен перед ней), чтобы объяснить ей появление внебрачного ребенка. Тем более, что к тому времени он уже побеспокоится о зачатии их собственного. Он рассказал обо всем матери и, снабдив ее инструкциями и деньгами, отправил на переговоры. О чем уж они говорили, неизвестно, но вернувшись, мать плакала и даже назвала его бездушной сволочью. Еще неделю она заходила к нему со всех сторон, пытаясь пробить брешь в его сердце и запустить туда ангелов чести, совести и долга, но все напрасно. Он твердил:
– Скажи ей, что если она захочет родить, я обеспечу ее и ребенка.
Вскоре Вера Васильевна объявила ему с темным лицом:
– Радуйся, изверг, Ирочка сделала аборт!
И он, посчитав, что с прежней жизнью покончено, вздохнул с облегчением.
37
В их сближении не было той навязчивой озабоченности, с какой устремляются навстречу друг другу современные особи противоположного пола, одержимые намерением проникнуть с черного хода в храм Венеры, разграбить его и, поделив добычу, договориться о новом налете. Горожанин до мозга костей, он был чужд манере городского хвата, требующей поместить женщину в кильватер своего эгоизма, где ее от волн и качки непременно бы затошнило. Она, со своей стороны, не торопилась заказывать обстоятельные острые блюда, пытаясь тонким чутьем проникнуть в его кулинарные способности. Повествуя ему мягким, хорошо поставленным голосом о милых, отвлеченных от ее особы пустяках, она словно изучала меню их возможного любовного пиршества. Неспешно отступая под его обходительным натиском, она находила его все более занятным и симпатичным и все охотнее следовала за его сюжетами и мыслями. Ее уступки его крепнущему вниманию не выражались числом расстегнутых пуговиц на блузке души, а касались времени, которое она ему уделяла.
Подходила к концу шестая неделя их знакомства. За это время они узнали друг о друге все, что полагается знать романтичной парочке, желающей поддать жару своим чинным отношениям. Иными словами, пора было переходить к острым ощущениям, однако его почтительность по-прежнему превосходила его нетерпение, не позволяя ему выходить за рамки дозволенного, пока она сама того не пожелает.
В субботу первого декабря они отправились в филармонию. Приехали на сорок минут раньше и, подняв воротники, полчаса гуляли по Невскому. К вечеру похолодало до минус шести, и он, покидая машину, украсил босую голову купленной в Стокгольме клетчатой английской кепкой, где на подкладке из шотландки под вензелями и гербом было помечено: «Made in Britain». Он испытывал к этой фасонистой старинной модели слабость еще с тех пор, когда в восемьдесят пятом купил у фарцовщика за десять рублей что-то подобное и потертое. В ней он представлялся себе заправским англичанином. Рядом с ним, прикрыв голову беретом и плавно покачивая бедрами под черным приталенным пальто, медленно шла она. Было безветренно, и стыдливо потупившиеся фонари, воздень они глаза к небу, не увидели бы там ничего, кроме оранжевой бездны.
В высоком, отполированном звуками зале аншлаг. В красных королевских креслах юбки, футболки, свитера, джинсы, записное музыкальное население и умудренные дети: сидят, ждут откровения и нечаянной фальши. Перед ними сцена, на ней рояль – черное хранилище лаковых звуков, куда возможно попасть, только введя сложную комбинацию нот. В лучах света, как в лучах славы появляется исполнитель – бывший наш человек, предпочитающий жить за пределами. Его авансируют аплодисментами. Тени великих занимают места в глубине сцены, и концерт начинается.
В тот вечер в числе прочего исполнялись прелюдии Рахманинова. Он не был силен в нумерации, но мог сказать – вот это он слышал, это тоже, а эту вещь знают все.
Вздыхают где-то колокола – тихо, строго, величаво, отдаваясь эхом в высоком чистом небе. Покоем и покорностью пропитан мир. Удел известен, порывы неуместны. Не нам решать, не нам решать, не нам решать… Но вот пробежала промеж ними дрожь несогласия, задела за живое, раскачала, возмутила, и пошли они гудеть, наступая и окружая, утверждая и возвещая. Или это мы приблизились к чему-то важному и сокровенному? Кажется, вот-вот откроется тайна, но колокола, обуздав порыв и раздумав откровенничать, стихают. Тает укрощенный смирением звук. Тает, тает, тает, пока его не подхватывают благодарные, прочувствованные аплодисменты…
– Супер! – растроганно восклицает он с увлажненным взором.
– Прелюдия номер два… – роняет она.
После короткой паузы следуют бурные, ликующие, срывающиеся пассажи. Крепкие, гибкие пальцы обрушиваются на клавиши, и звуки сыплются из распахнутого рояля словно цветные искры. Они подхватывают и возносят земную душу к неземному счастью, к обретению последнего смысла, к великой и вечной радости. В какой-то момент они, словно опомнившись, пытаются обуздать себя, обрести рассудительность, но счастье так велико, что сметает рассудок и отдает предпочтение безрассудству. Вот вам, вот вам, вот вам, благоразумные!!! В ответ музыкальный народ приходит в неистовство.
Аплодируя, она поймала себя на том, что слушает рассеяно: сегодня она, наконец, пригласит его к себе, а там как получится…
К десяти часам все кончено, истекли два часа душевного времени. Публика, настроенная пианистом на единый лад, покидает святилище, разнося по городу атомы сердечной гармонии.
Назад ехали минут пятнадцать, и весь путь он был оживлен и разговорчив. Она, напротив, молчала. Когда приехали, и он, проводив ее до подъезда, приготовился раскланяться, она опередила его и предложила:
– Не хотите подняться ко мне?
От неожиданности он смутился.
– Неудобно, Наташенька, поздно уже…
– Вы что, куда-то торопитесь?
– Мне кроме вас торопиться не к кому!
– Тогда пойдемте! – повернулась она и приложила к двери секретную кнопку.
Они покинули компанию осенних фонарей под ясным черным небом, вошли в гулкий подъезд и притихли перед лицом красноречивых обстоятельств. Попав на пятый этаж, они проникли в ее квартиру и замуровали себя металлической дверью. Он помог ей снять пальто и снял куртку.
– Это моя кошка Катька, – сказала она, махнув рукой в сторону кошки, что возникла перед ними, щуря сонные глаза. – Вот вам тапочки.
– Ах, какая чудная кошечка! – присев перед кошкой, откликнулся он, пряча смущение за радушным тоном. Должен ли он снять пиджак? Не услышав приглашения, он остался в нем.
Под ее громкие деловые реплики они пошли осматривать квартиру, которая оказалась весьма недурна. Она так подробно расписывала расположение и набор удобств своей жилплощади, как будто он явился по объявлению, чтобы снять ее. Миновав среди прочих одну из комнат, она махнула в ее сторону рукой и сказала:
– Здесь у меня спальная. Извините, не показываю – там бардак!
Он с замиранием вообразил мятую постель и брошенное на нее нижнее белье, пахнущее ее телом, и даже вообразил полное флаконов, спреев и тюбиков трюмо с зеркалом, как у матери. В гостиной он заметил на стене большую фотографию, на которой ее обнимал красивый мужчина. Касаясь головами, оба беззаботно и радостно смеялись. Он испытал ощутимый укол ревности и, вежливо улыбаясь, похвалил:
– Замечательная квартира, просто замечательная!
Потом они устроились на кухне, и она принялась собирать на стол. Он сидел, комкая руки и не зная, о чем говорить: небывалая робость одолела его. Заметив телевизор, он спросил, можно ли его включить – там сейчас должны быть новости.
– Вот вам лентяйка, ищите! – сухо сказала она и положила перед ним пульт.
Он включил телевизор и добавил звук. Иначе, казалось ему, она услышит набат его сердца. Кроме того, нехитрая правда, что струилась с экрана, могла дать повод для остроумных реплик. Мужское молчание и говорливость – две крайности, и обе подозрительные.
Она двигалась по кухне, открывала дверцы, выдвигала ящики и звенела посудой, незаметно поглядывая на него. Оставаясь в джинсах и застегнутой кофте, не позволявшей пуговицам, кроме верхней никаких вольностей, она тем самым как бы давала понять, что хоть и уступила еще на вершок, но обоюдная сдержанность по-прежнему их рулевой. Намек, конечно, прозрачный, но излишний – он со своей стороны не смел и мысли допустить о чем-то большем, чем стесненное чаепитие. Она вежливо поинтересовалась, какой чай и с чем он желает, тем же тоном поведала о своих вкусах и, закончив накрывать на стол, уселась напротив:
– Прошу, угощайтесь!
Они принялись за чай, и он спросил, что она делает завтра и не желает ли побывать у него в гостях. Он познакомил бы ее с матерью, которая этого очень хочет, и приготовил бы для нее что-нибудь вкусное.
– Не знаю, посмотрим. В принципе, завтра я свободна…
Он рылся в голове, отыскивая там веселую историю, которой мог бы прогнать стеснение. «Это я уже рассказывал, это неприлично, это пошло, это гадость, это не для женских ушей…». Его красноречие сменилось косноязычием, она же со своей стороны не делала ничего, чтобы облегчить его участь. Разговор не клеился, и, растянув неловкость на час, они отправились в прихожую прощаться, так и не решившись назвать вещи своими именами. Он надел куртку и стоял спиной к двери, глядя на хозяйку.
– Спасибо за содержательный вечер… – начала она не без иронии, и тут он вдруг сделал шаг и приблизился к ней лицом с ясным и дерзким намерением.
Она застыла и закрыла глаза.
– Наташа… – выдохнул он и коснулся ее губ.
Уклоняться она не стала. Новые губы – новые паруса, новое плаванье…
38
Он не набросился на нее, что было бы вполне естественно для спущенного с цепи кобеля, а осторожно взял ее за плечи и чуткими мягкими губами принялся изучать ее лицо. Он прикасался к ее коже ровно настолько, чтобы прикосновение было ощутимым и, задержав его, так же тихо отступал, унося с собой нежный жар дыхания. Затем возвращался к ее губам и начинал любовную молитву с новой строки. То, что он делал, можно было назвать пароксизмом обожания, воспалением страсти, инъекцией любовной инфекции. Она стояла, опустив руки, закрыв глаза и едва дыша. Он отстранился от нее. Она, следуя ритму его поцелуев и обнаружив вдруг, что этот ритм нарушен, открыла глаза. Он с восторгом смотрел на нее.
– Наташенька! – тихо проговорил он. – Ты не представляешь, как я тебя люблю!
Она снова закрыла глаза. Кошка Катька подошла к ним и уселась, глядя на них немигающим взглядом. В кухне бормотал телевизор. Он снова оторвался от нее и почти шепотом спросил:
– Можно я останусь?
– Можно… – так же тихо ответила она, освободилась и отступила, позволяя ему раздеться.
– Можно я сниму пиджак? – спросил он с мальчишеской робостью.
– Можно! – разрешила она, едва сдерживая улыбку.
Он подошел к ней и взял за руку, не сводя с нее глаз:
– Наташенька…
– Да…
– Я никогда не позволю себе того, чего ты не хочешь… Скажи мне, что я должен делать…
– Иди в ванную, там есть халат…
Халат достался ей от Феноменко.
Он заторопился в ванную, а она прошла в спальную, разобрала постель и приготовила роскошную золотисто-шоколадную комбинацию. Выйдя из спальной, она увидела его, стоящего вопросительным знаком с одеждой в руках, и смутилась: халат на нем подтянулся, расправился и казался вполне довольным. Ей словно вдруг открылось существование тайной воли вещей, с которой они, меняя начинку, правят нашей жизнью.
– Брось сюда, – отводя взгляд, указала она ему на кресло.
Он с готовностью положил туда одежду и застыл с тем же вопросительным видом.
– Иди, ложись, я скоро вернусь, – указала она на дверь спальной и отправилась в ванную.
В спальной он в самом деле обнаружил трюмо, полное флаконов, спреев и тюбиков. Сев на кровать и резко напрягая тело, он попробовал унять приступ мелкой дрожи. Его состояние сейчас ничем не отличалось от лихорадочной пытки его первого опыта, что случился двадцать лет назад. Даже с Мишель все было проще, не говоря уже про дальнейшие его истории, когда он обходительно и быстро прибирал женщин к своим ласковым рукам и делал с ними, что хотел.
То, на пороге чего он находился, не укладывалось у него в голове. Ему готовилось сказочное угощение, а он, напротив, был не прочь поголодать. Ведь через какие-то двадцать минут их отношения изменятся навсегда. Нет, нет, он не будет любить ее меньше, наоборот, он будет любить ее еще крепче, потому что именно после ЭТОГО он станет ее законным мужчиной. И все же… И все же исчезнет восхитительный ореол ее отстраненной недоступности и его спазматического обожания. Исчезнет то, что никогда с ним больше не повторится, потому что она его последняя земная любовь.
Она вошла – в мягком до пола халате, с распущенными волосами и розоватым по воле светильника лицом. Увидев, что он не в кровати, она сказал:
– Ну, что же ты, ложись! – и потушила свет.
В какое тонкое белье облачила она свое чудное тело! Какого бережного обращения требовала паутина окаймлявших его снизу кружев! Как послушно сдался благородный шелк, скользнув шуршащими складками через воздетые к небу руки, теряя искры, холодея и подрагивая! Шелковый шелест капитуляции перед беззащитной шелковой наготой.
Каких усилий ему, теряющему рассудок, стоило неторопливое путешествие ладоней и губ по атласу ее тела, начиная с лодыжек и кончая заветным пунктом назначения, путь к которому лежал через ее губы, грудь, живот и прочие не менее важные объезды, полустанки и станции. Прогулка распалила его восклицательный знак до такой степени, что когда этот самый конечный пункт оказался в умопомрачительной доступности, он почувствовал, как тугая смерть, выражаясь поэтически, намеревается сразить его в самый неподходящий момент. Он заторопился в гости, но едва добрался до порога прихожей, как зелье, что так долго варилось на медленном огне, вдруг вскипело и сбежало, затопив собой весь мир…
– Господи, какой позор! – с жалкой улыбкой простонал он ей в плечо.
Она ощутила ягодицами неприятную сырость и с досадой подумала: «Да что же это такое? Я вам что – слабительное?»
– Давай встанем, нужно поменять простыню…
– Извини, – пробормотал он.
Они набросили в темноте халаты, после чего она включила светильник. Он ушел в ванную, а она принялась исправлять его неловкость. По простыне уже расползлось мокрое пятно, размеры которого, между прочим, ее приятно удивили. Кажется, невозможно было красноречивее выразить его производительные возможности и размер застоявшейся страсти.
«И это всё чуть не оказалось во мне!» – с веселым ужасом представила она. Расправив перед собой на вытянутых руках его любовное послание, поглядывая на дверь и испытывая тайное и стыдное любопытство, она торопливо поднесла пятно к светильнику и, подставляя так и сяк, ловила его остатками перламутровую игру света. Завершив исследование, она скомкала простыню и кинула ее под кровать.
Он вернулся и, по-прежнему виновато улыбаясь, наблюдал, как она заправляет чистую простыню.
– Ложись, – деловито велела она.
– А ты? – спросил он, видя, что она не собирается ложиться.
– И я! – откликнулась она. – Ложись, ложись, я сейчас приду…
Она сходила в другую комнату, вернулась с запечатанной бутылкой коньяка и двумя бокалами, и они, забравшись в кровать, сели и накрылись по пояс одеялом. Теперь, когда запреты пали, он сказал:
– Наташенька, у тебя изумительное тело!
– Спасибо, я знаю…
Он молча пил коньяк, отправив длинный состав со словами в самое ближайшее будущее, куда он вместе с ангелами, привлеченными истомленным в восьмилетнем заточении ароматом, вот-вот прилетит победителем на крыльях любви. Он слышит шорох их одежд, он чувствует их помощь и благословение. Ни одной женщине еще не удавалось устоять против его протяжных и сладких пыток! Он поставил пустой бокал на столик и стал ждать, когда она сделает то же самое.
Кажется, она зря переживала: судя по поцелуям, дело свое он знал. Уже в прихожей она оценила их пугающее волнение, постель же это только подтвердила. И очень жаль, что он не пропел свою песню до конца. Впрочем, с ее дефектом будущие ощущения имеют лишь сравнительно-познавательный характер. Она допила коньяк, поставила пустой бокал на столик и обернулась к нему. Их взгляды встретились, и по его глазам она догадалась, что он готов петь дальше. Выключив свет, она повернулась к нему и тут же оказалась в его объятиях.
На первый взгляд он не предпринимал ничего сверхъестественного. Но прикасаясь и прижимаясь к ней, он необъяснимым образом возбуждал в ней теплые быстрые токи, ласковые толчки, внезапную дрожь, что вместе сливались в напряженную симфонию ощущений. Он придавал своим ласкам такую же обстоятельность, полноту и неожиданность, какие отличают настоящую поэзию от простых междометий. Вот он припал к тому месту, куда любил забираться и Мишка, и Феноменко. И опять все по-другому. Ее согнутые в коленях ноги подрагивали, то распадаясь, то сжимаясь. Хотелось выгнуться и застонать. Господи, только не надо ее после этого целовать! Пусть он останется там и продолжает наполнять ее трепещущим светом и теплом! И он остался там и наполнял ее светом и теплом до тех пор, пока она, уступая незнакомому, подрагивающему желанию, впервые в жизни не потянула к себе ласкающего ее мужчину, как если бы, ухватив за края, натягивала на себя мягкое, теплое одеяло. И тогда он взял ее за руку и повел за собой.
Они зашли по колено в прозрачную воду, и там она стояла под жарким солнцем, пока он, зачерпывая полные пригоршни прохлады, опрокидывал их на ее кожу, готовя к глубине. Потом они забрались по пояс и долго шли, пока не погрузились по грудь, и она почувствовала первые признаки легкости. Он остановился и, припав к ее груди, смыл ее запах со своих губ.
«Какой молодец! – подумала она. – Как он все верно делает!»
Он потянул ее дальше, и она испугалась: «Боюсь!..»
«Не бойся, ведь я с тобой!» – обдал он ее темным пылающим взором. И она поверила ему и пошла с ним дальше. Когда вода дошла до горла, он взял ее за бедра и скомандовал:
«Теперь плыви!»
«Боюсь!» – пискнула она, но он уже толкал ее на глубину, и она, не чуя под ногами дна, забилась и… поплыла!
«Я плыву, я плыву!» – извиваясь и разбрасывая руки и ноги, тоненько повизгивала она, а он плыл рядом и снисходительно улыбался.
«Боже, она плывет! Сама плывет!» – низким грудным голосом прорычал дьявол у нее в груди.
Она испугалась, и тут же ей в рот попала вода. Она попыталась выплюнуть воду, но набежавшая волна толкнула ее в лицо, и она захлебнулась ею. У нее перехватило дыхание, она закатила глаза и, кажется, на миг потеряла сознание. Он был рядом, и она, ничего не соображая, обхватила его, раздирая ему ногтями спину. Он же, вместо того чтобы подобно дельфину вынести ее на берег, вдруг сложил руки над головой и отпустил себя вместе с ней в пучину, прямо к центру земли. И там она, сотрясаемая судорогами асфиксии, вдруг услышала рядом с собой тонкий жалобный крик, словно у того, кто кричал отнимали жизнь. Но кто же это так тонко и жалобно кричит? Неужели он? Неужели ему так больно? Но почему же больно? Ведь это так сладко и бурно, так страшно и чудесно, что стискивает горло и перехватывает дыхание! Как смешно он кричит! Взрослый мужчина не должен так кричать! Пожалуйста, не кричи! Пожалуйста, уйди от меня, это невыносимо! Нет, подожди, не уходи! Нет, уйди, я больше не могу, не могу, не могу!.. Нет, останься, не уходи… не уходи, мой голубчик, не уходи… печальна жизнь мне без тебя… не уходи, прошу тебя, не у-хо-ди-и-и…
«Боже мой, неужели это кричала я?»
– Наташенька, родная, почему ты плачешь? – услышала она. – Я сделал что-то не так?
39
Пошлость, как и разврат, приходит вместе с пародистами.
Скажут про него: «Он слаб, он смешон, он нетипичен, он надуман». Скажут так и будут неправы, ибо он выше их и недоступен их костлявым локтям и грязным языкам.
Есть полотеры и есть полосёры.
Первые по мере сил превращают липкую тягучую субстанцию быта в тонкий защитный слой, позволяющий легче переносить наши трения с жизненным путем. Вторые, чья индоссированная интерпретация экзистенциальной тоски солидарно коррелирует с инверсией их имманентной агрессивности и чья психофизика ощущений детерминирована угнетенными комплексами бессознательного, только и ждут, чтобы влезть в грубых «гадах» на деликатную поверхность и устроить там грязные танцы с окурками. Этакие прищуренные оборотни нон-эскапизма, ехидные вампиры чужого креатива, скрывающие свой творческий срам фиговым листком контент-анализа. Гештальт у них покорежен, горизонт ожидания искривлен, наблюдается ускоренная ретардация страдательных органов, а строфоида их когнитивного континуума перекошена логарифмом психолингвистического раздражителя, отчего траектория их патологии атрибутивно шизофренична. В соответствии с публичностью их сервитута они аннигилируют генеративные свойства метаязыка и дискредитируют катарсис, подменяя их глумливым кодированием и декларацией скотских нравов. Самонаблюдение у них исключено из рациона, поскольку грозит обнаружить их убогую ущербность, которую они гоготообразно и ржущеподобно скрывают. Одержимые зубоскальством, они подобны тем, кто боится спать без ночника. Их упражнения хороши для мышц лица, но не для ума. Можно себе представить, какой завистливой ненавистью окружили бы они его чувство, реши он им открыться! Да кто они такие, чтобы быть судьями всем и вся?
Приблизительно так имел право думать он, лелея ее притихшую головку у себя на груди, погрузившись в близкий и чудный аромат ее волос и внимая раскатам своего возвышенного чувства.
Она же, потрясенная свершившимся, прислушивалась к остывающему эху того невыносимо сладкого безумия, что так нежданно-негаданно пережила. И в самом деле – может ли быть что-либо прекраснее тех огневых цветов, которые он ей подарил? Тех, что озарив мир, разгладили искаженное лицо печали и возвысили звук одинокой струны! Несомненно, это было ОНО, то самое, долгожданное и опустошительное, потому что сразу за ЭТИМ – только страшная и великая смерть! Боже мой, и ЭТОГО она была лишена все прошедшие годы! Кажется, она кричала и плакала. Господи, что он о ней подумает!
Она шевельнула ногой и тут же ощутила побочные последствия их союза. Оставив его, она повернулась на спину и потянулась за полотенцем. Приводя себя в порядок, она чувствовала, как он в неоновой темноте следует за ней взглядом. Пора было что-то сказать, и он сказал:
– Я люблю тебя, Наташенька, очень люблю!
Она промолчала, и он, нащупав под одеялом ее руку, продолжил:
– Ты у меня самая лучшая, самая чудная, самая страстная!
«Да, да, самая страстная…» – блаженно улыбнулась она.
– Я не спросил тебя, предохраняешься ли ты, потому что теперь ты моя жена, и мне все равно…
– Все хорошо, не волнуйся! – успокоила она его, а про себя подумала: «Нет уж! Теперь ни о какой беременности и слышать не хочу! Позвольте сначала насладиться запретным плодом!»
– Ты ничего не хочешь? – спросила она, больше всего желая сейчас остаться наедине с волшебным восторгом, что сиял в ней чудным, слегка утомленным августовским светом. – Может, еще коньяк? Может, чай, кофе? Я могу разогреть ужин…
– Я хочу только тебя!
– Подожди, я схожу в ванную. Вот, возьми пока полотенце…
Она набросила халат и покинула спальную. В ванной она взглянула на себя в зеркало и обнаружила в широко раскрытых глазах своего отражения искры нерастаявшего изумления. Господи, это, наконец-то, случилось, и теперь она знает, что такое оргазм! Теперь она по-настоящему полноценная женщина – прекрасная, состоятельная и независимая! Она больше не холодная рыба, она жаркая, сумасшедшая и желанная! Как долго она этого ждала и как внезапно это случилось! Она закрыла ладонями пылающее лицо, затем отняла их и взглянула на свое отражение с гордым вызовом: «Настоящая, теперь настоящая!»
Он, лежа на спине, глядел в темноту и улыбался – блаженный, счастливый, растерянный. Если бы тишина могла петь, она бы пела сейчас скрипучим голосом Джо Кокера “You are so beautiful” или плагиатским тенорком Эрика Кармена “All by myself”, или почтительным хором Бич Бойз “God only Knows”, или со стриженной самоотверженностью Шины О’Коннор “Nothing comperes to you”, или со стонущей изысканностью Азнавура «She», или что-то еще. Да мало ли гимнов у темноты!
Она вернулась и включила свет.
– Димочка, я проголодалась! Давай что-нибудь съедим! Хочешь?
Она впервые назвала его Димочка. Нежный мускул дрогнул у него внутри.
– Конечно, Наташенька!
– Тогда пойдем на кухню!
Он сел на кровати и, сильно изогнувшись, попытался дотянуться до халата. Перед ней мелькнула его широкая пухлая спина, поперек которой протянулись яркие свежие царапины.
– Ах ты, господи! – кинулась она к нему. – Что это у тебя? Неужели царапины? Неужели это я? Тебе больно?
– Нет, Наташенька, нет, моя дорогая! Мне даже приятно! – улыбнулся он и, пользуясь близостью, обхватил ее бедра и прижался головой к животу, торопясь обнаружить и втянуть ее запах, но ощущая вместо него терпкий сладковатый аромат нежно-голубого ворса.
– Нет, погоди! Их надо обязательно чем-нибудь обработать! – склонившись, растерянно разглядывала она протяжные следы своего безумия с ало поблескивающими бусинками на рваных краях.
«Да что же это такое со мной было, если я даже не помню, что творила!..» – вдруг испугалась она того разрушительного свойства, которое в ней открылось.
– Пойдем скорее на кухню! У меня там календула есть! – волновалась она, доставляя ему своей заботой невыразимое удовольствие.
Пришли на кухню, она приготовила пузырек и вату и скомандовала:
– Поворачивайся!
Он, извернувшись, высвободил руки из рукавов, спустил халат на бедра и послушно подставил спину. Она приложила ватку к коже – он не издал ни звука, только повел спиной.
– Очень больно? – участливо спросила она.
– Ерунда! – мужественно отвечал он.
Она осторожно обрабатывала довольно глубокие царапины. Пальцы ее, утопая в его чистой ровной коже, не встречали молчаливого отпора мышц, отчего спина его на ощупь выглядела полноватой и без малейших признаков брутальности. Тогда как ЭТО у него получается?
– Извини меня, я больше так не буду! – закончив процедуру, состроила она виноватую гримаску.
Он потянулся к ней за поцелуем, она же в ответ быстро ткнулась в его губы, тут же отошла и захлопотала.
– Что бы ты хотел съесть? – спросила она.
«Тебя!» – подумал он, любуясь ее новым домашним видом. Подумать только – их халаты наброшены на голое тело, и стоит только протянуть руку…
– Какой-нибудь бутерброд, если можно! – ответил он, усмиряя жаркую волну крови.
Она порхала, расставляя на столе мясо, хлеб, масло, сыр, маслины, нарезанные огурцы и листья салата, не забывая при этом унять ворчание чайника и заварить чай. Он предложил помочь, но она усадила его, сказав с напускной строгостью:
– Сиди и не мешай!
Наконец все было готово.
– Прости, что так мало. Не запаслась. Не рассчитывала! – улыбнулась она с волнующим намеком, заставив его вновь изумиться чудесной внезапности их близости.
Он набросился на еду и съел три бутерброда, запивая их маленькими глотками чая. Она, поставив локти на стол и держа бутерброд обеими руками, с озорным удовольствием откусывала от него маленькие кусочки и красиво ела, поглядывая на любовника. Ниспадающие голубые рукава обнажали ее тонкие нежные запястья.
– Спасибо, Наташенька! – закончив, поблагодарил он.
– Посиди в гостиной, пока я уберу, – велела она.
Он встал, прошел в гостиную и сел там на диван напротив фотографии покойного жениха, прислушиваясь к неутихающему сердечному мятежу. Прежде было иначе: добившись своего, он успокаивался и благодушно ждал, когда неторопливое желание наполнит его сморщенные кожаные мехи. В этот раз его желание явно и неутомимо обгоняло его мысли.
Она появилась в гостиной и поинтересовалась:
– Ты, кажется, хотел послушать Рахманинова…
– Да, да, если можно! – с энтузиазмом откликнулся он.
Она нашла среди россыпи дисков нужный и вставила его в музыкальный центр, что располагался под фотографией. Затем подошла и села рядом с ним.
– Это называется Прелюдия D flat major… – не глядя на него, объявила она.
Вытянув руку с пультом и запустив запись, она бросила пульт рядом с собой и сложила руки на коленях. Он накрыл ее руку своей – она не пошевелилась. Так они и сидели, пока возбужденная лавина звуков славила долгожданное событие. Со стены напротив смотрел на них с ободряющей (с одобряющей?) улыбкой ее покойный жених.
Музыка кончилась, и она, не дожидаясь, когда он решится нарушить границу прямо здесь, на диване, резко встала.
– Поздно уже. Пойдем спать, – объявила она. И добавила с коварной наивностью: – Или, может, хочешь, чтобы я постелила тебе на диване?
Он с укором взглянул на нее и ответил мягко, но убедительно:
– Если можно, Наташенька, я хотел бы спать с тобой.
– Хорошо, – покраснела она. – Иди, я сейчас приду!
Он ушел, и она отправилась в ванную, чтобы дать ему возможность раздеться и лечь, а не обнажаться друг у друга на виду, к чему она еще не привыкла. В зеркале отразилось фарфоровое сияние глаз ее двойника.
«Все! Теперь ты больше не резиновая кукла!» – обратилась она к отражению, гордым жестом поправляя волосы.