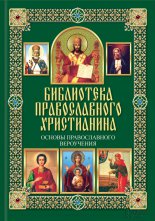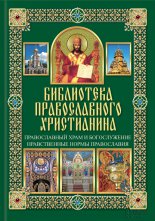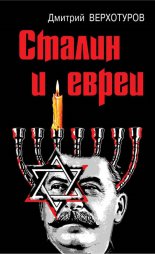В тени горностаевой мантии Томилин-Бразоль Анатолий

И вот, когда все уже, как говорится, сидели на чемоданах и дорожных баулах, произошло событие, подобного которому не помнили придворные хроники. Среди фрейлин пробежал слух о том, что две из них серьезно проштрафились. Заводилой называли юную графиню Лизетту Бутурлину, едва-едва обновившую в этом сезоне свой шифр. Девицу приняли в штат по протекции дяди фельдмаршала, и императрица была довольна ее резвостью и живым, дерзким характером. Бутурлина с легкостью писала язвительные куплеты, осмеивающие вельмож, что по юному возрасту ей сходило с рук, и бойко рисовала сатирические картинки...
Как-то вечером Лизетта со своею подругой графиней Софьей Ивановной Эльмпт, забавляясь, нарисовала несколько очень уж смелых карикатур. Среди них была одна, весьма похоже изображавшая государыню. Екатерина лежала в легкомысленной позе на софе, созерцая прелести графини Брюс, изображенной в еще более непристойном виде. Рисунок пошел по рукам, минуя Анну. Фрейлины украдкой хихикали, передавая листок друг другу. Как вдруг обер-гофмейстерина графиня Анна Карловна Воронцова пригласила всех в ротонду...
Кто донес – неизвестно. Но состоялся суд над провинившимися. Рисунки были торжественно изодраны, а девиц разложили на кожаных диванах и... высекли до крови. После чего с позором объявили об изгнании и отчислении от Двора. [49]
У Анны кровь застыла в жилах. После экзекуции она опрометью бросилась к себе и стала лихорадочно листать томики французских романов в поисках карикатуры, принесенной Высоцким... Она перебирала книги одну за другой, пытаясь вспомнить ту, в которую вложила рисунок. Листка нигде не было...
Фрейлина опустила руки. Некоторое время она сидела неподвижно, вспоминая события последних дней: странный взгляд императрицы и победоносный – графини Брюс. Вспомнила, как дня два тому назад не нашла на месте черепаховый гребень, подаренный Александром Семеновичем, и разбранила до слез горничную, пообещав отправить в деревню. Гребень потом нашелся на полу, и она лаской постаралась загладить свою несправедливость. Но картинка – не гребень. Анна отчетливо помнила, что положила листок в книгу и более не вынимала. Она еще раз пересмотрела книги, открыла запертую на ключ шкатулку с драгоценностями. Но там на самом дне лежала лишь гемма поручика Высоцкого...
– Господи! Зачем я ее храню?.. Дуняша! – кликнула она девку. И когда та появилась на пороге, постаралась говорить с нею без гнева и без дрожи в голосе. – Дуня, вспомни, не заходил ли кто чужой в покои мои дня три назад?..
– Никак нет, ваше высокоблагородие, чего вспоминать... Была токмо ее сиятельство графиня Прасковья Александровна. Я шум услыхала, взошла... А оне тута в будуаре. Говорят: барыню твою ищу. Ласковые такие были, мне рублик пожаловали... А вам разве оне не сказывали? Обещались... Ты, грит, не беспокой барыню-то, я сама с ей как встренусь, скажу, что не застала... – И, заметив, как изменилось лицо Анны, добавила: – Ай случилось чево еще, опосля как вы меня за гребень-то бранивали?
– Нет, нет, милая, ничего не случилось... Ступай к себе.
Все в ней как оборвалось. «Прасковья, это Прасковья, – повторяла она про себя. – Она, змея подколодная, рылась в моих вещах, нашла и унесла листок. Если ее величество узнают, чей он, – всем несдобровать... А через меня и Саше... Зачем, зачем я хранила эту пакость? – В какой-то момент вспомнилась ей сцена жестокого наказания провинившихся фрейлин и она подумала: неужели и ее ждет такой же позор? Нет, лучше утопиться. Но тотчас мысли ее снова перекинулись на судьбу возлюбленного. – Боже, боже, а он-то так радовался производству, так мечтал о дальнейшем продвижении...»
Она обхватила голову руками и горестно закачалась на стуле. Перед глазами проносились картины последних дней, глаза императрицы, как ей казалось, со значением останавливающиеся на ней, молчаливость государыни. «Конечно, Парашка не утерпела и отдала паскудную картинку ее величеству... Какое счастье, что она не нашла сей камень... За что, за что она меня ненавидит?..» Всплакнув, Анна твердо решила сегодня же, заявив о нездоровье, просить государыню об отставке. Но что будет с Федором и Александром Семеновичем?..
Но постепенно она стала думать: «А кто может знать, что злосчастный листок перекочевал к ней из рук Высоцкого? А тем более про ее крамольные разговоры с Васильчиковым?.. Ведь никто! И разве она не вольна скрыть это? Взять все на себя и принять отставку?..» Она начала размышлять о том, что делать дальше... Подумала, что жизни при Дворе и ее любви пришел конец и, наверное, придется вернуться к матушке. В лучшем случае, в Москву, а то и в имение безвыездно. Но главное – она должна убедить государыню в своей преданности. В том, что проклятый рисунок оказался у нее давно и совершенно случайно, и что она хотела отдать его ее величеству, но робела. А потом и забыла... А камень, камень она нынче же бросит в пруд. Эти мысли, как и решение об отставке, несколько успокоили ее. Анна кликнула горничную, велела подать умыться. Она привела себя в порядок, сбегала к ближайшему пруду, чтобы выбросить страшную улику, и пошла в Синий кабинет или, как его чаще именовали, в «Табакерку», где собирался по вечерам самый тесный кружок императрицы. Сегодня был вечер ее дежурства.
Несмотря на природный ум, проникнуть в замыслы повелительницы Анне было не дано. А Екатерину, прежде всего, не устраивала любовь фрейлины, несовместимая с ее обязанностями. Но она отнюдь не собиралась так просто расстаться со своей d?gustatrice. Слишком редкой находкой был такой человек, как Протасова. Сначала, уловив новое эйфорийное душевное состояние наперсницы и легко поняв его причины, императрица почувствовала себя озадаченной. Аннета явно выходила из предназначенной ей роли. Некоторое время Екатерина не знала, что предпринять. Но, получив донос графини Брюс, которая случайно обнаружила крамольную карикатуру в книжке, которую листала, ожидая Протасову в ее будуаре, тут же составила свой план действий. Фрейлину, позволившую себе самостоятельно влюбиться и отстать от предназначенной ей роли, следовало несколько проучить. «Ах, d?gustatrice, d?gustatrice... – повторяла про себя Екатерина. – Как это по-русски: сводня? Нет, не так».
Она вдруг вспомнила рассказы отставного секунд-майора Хвостова о пробных жеребцах. О том, что на конных заводах их содержат не для припуска, а лишь для того, чтобы вызнать течку кобылы... Пробные жеребцы, а у нее – пробная фрейлина – пробня. И рассмеялась удачно придуманному слову. Теперь и план воспитания фрейлины Протасовой обрисовался в голове Екатерины во всех подробностях: «Пришла, видно, пора и ее несколько проучить, а то зарвалась, пробня». В план удачно ложились и порка молодых фрейлин, и рисунок, который стащила Брюсша... О, Екатерина была весьма расчетлива и жестока в своих придворных интригах, и редко, когда что-либо, из спланированного ею, срывалась.
– Ваше величество, – начала Анна трудный разговор, провожая Екатерину в будуар после карточной игры. – Ваше величество, я виновата перед вами...
Императрица коротко взглянула на фрейлину и сухо ответила:
– Я знаю.
Анна всхлипнула.
– И вы вправе подвергнуть меня любому наказанию... – Екатерина молчала. – Только не лишайте меня своей милости и благоволения. Я вас так люблю и так почитаю, как, поверьте, никто из ваших приближенных... Да я бы с радостью, ежели понадобится, все что есть у меня – руку, нет, голову положу и отдам за вас...
Анна говорила совершенно искренне, более того, это было действительно так, ибо как можно еще выразить свои чувства к наместнику Бога на земле, каковым является государь. Екатерина молча сжала руку фрейлины. Надежда вспыхнула в Анне: «Боже, неужели прощает?» Непроизвольно полились у нее из глаз слезы. Сквозь них она взглянула на Екатерину и увидела, что та смотрит на нее очень ласково. Не в силах сдержать свои чувства, Анна бросилась на колени и стала покрывать руки государыни поцелуями, бессвязно бормоча повинные слова.
– Ну, ну, мой королефф, встаньте, встаньте, вы же знайт, что я не люблю эти азиятские проявлений... Перестаньте, мой друг. Я знаю ваш искренний отношений ко мне и тоже люблю вас. И от того подлинно мне была горькой ваша скрытность и недоверие. Но ежели это не есть так... – Она помолчала, пережидая поток заверений фрейлины, и повторила: – Ежели сие есть не так, мы оставаться, как прежде, друзья.
Господи, надо ли говорить, как Анна была счастлива. Она готова была взлететь, готова была на все. Если бы велела императрица кинуться вниз головой с балкона Парадной лестницы, она сделала бы это, не задумываясь...
«Какое счастье иметь такую повелительницу! И никогда, никогда более она даже в руки не возьмет гадких пасквильных листков!»
– Gute Nacht, meine K?nigin, gute Nacht <Спокойной ночи, моя королева, спокойной ночи (нем.).>...
– Спаси Бог, ваше величество. Если я вам больше не нужна, то я пойду?..
– Oh, gewiss, mein teuer Freund <О, конечно, мой милый друг (нем.).>... Да, кстати, милочка... мне донесли, что вы познакомиться с красивый молодой официер? Ist das wirklich?.. <Это правда? (нем.).>
Сердце Анны упало. Она опустила голову и проговорила чуть слышно:
– Да, ваше величество, это правда.
– Und Sie sind mit ihm zufrieden?.. <И вы им довольны? (нем.).>
– ...Да... ваше величество... Вполне.
– Так приглашайте его ко мне. Можно не сегодня, но завтра, послезавтра... Договорились! А теперь ступайте...
Это был неожиданный и тяжелый удар, о котором Анна не могла и помыслить. Она не помнила, как дошла до своих покоев, как легла в постель... Ей и в голову не приходило ослушаться государыню. Но как сказать о том Васильчикову, Саше? Время от времени откуда-то из глубины сознания всплывала мысль: «Как быть? Отдать любовь? Но почему? Столько фрейлин выходят замуж. Получают титулы статс-дам... За что же ей-то такая судьба?»
Она снова подумала о смерти. Представила, как побежит утром к холодному пруду, взойдет на причал, где глубоко, как кинется в темную воду. А потом ее вытащат, принесут в церковь. Она будет лежать вся в цветах и фрейлины с государыней будут плакать над нею... Нет! Кто на себя руки накладывает, того не отпевают в церкви... В темноте опочивальни Анна задыхалась, словно тяжелая вода уже сомкнулась над ее головою...
Но, увы. В жизни трагедии часто оборачиваются фарсами, не становясь, правда, особенно веселыми для их участников. Александр Семенович оказался послушным верноподданным. В общем – они стоили друг друга. И, поскольку состоявшийся разговор, можно предположить, был достаточно тяжелым, оба, как только суть дела стала ясна, постарались сократить время последней встречи...
Затем, сказавшись больной, Анна неделю с сухими глазами пролежала у себя в спальне. Она действительно дурно себя чувствовала. К душевному переживанию добавилось физическое недомогание. У нее болела голова, подташнивало. Фрейлина не ела, не умывалась, не велела горничной раздергивать тяжелые шторы на окошке... Дважды приходил Роджерсон. Сославшись на повеление императрицы, он внимательно осмотрел Анну, попытался разговорить, но молодая женщина ни на какую откровенность не шла... И тогда врач посоветовал Екатерине дать фрейлине отпуск. Екатерина поджала губы.
– Но она мне нужна. A tout prix <Во что бы то ни стало (франц.).>.
– Боюсь, что ближайшие полгода она будет вашему величеству бесполезна. Ваша фрейлина мисс Протасова беременна.
– Ну и что из того? Chansons que tout cela <Все это вздор (франц.).>. Не она первая, не она и последняя... Разве нельзя ничем помочь? – При своем эскулапе Екатерина могла позволить себе не сдерживаться.
– Поздно, ваше величество. Кроме того, как мне кажется, сей период будет протекать у нее сложно...
– Вот незадача!
Императрица досадливо сморщилась и отвернулась к окну. Ее план, так хорошо задуманный и приведенный в исполнение, разрушился из-за этой несносной беременности. Стоило огород городить! Конечно, у нее остается Васильчиков, – она внутренне усмехнулась – господин поручик был вполне опробован и одобрен ее d?gustatrice... И на ближайшие полгода его могло и хватить, но все равно было досадно. Есть, конечно, еще Прасковья Брюс, готовая на все услуги. Но у этой распутной толстухи не язык, а помело... Екатерина еще раз прищелкнула пальцами. Кажется, этот жест стал входить у нее в привычку.
– Bon <Ладно (франц.).>, – она снова повернулась к врачу. – Передавайте мадемуазель Протасова, что она уволен от должность по нездоровью и едет в имение родители, когда пожелает.
– Может быть, было бы лучше, ваше величество, я, разумеется, не претендую на дачу советов вне моей компетенции, но если бы об этой отставке вы сообщили вашей фрейлине лично...
Екатерина удивленно перебила лейб-лекаря:
– Я? Зачем? – Ей и в голову не могло придти, что ради своей прихоти она совершила недостойный поступок, возможно даже разбила счастье жизни человека, который искренне и беззаветно был ей предан, и не один год, выполняя самые интимные и, может быть, далеко не всегда приятные поручения...
Екатерина была хорошим психологом и, безусловно, обладала тонким проникновенным умом и вряд ли не понимала, о чем говорил Роджерсон. Но она слишком свыклась со своим положением, чтобы проявлять простые человеческие чувства по отношению к тем, кто так или иначе, но оставались всего лишь подданными... Первое время, как женщина, она еще понимала, что такое поведение лишь усугубляет ее одиночество. Но годы шли, порождая привычку, привычка становилась характером. Да, по чести сказать, ей и не хотелось видеть глаза Аннеты. Не то чтобы она чувствовала себя виноватой, но некоторая неловкость все же имела место...
Тем не менее, она еще раз посмотрела на шотландца, сделав удивленные глаза:
– Вы же говорить, что она нездоров. Значит, это есть ваш обязанность. Нет, нет, это сделать именно вы, а указ о награждении и об отставка она получит у статс-секретарь... Благодарю вас, господин Роджерсон. Я вас более не задерживаю.
Императрица позвонила в колокольчик. В дверь просунулась голова дежурного камердинера. Врач поклонился и вышел из кабинета.
Анна была, как громом, поражена отставкой. Она бросилась было к императрице, но верный Захаров, стоявший у дверей личных покоев государыни, заступил ей дорогу.
– Не велено-с, ваше высокопревосходительство. Заняты-с государыня зело...
И фрейлина все поняла. Она еще участвовала в переезде двора из Царского на зимние квартиры. Вместе с другими придворными присутствовала на большом выходе императрицы. Но затем, после официальной аудиенции, получив из рук статс-секретаря наградные деньги, обычные при отставке, уехала в Москву...
Опасность разрыва Фокшанского конгресса усугублялась переворотом в Швеции и угрозой новой шведской войны. Именно в этот момент очередной петербургский гонец из орловских клевретов привез в Фокшаны Григорию сообщение о том, что место его при императрице занято. И Орлов рассвирепел, бросил все, велел подать курьерскую кибитку и полетел в Петербург. Он не останавливался ни днем, ни ночью, кроме как для смены лошадей. Рескрипт, составленный Никитой Ивановичем Паниным с предложением либо продолжить переговоры, «либо, по своей воле, употребить себя в армии под предводительством Румянцева», опоздал. Выдвинув причиной отъезд главного лица, турецкая сторона переговоры прервала.
Во время бешеной скачки Григорий был абсолютно уверен, что стоит ему вернуться, как все станет на свои места. Такое уже бывало... Но Панин предусмотрел такую возможность. Он уговорил Екатерину выслать навстречу курьера с письмом, запрещающим въезд в столицу, «для карантина». Сделать это было Никите Ивановичу непросто. Императрица все еще боялась Орлова. Но, в конце концов, собравшись с духом, требуемую записку написала. В ней она предлагала, чтобы граф на карантинный срок в столицу не въезжал, а избрал местом своего пребывания подаренную ему Гатчину.
Посланный навстречу офицер перехватил, бешено мчащуюся кибитку верстах в сорока перед Петербургом. Трудно передать чувство гнева, когда Григорий прочитал злополучное послание. Здесь была не обида, не оскорбление попранной любви. Это было отчаяние честолюбца: в один миг потерявшего значение первого повелителя в государстве! Он давно забыл, что все это было лишь временной ролью, порученной ему коронованным режиссером. Он слишком сжился со своим положением. Кроме того, он, конечно, испытывал и чисто мужской стыд – видеть себя после стольких-то лет просто отставленным...
О Гатчине Орлов и думать не желал. Он бушевал, в щепы разнес кибитку и чуть не убил курьера. Гнев его был поистине страшен. Екатерина правильно говорила, что он способен на все. Своему камердинеру Захарову она велела сделать у двери спальни железный засов и ночью не спать, а караулить снаружи с заряженным пистолетом. Императрица пребывала в таком страхе, что окружающие буквально не узнавали своей повелительницы...
Но, по прошествии часа-другого безумств и беснований на дороге, Орлов вырвал у ямщика повод распряженной лошади, вскочил на нее без седла и... поворотил на гатчинскую дорогу...
Что же сломало дух гиганта, ведь трусом он никогда не был?.. Трудно на это ответить точно. А ведь решись он тогда ослушаться, чего втайне, возможно, и ждала от него Екатерина, кто знает, как бы повернулось все дело... Двенадцать прожитых лет, дети, прижитые в любви ли, в ненависти – все это не так просто вычеркнуть из жизни женщине, даже если она и императрица.
Его возвращения боялись все. По совету приближенных Екатерина послала в Гатчину депутацию для переговоров. Согласно ее наказу от Григория требовалось лишь добронравие. Но он засмеялся посланцам в лицо и заявил, что будет делать то, что сочтет нужным, и по окончании карантина явится в Петербург. Императрица послала к нему тайного советника Алсуфьева с предложением миллиона рублей. Григорий отказался от денег: «Я не требую ничего, понеже сие было бы слишком тяжко для государства».
Но постепенно страх перед его гневом рассеивался. Что ж, нет, так нет... Орлов упустил время, и день ото дня новые события все больше заслоняли его демарши.
В Москве открыли первую словолитню, а в Петербурге основали Коммерческое училище. В конце 1771 года скончался граф Алексей Григорьевич Разумовский. Главнокомандующий южными войсками генерал-фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев доносил о печальном состоянии Первой армии: о вспышках моровой язвы среди солдат и офицеров, жаловался на нехватку толковых людей. Шведы грозили войной. На Яике взбунтовались казаки. Объявился очередной самозванец, принявший имя покойного императора Петра Третьего... Крымские татары протестовали против размещения русских гарнизонов на своей земле. Все это были ближние, так сказать, проблемы. А ведь еще существовали Франция, Англия и, как паук в своей паутине, сидел в Потсдаме Фридрих – король Прусский... Австрийский канцлер Кауниц интриговал, пытаясь за счет России отхватить поболе польских и турецких земель и одновременно разрушить и без того непростые русско-прусские отношения.
В конце октября русский посланник в Варшаве барон Штакельберг имел весьма знаменательное объяснение с королем Станиславом-Августом. При этом в ответ на протесты короля против раздела Польши, Штакельберг ответил вопросом:
– А задумывались ли вы, ваше величество, что станется с графом Понятовским, если сто тысяч солдат союзных войск войдут в Польшу, расположатся лагерями и потребуют контрибуцию? И не кажется ли вам, что после сего сейм подпишет все, что угодно будет соседним державам?..
Станислав-Август побледнел и после краткого молчания обещал делать все по желанию Ее императорского величества. По первому разделу Польши между тремя державами к России отошли земли между Западной Двиной, Днепром и Бугом, а также восточная часть Литвы... Одним словом, и правительству, и самой императрице было не до орловских фанаберий.
Когда стало ясно, что при Дворе все сторонники покинули Орлова, Никита Иванович Панин предпринял следующий шаг. Бывшему фавориту предложили сложить с себя все должности и вернуть портрет императрицы с бриллиантами. В этом случае он может свободно путешествовать по России, без посещения Петербурга и Москвы, и ехать куда угодно за границу. За ним будут сохранены все титулы. Императрица жалует ему пенсию в сто пятьдесят тысяч рублей и еще сто тысяч на постройку дома. Если же он отказывается от этих предложений, его ждет ссылка в Ропшу.
Григорий согласился почти на все. Он тут же вынул бриллианты из подаренного ему портрета и вернул их, заявив, что сам портрет отдаст лишь в руки императрицы. От денег по-прежнему отказался и сказал, что об отставке его могут уведомить указом.
– Что же касается моего будущего местопребывания, то я не желаю связывать себя никаким словом и, по окончанию карантина, буду в столице.
Еще одну попытку уговорить его уехать подальше сделал президент военной коллегии граф Захар Григорьевич Чернышев, в прошлом один из приятелей Орлова. Он передал Григорию предложение Екатерины поехать на воды. Однако вернулся в Петербург ни с чем. Докладывая, заметил, что в ходе беседы граф Григорий Григорьевич болтал о вещах вовсе не относящихся к делу, выказывая признаки умственного расстройства. Императрица послала в Гатчину доктора, которого Орлов выгнал. Тогда она сама написала ему, послала диплом на княжеское достоинство, именовала светлейшим, и предлагала для поправки здоровья и перемены воздуха отправиться в путешествие. Орлов ответил в очень умеренных выражениях. Почтительно заверил императрицу, что вполне здоров, и желает лишь иметь счастье представить устно убедительные тому доказательства, а также получить разрешение заведовать делами, как прежде...
От встречи Екатерина уклонилась, но разрешила ему избрать местом для своего жительства один из ее загородных дворцов. Орлов, которому до смерти надоела Гатчина, тут же перебрался в Царское Село. Жил он роскошно: каждый день за столом собирались знатные обыватели Петербурга, в доме устраивались увеселения, шла крупная игра. Обо всем этом, а также о лицах, посещавших светлейшего, Екатерина требовала каждодневного доношения.
И вдруг в декабре из Царского он исчез. Объявился в Петербурге, и без зова – во дворце. Не остановленный никем, Григорий вошел в покои императрицы, и та чуть не лишилась чувств от страха. Но Орлов держался хоть и непринужденно, но с достоинством, как старый друг, и она овладела собой. В тот же вечер состоялось их примирение. Правда – чисто формальное. Государыня возвратила ему почти все прежние должности, и Григорий зиму провел в Петербурге. Он принимал решения, которых никто от него не требовал, и раздавал приказания, которые никто не выполнял без конфирмации императрицей или Паниным. Правда, он по-прежнему получал щедрые подарки. Так, Екатерина добавила к его пенсии шесть тысяч крестьян и серебряный французский сервиз стоимостью в двести пятьдесят тысяч рублей, и подарила «каменный дом у Почтовой пристани – будущий „Мраморный дворец“, начатый постройкою еще два года назад в 1768. Пока работы были еще не окончены, но на гранитном цоколе уже возвышались стены серого мрамора с красными колонками, а железные стропила поддерживали медную крышу. Бронзовые вызолоченные рамы с зеркальными венецианскими стеклами еще стояли в сарае, но на фронтоне Екатерина велела сделать надпись: „здание из благодарности“.
Орлов в долгу не остался. Он присутствовал на закладке и, как говорят в наше время, «финансировал» постройку петербургского арсенала. А затем совершил поступок в своем духе, заставивший говорить о нем еще много лет спустя. У бриллиантщика Ивана Лазарева он купил за четыреста шестьдесят тысяч рублей большой алмаз чистой воды, ограненный розою, и поднес его императрице. Впечатление от подарка было ошеломляющим. Екатерина обожала бриллианты. Их было у нее такое множество, что по праздникам, когда в Эрмитаже она садилась играть в карты, то расплачиваться за проигрыш предпочитала мелкими бриллиантами от одного до десяти карат, вынутыми из оправ... Но камень Орлова весил сто девяносто четыре и три четверти карата! Это был в ту пору третий камень мира. По преданию, некогда был он вставлен в глаз индийского бога Шивы, откуда перешел на украшение трона шаха Надира. Во время одного из восстаний индийцев английский солдат выкрал камень и продал его перекупщикам. Далее он принадлежал армянскому купцу Лазареву и хранился в амстердамском банке, пока не перешел в руки Орлова. Бриллиант был выставлен во Дворце, и все придворные какое-то время могли им любоваться. Существовало поверие, что в любой войне побеждает тот, кто владеет более крупным алмазом. Сие было весьма кстати, ведь еще шла война с турками. А на Яике бунт Пугачева перерастал в восстание... Так что подарок светлейшего князя имел, кроме перечисленных достоинств, еще и весьма существенное для своего времени магическое значение.
Позже камень украсил собою державный императорский скипетр и стал уже не просто драгоценностью короны, но и национальным достоянием России, заставляя подданных до двадцатого века помнить о славе державы и ее людях. Злые языки, правда, говорили, что существенным изъяном акта дарения был способ, коим Орлов заработал деньги на его покупку... Но будем утешаться тем, что все злословящие будут лизать на том свете раскаленные сковороды.
Несмотря на возвращение кажущегося расположения государыни, Орлов уже никогда более не являлся тем всесильным вельможею и повелителем, каким был прежде. Бывали случаи, когда его приемная по утрам если и не пустовала, то наполнялась всякой мелкотой, вечными просителями. Ощущение отставки не покидало Орлова, оно ввергало его в задумчивость, вызывало меланхолию и толкало на необдуманные поступки. Но и странности его поведения никого более не волновали, лишь бы не мешал. Мелкая комариная толочь в тени горностаевой мантии шла своим чередом, не заслоняя солнца и не имея ни интереса, ни отношения к жизни подлинной, государственной, а паче народной.
Васильчикова вряд ли можно было считать удачным выбором Екатерины. Он был скромным, не завистливым и не честолюбивым малым, что создавало вначале некий приятный контраст с общим фоном придворных. Воспитанный гувернерами, сменяющими друг друга в деревне отца, он выучился говорить по-немецки, понимал, как мы помним, не рискуя на беседу, французский язык и умел танцевать. Этим он выгодно отличался от Данилы Хвостова, дремучее невежество которого и пристрастие к лошадям так быстро утомили императрицу. Александр же Семенович еще от родителей воспринял некоторые правила морали, позже, конечно, слегка поколебленные гвардейской казармой. Будучи от природы человеком неглупым, место свое и значение понимал правильно, ни в какие политические страсти не вдавался, в друзья ни к кому не лез и протекциями не занимался. Все это скоро поняли, и досаждать перестали, понеже без толку... Службу же свою при императрице он исполнял, как и воинские наряды, истово, согласно присяге.
Екатерина первое время была в восторге от его возможностей, о которых даже ни с кем не говорила, боялась сглазить. Но к концу зимы она все же пришла в себя настолько, что смогла одуматься. Что же она увидела?..
Вместо могучего умного и страшного всем фаворита Орлова – бесцветный Васильчиков, рассуждать с которым на темы государственного управления или политики было бесполезно. Он никогда ничего не просил. Подарки принимал, заливаясь краской стыда. Почти все время, когда не был занят сопровождением императрицы, отведенных ему покоев не покидал, лишь иногда, испросив позволения, уезжал на конную прогулку. Он служил!
«Случай» Васильчикова воспринимался всеми без осуждения, скорее, как удача, способная вызвать зависть. В своем кругу офицеры говорили о том часто и много. Большинство удивлялись и негодовали лишь по поводу того, «почто Сашка не пользуется открывшимися возможностями? Ни себе, ни другим, ну не дурень ли? Ведет себя, как попова дочка, потерявшая цветок невинности с заезжим гостем...».
С удалением Орловых на политических подмостках в первых ролях оказались Панины. Один из них держал в руках внешние сношения, а другого, провозглашенного ею же «персональным оскорбителем» и «дерзким болтуном», Екатерина сама должна была, после несвоевременной кончины Бибикова, вызвать из отставки на военное поприще против Пугачева... И это, несмотря на то, что императрица Паниных никогда не любила и знала, что и они ее не любят...
Не лучше обстояли дела и с личным штатом. Очень скоро императрице стало скучно без будуарных бесед с Аннетой Протасовой, без обсуждения альковных проблем и сплетен. Старая подруга, графиня Брюс, была слишком циничной и болтливой. Анна Нарышкина для подобных разговоров никогда не годилась. Екатерина приблизила к себе Марью Перекусихину, но девушка была еще чересчур юной. Волей-неволей императрица все чаще вспоминала о своей молчаливой и деликатной фрейлине, которая всегда и обо всех все знала, о своей незаменимой d?gustatrice. В конце концов, пораздумав, она написала в Москву ласковое письмо, в котором приглашала Анну вернуться ко двору.
Удивительное все-таки существо человек! Кажется, можно ли сильнее кого обидеть, чем это сделала Екатерина по отношению к Анне?.. Но обида была нанесена императрицей!.. А можно ли обижаться на божественное произволенье? Опять рабское обожествление... человека? Нет! Места... и по нему человека. В свое время Дашкова не простила подруге пренебрежения. Поплатилась отставкой, годами ссылки, но не простила, вернее не прощала долгое время. Но нельзя требовать от каждого такой же силы характера.
Анна даже не задумывалась на тему: «простить – не простить». Получив послание государыни, она ощутила несказанную радость оттого, что ее помнили, что в ней нуждались. Оставив дочку на попечение матушки, окруженной уже целым выводком братниных ребятишек, она быстро собралась и, чтобы попасть к летнему выезду Двора в Царское Село, в начале апреля уехала.
Появление Протасовой и водворение ее в прежние покои вызвало весьма тревожный интерес при Дворе. В приемной Васильчикова сразу же поубавилось народу... Никита Иванович Панин, призвав к себе Марью Перекусихину, долго выспрашивал ее об отношениях императрицы с фаворитом. Но верная юнгфера, с недавнего времени спавшая за ширмою в опочивальне государыни, держалась стойко, повторяя, что ничего такого не знает и не имеет даже понятия.
Встреча Annet’ы с императрицей прошла сердечно, будто расстались они дня два назад и, немного соскучившись, рады были снова друг друга видеть. Основная часть эмоций была на стороне фрейлины. Спокойно прошла ее встреча и с фаворитом. Ничто, как казалось, не шевельнулось в ее сердце. Васильчиков же, весь красный, опустил глаза. Однако разговор состоялся на людях и был чисто светский. Она отметила про себя, что молодой офицер пополнел, лицо его утратило прежнюю живость, и в глазах поселилась какая-то безысходность. Но злорадства при сем Анна не испытала.
Некоторое время спустя, сделав вид, что никогда не знала об истинных отношениях Анны с Васильчиковым, а если и знала, то не помнит, императрица в разговоре с глазу на глаз пустила пробный шар.
– Mein Gott! – сказала она как-то фрейлине. – Ins Bett unser Freund ist wirklich wie Herculess <В постели наш друг, поистине, Геркулес (нем.).>... Но стоит ему слезать с постель и предо мною der langweiligsten Burger der Erde <Скучнейший обыватель земли (нем.).>...
Фрейлина промолчала. В другой раз Екатерина пожаловалась Анне, что в ее отношениях с фаворитом нет даже намека на любовь.
– Ах, мой королефф, Александр Семенович службу несет исправно и неутомим, как... – она поискала слово, – wie einer Schmied – кузнец-молотобоец... нет, как машин... Поговори с Брюсшей или, лучше, с тезка твой с Анна Нарышкина, она ведь к тебе склонна. Поговори, как бы от себя, нет ли у них еще кого на примете.
Так все и вернулось на круги своя.
Статс-дама Анна Никитична Нарышкина с полуслова поняла фрейлину. Она с жаром откликнулась на туманную просьбу, в которой Аннета, естественно, не назвала имени государыни.
– Ах, я так понимаю это... Жить без привязанности поистине невыносимо... – Она пристально посмотрела в глаза фрейлины. – Но вы уверены, милочка, что кредит... э-э-э господина Васильчикова исчерпан? Вы ведь понимаете, здесь нельзя ошибиться... Говорят, в деле-то он весьма хорош?..
Анна спокойно выдержала паузу. И, не отвечая на прозвучавший намек, сказала, выделив голосом и выражением, что это только «ее просьба»:
– Конечно, ежели вам затруднительно поспособствовать в моей просьбе, ваше высокопревосходительство, то прошу оставить оную без внимания. Едино прошу вас сделать милость и оставить меня в надежде на доброе ко мне отношение и скромность вашу.
Нарышкина спохватилась:
– Нет, нет, что вы... Я, конечно, не отказываюсь. Надобно только поискать в нашем «оленьем парке» что-нибудь подходящее. Я непременно, непременно сделаю это для вас и дам знать... – Она замолчала, как бы приглашая Анну назвать того, кому следовало донести о результатах.
– Я буду вам зело признательна, ежели сделаете милость и скажете мне, коли что придет вам в скорости на ум... А о каком «оленьем парке» вы изволите вести речь?
– Ах, это так, иносказательно... Разве вы не слыхали о серале французского короля, носящего сие название?
– Никогда... И ежели бы была на то ваша милость и вы бы рассказали мне...
Глаза Анны Никитичны забегали. С одной стороны разговор принимал довольно опасный характер, поскольку эта d?guststrice была по-прежнему близка к государыне... И она не заблуждалась относительно довольно коварного характера Протасовой. Неосведомленность же фрейлины была столь приятна, и показать свое превосходство, так хотелось... В конце концов, что из того, ежели Аннетка и передаст ее рассказ императрице? Государыня сама прекрасно знает историю сего заповедника и, пожалуй, посмеется тому, что она так назвала их придворный выводок. Это повествование может даже повысить ее кредит у ее величества. Пусть знает, что она не такая пустышка, как эта толстуха Брюсша, втершаяся в доверие. За последнее время Прасковья что-то стала слишком много о себе понимать... Конечно, тема скользкая. Роль мадам Помпадур может не очень-то понравиться Протасихе. Добрые отношения с этой надутой фрейлиной, конечно, стоили некоторого риска, но испортить их себе дороже... Надо только попробовать в рассказе обойти опасные места... Все эти мысли вихрем пронеслись в голове прирожденной интриганки. И она решилась...
– Я слышала о том в Париже, но не знаю, стоит ли, право, занимать ваше время такою повестью... – Анна молча смотрела на нее. – Хорошо, хорошо, ежели вы располагаете временем и настаиваете...
Женщины отошли в сторону, уселись на зеленый кожаный диван у овального столика, что стоял в малом кабинете Царскосельского дворца, и Анна Никитична начала свой рассказ.
– Вы не бывали в Париже, ma ch?rie?.. Ах, как я вам завидую! У вас все еще впереди: открытие чудного мира. Это так увлекательно...
Что же касается Оленьего парка, то название сие очень старое. Мне говорили, что еще при короле Людовике XIII участок версальского парка огородили каменной стеной, внутри которой были построены помещения для смотрителей оленей. Когда же Людовик XIV задумал перестроить дворец, то Олений парк почему-то не внесли в план. Я не знаю причин, но он так и оставался в прежнем виде, пока ныне здравствующий король Людовик XV не повелел возвести там прехорошенькую виллу – Эрмитаж для мадам д’Этуаль, будущей маркизы Помпадур. Вы ведь, наверняка, слыхали об этой особе... Представляете: возлюбленная короля и в то же время статс-дама королевы! Впрочем... – Нарышкина метнула мимолетный взгляд на собеседницу. – Таковы обычаи не токмо французского двора...
Вы, чай, слышали о новом увлечении наследника фрейлиной, великой княгини госпожой Нелидовой?.. Не слыхали? Ну, так вам еще предстоит многое узнать. Но я не стану сбиваться и вернусь к Версалю. Мадам Помпадур всегда добивалась, чего желала. Власть ее была такова, что гордая Мария-Терезия писала ей письма, называя эту распутную мещанку своей «милой подругой» и даже «доброй кузиной»... Во Дворце она присвоила себе все луврские почести. Она сидела в присутствии королевы и при прощании получала от ее величества традиционный поцелуй. Кардиналы целовали ей руку. Одни иезуиты настаивали на том, что маркиза, как женщина, живущая против воли мужа вне брачного с ним сожительства, недостойна религиозного утешения, пока не вернется в лоно семьи. Но они же и поплатились за это. Маркиза воспылала к ним такой ненавистью, что весьма помогла их изгнанию из Франции...
Однако, вернемся к предмету нашего разговора. Надо признать, ma ch?rie, что его величество Людовик XV уже к пятидесяти годам был довольно изношен. Пресыщенный обычными наслаждениями, он не испытывал более возбуждения для чувственных удовольствий прежним путем. Ни одна женщина его не волновала, и нужно было нечто особенное, чтобы оживить его темперамент и помочь ему извлечь стрелу из колчана Амура. Вся служба маркизы Помпадур и приближенные короля с ног сбивались в поисках этих средств. И вот однажды кто-то из придворных показал Людовику миниатюрный портрет племянницы – двенадцатилетней девочки. Нежное, невинное личико понравилось королю, хотя он тут же высказал сомнение в соответствии копии оригиналу, понеже между ними была еще и рука художника. Придворный взялся доставить оригинал. И через несколько дней явился в Лувр с мадемуазель де Ленкур. Девочка была как две капли воды похожа на свой портрет и... осталась во Дворце. Однако ее юный возраст сначала смущал даже Людовика, и потому он с удовольствием принял предложение маркизы Помпадур поместить невинное дитя в ее Эрмитаже, чтобы удалить от нескромных взоров Двора.
Маркизу можно понять, новое увлечение короля молоденькой девочкой не представляло опасности для ее власти. Кроме того, в Оленьем парке она будет всегда находиться под ее наблюдением. И, наконец, зная переменчивый вкус монарха, она решила и дальше способствовать его новой склонности.
Девица де Ленкур забавляла короля несколько месяцев, пока не забеременела. Тогда его величество велел подыскать ей мужа. Скоро нашелся один из приближенных, который с благодарностью взял в супруги любовницу короля с ее дополнением вкупе с милостями монарха.
За первой малышкой последовала другая, третья. Причем одна из них, некая Тирселен, была помещена в Эрмитаж девяти лет от роду... Я не стану описывать, как недостойно поступил с нею король.
Маркиза и дальше управляла бы забавами короля, но она была уже тяжко больна, и ей становилось все труднее отыскивать и вылавливать несчастных девочек поодиночке. Тем более что с каждой беременностью, в конце концов, приходилось разбираться тоже ей. И тогда в голову мадам Помпадур пришла идея составить в Оленьем парке целый сераль из юных девиц, которых бы отыскивали ее поставщики с помощью тайных агентов и вербовали, а чаще покупали у родителей, не раскрывая тайны, куда и зачем предназначаются их дети.
Со временем этот Олений парк так разросся, что для управления им пришлось учредить особое ведомство, назначить штат чиновников и дать основы внутреннего распорядка. Когда же наступало время представить одну из питомиц королю, ее привозили в закрытой карете и помещали в тайных покоях Версаля. Здесь его величество проводил с девочкой, как правило, весь день. Ему нравилось переодевать ее, шнуровать корсет. В целях сохранения тайны, Оленьему парку старались придать внешний вид учебного заведения с уставом почти таким же строгим, как в монастыре. Девочки должны были учиться. Обладая красивым почерком, Людовик сам изготовлял прописи для «воспитанниц». Его величество, как известно, с возрастом стал весьма религиозен и заботился о том, чтобы при воспитании девочек не пренебрегали религией.
При этом каждая из «воспитанниц» была обречена на полное одиночество. Девочкам воспрещалось посещать друг друга. Их уверяли, что господин, с которым они состоят в связи, – польский дворянин, желающий сохранить свои любовные дела в тайне... Почему «польский»? Наверное, потому что королева Мария Лещинская сама была дочерью польского короля. Впрочем, другим девочкам говорили, что они находятся взаперти по приказанию богатого любовника – немецкого князя или английского герцога... Когда кто-нибудь из них беременел, их увозили в Сен-Клу или в Пасси, где находились заведения, предназначенные для подобных случаев. Тех, кому везло – выдавали замуж, снабдив достаточным приданым. Чаще же отправляли в монастырь.
Сначала Оленьим парком управлял камердинер короля, Лебель, а верховный надзор был в руках министра, графа Сен-Флорентена. Последний получил в придворной среде прозвище «оленьей самки», потому что, несмотря на строгую секретность заведения, все о нем знали.
Олений парк поглощал уйму денег. Маркиза Помпадур с самого начала настояла, чтобы все служители, чиновники и семьи «воспитанниц» получали щедрое вознаграждение за свою службу и за молчание. Если же кто-либо не выдерживал данного слова, то в Бастилии, как правило, всегда имелись свободные каморки.
Статс-дама замолчала и откинулась на спинку дивана. Анна сидела, напряженно выпрямившись, темные глаза ее горели внутренним пламенем.
– Ах, ваша светлость, все это безумно интересно. И вы так хорошо рассказываете. Я бы мечтала побывать в Париже...
– У вас все еще впереди, ma ch?rie. Конечно, побываете...
– Голубушка, Анна Никитична, вы как-то назвали маркизу Помпадур – мадам д’Этуаль, она была замужем? Я бы хотела знать о ней побольше, ежели вы, конечно, не притомились...
Вот этого-то Анна Никитична и хотела избежать. Да, видно, увлеклась... Что же, пусть знает. И она продолжила свой рассказ.
– Она была дочерью супругов Пуассон. Ее номинальный отец, а на эту роль претендовало несколько кавалеров, был приказчиком, брошенным в тюрьму за подлог, а мать – известной гуленой. С раннего детства, зная склонности короля, она предназначала свою красотку-дочь в качестве «лакомого блюда» для Людовика XV.
О воспитании юной Пуассон заботился некто Тургейль, который также считал себя настоящим ее отцом. Он же выдал девицу замуж за своего племянника Ленормана д’Этуаль. У бедняги рога начали расти еще до обручения.
Однажды король, недовольный предлагаемым ему выбором придворных дам, спросил у своего камердинера Бинэ, умевшего не раз потрафить вкусам сюзерена, нет ли у него на примете дамы, которая могла бы соответствовать его желаниям. И Бинэ предложил привести в Лувр свою родственницу, мадам д’Этуаль...
Через некоторое время она переселилась в Версаль, а ее муж получил распоряжение выехать в Авиньон и утешился высокой должностью и отменными доходами.
Новая фаворитка изучала короля, как ученый изучает неизвестную ему мошку – со всех сторон и даже под микроскопом. Вы видели этот удивительный снаряд, мой друг?.. В конце концов она узнала все его капризы и, потакая слабостям Людовика, возвела управление им в подлинное искусство. Она сделала скупого Людовика расточительным, она умела угадывать тех людей, которые могли быть ей опасны и удаляла их, не давая приблизиться к трону. Понимая, что одна она, при всей своей изобретательности, не сможет долго удержать привязанность любвеобильного монарха, она взяла в свои руки снабжение его такими женщинами, которые лишь ненадолго могли занять его мысли и удовлетворить похоть... О, она была гениальна в этой части...
– Чем же закончилась ее служба, и почему она столь рано умерла?
Нарышкина отвела глаза в сторону.
– Боюсь, милочка, ее конец был обычным для лиц подобного сорта. Она страдала французской болезнью, которой наградил ее коронованный любовник. Ей было всего сорок два, когда она скончалась. И половину своих лет она отдала любовной службе при короле Франции.
Мне говорили, что в Версале шел дождь, когда гроб с ее телом перевозили в Париж. Король стоял у окна, наблюдая за процессией. И когда останки несчастной были погружены на дроги, заметил: «Скверная погода выдалась для путешествия маркизы». В этом и заключалось его прощание...
Глава пятая
Разбрызгивая колесами грязь дальних дорог, катилась по прусским землям из Франции на восток карета камергера Двора ея величества Семена Григорьевича Нарышкина. В объезд Берлина и Потсдама, чтобы не застрять у Фридриха Второго, вез старый вельможа в Санкт-Петербург дорогого гостя. Дени Дидро – знаменитый мыслитель-энциклопедист, философ и писатель, властитель умов! Что же подвигло убежденного врага феодального строя и абсолютизма на столь трудное и утомительное путешествие в крепостную и самодержавную страну?
Своих друзей в Париже он уверял, что едет лишь для того, чтобы поблагодарить русскую императрицу за поддержку издания «Энциклопедии». Отчасти это было правдой. С самого начала своего царствования Екатерина поддерживала сношения с французскими философами, не раз приглашая их в Россию. Однако Вольтер и Д’Аламбер под приличными предлогами отказались. Оба были не столь зависимы, как Дидро. Кроме того, княгиня Дашкова и русский посол князь Голицын [50]– посредники в покупке русской императрицей его библиотеки, оставленной в пожизненное пользование, – оказались горячими поклонниками философа.
Так и получилось, что по выходе последнего тома «Энциклопедии», Дидро счел себя, как бы обязанным, лично принести благодарность «Семирамиде Севера». Тем более, что нашлась и оказия...
Тихо покачивается покойная карета на ременных подвесках. Дороги Пруссии не чета российским. Оба пассажира ведут неторопливый разговор.
– Вы прекрасно говорите по-французски, – говорит Дидро, явно желая сделать приятное гостеприимному хозяину.
– О, я так много лет провел за границей... Когда-то, очень давно, примерно этим же путем я вез маленькую девочку, которую звали Фике, с ее матерью в Россию. А ныне мы с вами едем к ней же, только малышку Фике весь мир называет Екатериной Великой.
– Да, я знаю этот эпитет мсье Вольтера...
На петербургской заставе Семен Григорьевич предложил философу поселиться у него, но Дидро отказался, не желая обижать Этьена Фальконе. Скульптор еще раньше уговорил соотечественника остановиться в его жилище. Однако дурной характер Фальконе испортил встречу, и Дидро, чтобы не оказаться на улице под дождем, вынужден был сам просить приюта у того же Нарышкина.
Екатерина встретила философа исключительно любезно. Укрепившись на троне и расставшись с Орловыми, она жаждала всеобщего признания, как просвещенная монархиня. И с особой силой обратила свои амбиции на Европу.
Некоторое неудовольствие доставляло то, что Дидро по-прежнему общался с княгиней Дашковой, отставленной от Двора, и жил у Нарышкина, который поддерживал Орловых. Да и политическая ситуация внутри страны для визита французского энциклопедиста была не лучшей. Тут и неудачи Румянцева, вынужденного отвести армию обратно за Дунай, и «маркиз де Пугачев», как она первое время в шутку называла самозванца. К октябрю прибывший курьер привез известие, что отряды Пугачева рассеяли гарнизонные войска, посланных против них. Бунтовщики перевешали офицеров и осадили Оренбург. При этом в их «штабе», будто бы видели голштинское знамя, и в церквях по приказу «маркиза», попы провозглашают «здравие» императору-самодержцу Павлу Петровичу. Не отсюда ли дуют ветры?..
Оказалось, что у «маркиза» есть и сестра – «дочь императрицы Елисаветы Петровны». Это звание присвоила себе парижская aventuri?re <Авантюристка (фр.).>, перебравшая до того множество других имен. Она уже успела переехать из Парижа в Италию и там писала манифестики, направляя их то султану, то графу Панину, а то Алексею Орлову, не покидавшему эскадру в Средиземном море. Снова Орлов!.. А что делать? И Екатерина после некоторого раздумья пишет письмо графу Алексею Григорьевичу с повелением «схватить побродяжку»...
Мы уже говорили, что Екатерина обладала удивительным даром проникновения и понимания людей. Но, как часто бывает, не смогла разобраться в характере собственного сына. Она не считала его дурачком. Видела, что он рос смышленым и энергичным ребенком, был достаточно хорошо для своего времени образован. Может быть, был при том несколько наивным, излишне чувствительным и самолюбивым. С малых лет Павел усвоил свое высокое предназначение и глубоко верил в идеалы просвещенной монархии. Здесь следует отдать должное его главному воспитателю графу Никите Ивановичу Панину, который, наряду со своими честолюбивыми замыслами, мечтал воспитать из своего подопечного идеального государя для России. К сожалению, при Дворе далеко не все были озабочены благоденствием государства.
Придворные, относясь, по сути, к категории «обслуги», за редчайшим исключением, не бывают самостоятельными личностями. Сильные по характеру, по самопониманию и самоуважению люди не идут в лакеи. Не тот, как говорим мы сегодня, «менталитет». Между тем любой Двор – та же лакейская: сплетни, подсиживание и постоянное стремление к милостям, даже если они и не очень нужны. Во все времена в придворные пробиваются люди определенного склада характера, склонные к интригам, к подобострастию, и почти всегда к предательству. Продажность – одно из характернейших свойств подобной публики. Такие люди окружали и Павла. Это были либо неудавшиеся интриганы, отлученные от кормушки Большого Двора, либо приставленные матерью-императрицей шпионы. Первые, исходя из собственных интересов, постоянно «дули ему в уши», напоминая о убиенном отце, о его попранных правах на престол. Они развивали в нем тщеславие и ненависть к матери. Вторые доносили по необходимости кое о чем, крепко помня, что «объект их наблюдения» в свое время все же унаследует трон.
Павел же, воспитанный в идеалах просвещенной монархии, каждый день видел, что в реальной жизни все происходит вовсе не так, как в книгах. Убежденный по молодости лет, что лучше стариков знает, как надобно поступать в том или ином случае, он глубоко переживал, что с его мнением никто не считался. С самого детства у него было много обид. Как всякий ребенок, сын терпеть не мог любовников матери. Может быть, в силу обычаев, он бы и относился к ним терпимее, если бы большинство этих временщиков, с молчаливого одобрения императрицы, не выказывали бы в адрес цесаревича столь явно свое пренебрежение. Романтически настроенный Павел был наивен и чувствителен. А императрица пыталась вытравить из него эти качества язвительными насмешками, которые ожесточали подростка. Екатерина знала, что в империи немало людей, которые предпочли бы ей на троне Павла. Но делиться с ним властью она и не помышляла. Наоборот, всеми силами отдаляла наследника от государственного управления. И он вынужден был со стороны наблюдать за делом, которое считал своим, и которое вершилось не так, как он считал должным.
Последнее время имя великого князя не раз всплывало в разных политических интригах. Не утихали слухи о его скором восшествии на престол. Все понимали, что при натянутых отношениях, между нею и наследником, возможен разлад и в самом дворянстве. И кое-кого это бы вполне устроило. В войске Пугачева оказалось немало «Швабриных»... И крестьянский вождь, набравший силу, взывал в своих манифестах к Павлу, как к «сыну». Тут уж было не до насмешек. «Маркиз» превратился в реальную угрозу власти императрицы. Его надо было любой ценой остановить. Бунтовщиков разогнать и наказать... Но кто возьмется за такое дело? На Военной коллегии она прямо спросила у собравшихся:
– Кого же послать против супостата, господа министры?
Но господа молчали, не желая брать на себя ответственность даже советом. Когда же молчание затянулось недопустимо, Захар Григорьевич Чернышев предложил генерал-майора Кара.
– Василий Алексеевич хорошо показал себя в Польше. Справится и с Емелькой.
– Но у него, кажется, назревает какое-то личное событие? – с сомнением проговорила императрица.
Действительно, толстый Кар прискакал из Варшавы с целью – жениться. После удачной миссии по надзору за князем Радзивиллом, Хованские согласились выдать за него дочь.
– Ничего, перетерпит... – Проговорил занявший свое прежнее место в совете Григорий Орлов. – Гля-ко сколь толсто брюхо наел за отпуск на водах. Авось похудеет...
Все засмеялись и на том и порешили. Но забот это не уменьшило. А тут еще этот чертов француз...
На первую аудиенцию Дидро пожаловал к ней в своем обычном черном костюме, хотя при Дворе принято было еще со времен императрицы Елисаветы платье носить цветное. Ну да Бог с ним – рассеян, как все ученые люди. Следующая беседа должна была состояться t?te а t?te. Екатерина позвала, было, Васильчикова, но тот отказался, сославшись на незнание французского языка.
– Так что же болтают обо мне в Париже? – встретила она философа легкомысленной фразой.
– Говорят о сердце Августа в облике Клеопатры.
– Увы, у меня нет Антония... Правда, вы, возможно, слыхали, что подле меня находится молодой человек. Но это мой воспитанник... Молодым людям необходимо преподавать основы нравственного поведения и христианской морали...
Дидро промолчал. Он уже был наслышан о воспитательных наклонностях Семирамиды. Он заговорил о новом издании «Энциклопедии». Императрица настаивала на том, что следовало бы пригласить русских авторов, чтобы они написали побольше статей о России.
– А то многие по-прежнему считают, что у нас волки да медведи бродят по улицам, а ужасы Сибири превосходят страхи кругов дантова ада.
Дидро не возражал против новых авторов. Здесь он чувствовал себя в своей тарелке и готов был вести беседу хоть до утра. Разгорячившись, экспансивный француз размахивал руками и даже несколько раз хлопнул Екатерину по колену...
«Надо будет к следующей встрече поставить между нами столик, а то он меня до синяков доколотит». Мысль ее отвлеклась, она вспомнила о депеше Румянцева, в которой тот снова уже который раз поминал кривого генерал поручика Потемкина, ее бывшего камергера, и сразу же всплыло имя Прасковьи Брюс. Что-то намедни она вместе с Анной Нарышкиной соловьями разливались по поводу достоинств «cyclope-borgne» <Кривого циклопа (фр.).>. «Чем уж им-то Александр Семенович не угодил? Робок, конечно, в делах – мальчик. Но для утех-то в самый раз, только ныне дела таковы, что не до забав. Вон как все одно к одному сошлось... Хорошо бы руку покрепче найти... – Усмехнулась: – Как у светлейшего...» И сразу новая мысль: «А генерал Потемкин-то... тоже Григорий».
– Однако, ваше величество, – с обидой заметил Дидро, – вы рассеянны и не слышите меня. Я понимаю – государственные заботы поглощают ваше внимание.
Это она услышала, так и не решив для себя, не отослать ли Васильчикова? Или погодить до времени?.. И не написать ли письмо циклопу, благо и повод есть? А там, что Бог даст...».
– Извините меня, месье Дидро. Просто меня в это время уже ждет в кабинете обер-полицмейстер с докладом. Увы, императрица должна работать, как бы ни приятна была ей беседа со столь выдающимся философом. – Она поднялась. – Тем не менее, я надеюсь, это не последняя наша встреча.
Встреч было не чересчур много. Француз успел с присущей ему горячностью высказать русской государыне множество политических прожектов, переполнявших его с момента выезда из Парижа. Он настолько утомил свою царственную слушательницу, что она говорила Ивану Перфильевичу Елагину [51] , своему кабинет-секретарю и масону, что «мсье Дидро, конечно, великий философ, но примени его теории к России, от государства камня на камне не останется».
Вечером, отослав молчаливого, Васильчикова в его апартаменты, Екатерина устало подумала, что неплохо бы все же найти замену тишайшему любовнику. И чтобы замена сочетала в себе известные возможности Александра Семеновича с мудростью и с былой энергией Орловых... Она тяжело вздохнула, понимая неисполнимость подобного желания, но почему не помечтать о чем-то женщине перед сном?.. Екатерина потянулась, чтобы погасить свечу, когда внезапно новая озорная мысль пришла ей в голову... Ежели невозможно заменить нечто одно целиком, то можно к оному, не лишаясь его достоинств, добавить нечто другое, обладающее тем, чего не имеет первое... Она тихонько рассмеялась, пошлепала себя по щеке и опустила руку, протянутую к свече. Подумалось: «А не послать ли письмо в армию циклопу Потемкину и не вызвать ли?.. Заодно к письму приложить сувенир... – Она приподнялась и вынула из ночного столика медальон со своим портретом на золотой цепочке. – Если он человек действительно умный, как уверяют Прасковья с Нарышкиной, то поймет смысл подарка. Ну, а не поймет... Тем хуже для кого?..».
Она снова потянулась так, что хрустнули косточки и почувствовала желание вызвать еще раз безотказного фаворита. Сердито подумала: «Зачем сразу ушел?..». Затем убрала медальон и уже раздраженно дернула за сонетку, призывающую далеким звоном Александра Васильчикова к «службе».
Императрица не показывала вида, но ее все больше тревожил размах «бунта», полыхавшего в центре России. При этом среди придворных находились и такие, кто старательно подогревал ее страхи. Никита Иванович втайне радовался, видя растерянность Екатерины. Ведь чем сильнее становился Пугачев, тем больше возрастала и его роль как главного советника. А то его положение в связи с совершеннолетием наследника как-то пошатнулось. Он уже не являлся воспитателем Павла. Правда, пользуясь охлаждением императрицы к Орловым, ее страхами перед «маркизом», он во многом сумел восстановить свое значение... Но заботы снова умножились. И когда в столицу, без ведома Панина, прибыл одноглазый генерал-поручик, старый вельможа зело обеспокоился.
Потемкин, провоевавший волонтером-полковником всю кампанию турецкой войны сначала под знаменами генерал-аншефа князя Голицына, а потом в армии генерал-фельдмаршала графа Румянцева, весьма отличился в сражениях, был пожалован в генерал-майоры и награжден орденом Святой Анны и Святого Георгия третьей степени. Затем, после переговоров о мире в Фокшанах, стал генерал-поручиком. А в 1773, участвуя в поражении Османа-паши под Силистрией, овладел его лагерем, но... был обойден наградами. Командующий войсками генерал-фельдмаршал Румянцев решил, что и так уж слишком резво шагает сей генерал из волонтеров... Оскорбленный таким невниманием Потемкин, получив вызов из столицы, решил тут же ехать. Пользуясь правом камергера, он думал побывать во дворце и выяснить у самой императрицы коренной повод такой немилости.
Ехал генерал долго. Задерживали не столько небольшой обоз и не морозы. В утепленной кибитке с печкою, которую топил он сам, ехала с ним юная смуглая красавица-цыганка, едва лепечущая на ломаном русском языке. Еще в Валахии приметил он ее у одного грека и выкупил прекрасную невольницу. Бажена, как звали цыганку, оказалась столь страстной, что в первую же ночь огромный русский генерал буквально потерял голову. Но девушка была еще капризной и своенравной. Она до тонкостей знала науку любви. Так, когда в следующий раз ее одноглазый хозяин снова потянулся к ней за лаской, Бажена встретила его без всякой радости. И лишь дорогой перстень с парой бриллиантовых серег сумели растопить холод встречи. Цыганская наложница и далее так умело управляла страстями своего господина, что он готов был на любые сумасбродства ради ее объятий.
Потемкин всюду возил ее за собой в обозе, приставив для охраны самых расторопных солдат. Но ему донесли, что и Бажена убедилась в их расторопности и делит свое ложе не с ним одним. Что в дни службы его с успехом замещают бравые телохранители. Взбешенный, прискакал он к ее шатру с намерением тут же зарубить неверную саблей, но... сменил караульщиков и приставил к девке преданных ему стариков из инвалидной команды. Взял он Бажену с собою и в Петербург.
Миновав заставы, Потемкин не поехал к себе в Конную слободу, а завернул к сестре Марии, бывшей замужем за Николаем Борисовичем Самойловым. С ними он договорился о том, что временно поселит девку у них. Заодно привез подарки и передал приветы им от сына, успешно воевавшего в армии Румянцева.
Двор с самых зимних праздников обретался в Царском Селе. Но изобиженный тем, что его так долго обходили наградами за военные успехи, Потемкин не спешил припасть к ногам повелительницы. Тем не менее, на вечернем рауте осведомленный Никита Иванович Панин уже шептался с Анной Нарышкиной:
– Пошто ее величество одноглазого-то от Силистрии оторвала?
Статс-дама клялась и божилась, что ведом не ведает. Но у Никиты Ивановича глаза и уши во дворце были не одни. В тот же вечер ему донесли, что обе бабы: Никитична с Брюсшей, запершись с императрицей, об чем-то долго собеседовали, после чего позвали Протасову и еще говорили, а, удалившись, переглядывались да перемигивались и посмеивались, молча. А ее императорское величество не изволила и звонить в звоночек, приглашать к себе Александра Васильевича на ночь... «Эва, – понял старый дипломат, – видать, опять смена караулу-то пришла. Ну, баба, ну... и куды в её... токо лезет? Жаль мальчика, жаль... Господин генерал хоть и одноглаз, да за ним присмотр в четыре ока потребуется...».
В кабинете императрицы, запершись от всех, сидели три женщины: Ее императорское величество государыня Екатерина II Великая и две ее статс-дамы – графиня Брюс и Нарышкина.
– Да ты не верь, не верь, Катиша, это я тебе говорю, чего люди-то не наболтают. Подумаешь, племянницу уёб. Сие дело такое, сама понимаешь, кто с ими с племянницами ныне-то не путается?.. – Сыпала словами, как горохом, Прасковья Брюс. – И об летах его не думай. Знамо, – не юнец. Чай, уж четвертый десяток... Да-к, старый конь борозды не спортит... – Она хохотнула, зорко глядя на Екатерину. – Ай, новой не проложит? А на что она, нова-то, коли та, что есть, наезжена, мягка да удобна... Да ты не сомневайся, матушка, вот хоть Анна Никитична тебе скажет...
Императрица перевела глаза на Нарышкину. Та, в отличие от подруги, говорила степенно, тщательно скрывая блеск своих крысиных глазок:
– Прасковья правду говорит, ваше величество. Григорий Александрович романтически в вас влюблен. Я вот, извольте взглянуть, чего достала... – Она вынула из-за корсажа сложенную бумажку. – Задорого купила у камердинера его. Такой бессовестный мужик попался, за так ни за что не отдавал. Но вы же знаете, что для вас, государыня-матушка, мы ничего не жалеем. В надежде на благодарность живем. – Она помолчала малое время, прижимая бумажку к груди.
– Ладно, ладно, я сначала должна посмотреть, стоит ли этот бумажка, чтобы за нее payer un prix ?lev?. <Заплатить дорогую цену (фр.).>
– И не сомневайтесь, ваше величество, сие есть вирши любовные, писанные по-французски. Его собственная рука... Эва:
- Как скоро я тебя увидел, я мыслю только о тебе одной.
- Твои прекрасны очи мя пленили и жажду я сказать вам о любви моей... [52]
– Перестань, Анна, ты только портишь, а читать я и сама умею. Лучше посвети-ка поближе. – Императрица читала чуть прищурившись, и постепенно краска заливала ее щеки и шею.
Нарышкина стрельнула глазами на товарку, та мигнула обоими глазами и чуть заметно кивнула. Екатерина окончила читать, сложила листок и некоторое время молчала.
– Ну что, Катишь?.. – Брюсша подалась вперед. – Стоит дело затрат наших?
– Коли правда все, то... – Государыня повернулась к туалетному столику, где стояла кованая шкатулка с бриллиантами, сняла с пояска ключик и открыла крышку. В отделениях лежали строго рассортированные по размерам ограненные камни.
Фрейлины заохали...
– Вот, выберите себе сами... по камешку.
Как два коршуна на добычу, кинулись обе бабы к ларцу...
– По камешку, я сказала... И потом, я хотела бы знайт его жизнь побольше. Про его p?re de famille. <Отца семейства (фр.).>
Она протянула руку, женщины послушно положили выбранные камни на ее ладонь. Екатерина внимательно осмотрела, заменила один, потом вернула оба алчным статс-дамам и заперла шкатулку. Дамы переглянулись. Прасковья подтолкнула локтем Нарышкину.
– Давай, Анна...
Та вздохнула.
– Матушка-государыня, по этой части у тебя наперсница особая есть. Она и в геральдии все ходы-выходы знает... Мы вот, не спросясь тебя, ей такой урок заладили – все про сей предмет вызнать, мало ли понадобится. Призови ее, пусть поведает...
Сначала Екатерина рассердилась на самовольство:
– Разве я просила?
Но пока Прасковья Брюс тараторила, оправдываясь, подумала, что, пожалуй, то и лучше, что не сама она велела сведения собирать. Меньше болтать будут, коли не выйдет дело...
– Ладно, трещать-то, зовите Annete...
Анна сидела в кабинете, разговаривала с камердинером Захаровым и ждала приглашения. Бумаги, полученные в герольдии от секретаря, были при ней.
Прибежала толстуха Брюсша.
– Аннеточка, машерочка, ее величество зовет, идем скоренько... Ты все ли приготовила-то?
Анна Степановна с достоинством поднялась. Пожалованная в новый ранг статс-фрейлины, уравнявший ее со статс-дамами, она стала вести себя еще более независимо. Не отвечая, пошла к будуару императрицы. Предательства Прасковьи она не забыла и никогда не забудет. Придет срок...
– А, мой королефф, мы заждались. Анна Никитична сказала, что вы были в герольдии и вызнали кое-что?..
Голос государыни был мягче теплого воска, даже с какой-то заискивающей интонацией. Но Анна уже больше не поддавалась его обманному звучанию. Она присела в реверансе и ответила просто.
– Все что могла, ваше величество. Что там знают, то и я.
– Садись, рассказывай... Кто он, откуда, какого рода? Ты ведь у нас дока...