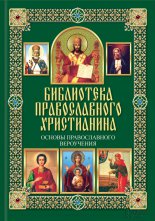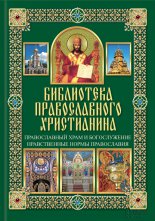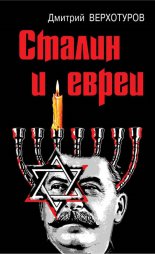В тени горностаевой мантии Томилин-Бразоль Анатолий

– Строение костей таза таково, что родить естественным путем ее высочество не сможет. – И в первый раз невозмутимый шотландец не сдержался: – Я ведь предупреждал, что будут осложнения. Она не давалась осмотру по приезду, а ваше величество не велели настаивать. А я еще тогда говорил, что у принцессы странная стать, будто бы какой-то непорядок с позвоночным столбом...
– Alter Hal?nke <Старый мерзавец (нем.).>, – проворчала императрица, имея в виду прусского короля. – Он с самого начала подсунул нам негодный товар. А непорядок у нее был не со столбом, а скорее с тем, что под оным находится, что она и желала сокрыть...
Созвали консилиум, на котором, как обычно, мнения разделились. Пока решали, что делать, дитё умерло во чреве. А затем наступил черед и несостоявшейся матери. Императрица велела позвать духовника.
Дождалась в будуаре выхода отца Платона и после недолгой беседы с ним послала камер-лакея Василия Шкурина за статс-фрейлиной Протасовой. Втроем они прошли в кабинет покойной, где Василий вскрыл один за другим три потайных ящика письменного стола. Из одного была извлечена секретная переписка, налаженная с помощью графа Андрея Разумовского с послами Франции и Испании, и письма к прусскому королю. Из другого – счета, по которым платили деньги ей, и платила она. Список долгов в три миллиона рублей, заставивший Екатерину притопнуть ногой от гнева.
– Ждала смерти моей, чтобы расплатиться... – Сказала она, не заботясь о том, что может быть услышана. – Да только просчиталась, чертова горбунья... Вы представлять, мой королефф, она перед смерть призналась мне, что была в детстве горбатой. Какой-то итальянский костоправ кулаками и коленями выправил ей спину... Ага!.. – Она вынула из третьего ящика пачку писем, перевязанных розовой ленточкой. – Это я посмотрю одна на досуг... Но три миллиона рублей за два год... На кого и на что ей было их тратить?..
Через два дня императрица, приказав позвать безутешного наследника, протянула ему письма с розовой ленточкой.
– Прочтите, мой друг, и успокойтесь.
В пачке была любовная переписка великой княгини с графом Андреем Разумовским...
Об итальянской певице Габриелли, которая сначала свела с ума половину меломанов Двора, а потом уступила домогательствам Потемкина, собрать подробности оказалось не так-то просто. Тем не менее, как говорится, «где лаской, а где таской», Анна набрала достаточно сплетен, чтобы связать их в некое стройное повествование для доклада государыне. Это были рассказы разных людей и, наверняка, они обладали различной степенью достоверности. Но статс-фрейлина и не стремилась к особой точности. Собранные ею сведения гласили:
Катерина Габриелли была весьма известной певицей не только у себя на родине, но и во всей Европе. Настоящая ее фамилия неизвестна. Родилась она в Риме, году в 1730. Будто бы в семье повара, служившего у князя Габриелли. Со младенчества удивляла окружающих своим голосом. И к четырнадцати годам знала и безошибочно распевала партии из разных опер.
Однажды князь, гуляя по саду, услыхал, как кто-то неподалеку поет трудную арию из модной в те поры оперы Тиграна «Сын лесов». Восхищенный голосом, спросил у садовника, кто поет.
– Катарина, поварская дочка, сеньор, – ответил тот.
– Не может быть, это голос настоящей певицы. Сколько же ей лет?
– Да уж к пятнадцати, думаю...
– А хороша ли собой?
– Мы все считаем ее красавицей.
– Но тогда, это настоящее сокровище. Ступай, и позови ее ко мне.
Садовник повиновался и скоро вернулся с прехорошенькой девушкой. Она без стеснения подошла к хозяину поместья. Князь внимательно рассмотрел ее: высока, подвижна и стройна. Фигура – на загляденье. Маленький улыбающийся рот, большие глаза, прикрытые длинными ресницами, придавали ей вид наивности и лукавства одновременно...
Габриелли был в восторге. Он взял девушку под свою опеку, заплатил лучшему в ту пору учителю пения Порпоре и через несколько месяцев выпустил на большой публичный концерт. Юная певица буквально заворожила слушателей, и город заговорил о «молодой поварихе князя Габриелли». С тех пор это имя так и осталось за нею.
Прошло три года. Молодая певица дебютировала в качестве примадонны на луккском театре в опере Галуини «Софонизба». Дебют превзошел все ожидания. Замечательный «сопранист» Гвадания заявил, что такой голос – Божий дар и он готов бесплатно заняться его окончательной обработкой... После «обработки» Гвадании Катарина стала лучше петь и значительно лучше разбираться в людях: кто чего и сколько стоит.
В двадцать лет она пела уже на неаполитанской сцене в «Дидоне» Метастазио. Сам Метастазио учил ее лирической декламации и посвящал во все тайны сценического искусства. Затем она получила приглашение в Вену, где император Франц I пожаловал ей титул придворной певицы.
Красота и талант Катарины обеспечили ее множеством поклонников. И можно было только удивляться, как быстро научилась эта совсем недавняя простолюдинка, дочка повара, так бесцеремонно и пренебрежительно обращаться с вельможами. Она заставляла своих поклонников часами просиживать в ее передней, «занимаясь с учителем». Пренебрежительно принимала подарки и давала воздыхателям самые невероятные поручения. Она в глаза насмехалась над ними и обманывала на каждом шагу.
Секретарь французского посольства в Вене, граф Морвилль, воочию убедившись, что Катарина ему не верна, выскочил из засады и ранил ее в грудь выпадом шпаги. К счастью, клинок скользнул по корсету и едва задел тело девушки. Увидев кровь, граф кинулся на колени, умоляя простить его. Певица, придя в себя от испуга, согласилась забыть оскорбление, но... в обмен на шпагу. Надо ли говорить, что несчастный любовник тут же согласился. Каков же был его ужас, когда на следующем званом вечере он увидел свое оружие в виде трофея над камином Габриелли. Надпись на ножнах гласила: «Шпага графа Морвилля, которую он обнажил против Габриелли». Надо ли говорить, что после этого граф стал всеобщим посмешищем.
В Вене Катарина разбогатела и стала все чаще поговаривать, что хочет вернуться на родину. Напрасны были увещевания целых депутаций молодых людей из лучших фамилий. В тридцать пять лет она переехала в Палермо и два года жила там, эпатируя публику своими выходками. Однажды вице-король устроил в ее честь обед, на который были приглашены самые почетные лица города. Не приехала только Габриелли. Никакие старания посланного за нею секретаря не произвели на певицу никакого воздействия. Она капризничала до вечера, а потом заявила, что ей надо ехать на спектакль в оперу. Публика, которой тоже надоели вздорные выходки примадонны, встретила ее появление холодно. И тогда, не дождавшись должных аплодисментов, Катарина стала петь вполголоса. Взбешенный вице-король велел ей передать, либо она ведет себя прилично, либо он прикажет отправить ее в тюрьму. На это певица ответила, что ее можно заставить плакать, но не петь. Тут же последовал приказ опустить занавес, и Габриелли оказалась в камере городского замка.
Двенадцать дней она вела в тюрьме безумно-роскошную жизнь, услаждая сотоварищей по заключению не только своим голосом. На тринадцатый день толпа поклонников потребовала ее освобождения и на руках отнесла домой. Но из города ей пришлось уехать.
В тридцать семь лет она перебралась в Парму. Это было время подлинного расцвета таланта и обаяния певицы. Достаточно сказать, что при первом же ее появлении на сцене пармский инфант Филипп безумно влюбился в актрису. Филипп был некрасив, горбат и страдал целым рядом физических недостатков. Но побуждаемая его обещаниями Габриелли согласилась на его просьбы... И была жестоко наказана. Мрачный и нелюдимый инфант запер ее в своем дворце, не отпуская даже на концерты. А на спектакли она ездила лишь в сопровождении телохранителей. Своенравная певица скоро возненавидела своего любовника. Она его в глаза называла «gobbo maladetto» – «проклятый горбун». И это прозвище так прилипло к нему, что вошло в историю. Принц тоже пытался заключить ее в тюрьму. Но уже через несколько дней пришел и плакал у ее ног, вымаливая прощение. Едва освободившись, Катарина сбежала из Пармы. Ее тут же пригласили в Лондон, но певица отказалась ехать.
В то время по Европе ходило много рассказов о баснословно богатых русских вельможах и роскоши Двора Екатерины II. И Габриелли, получив письмо композитора Траэтто, руководившего петербургской итальянской оперой, согласилась приехать на гастроли.
Ознакомившись с докладом статс-фрейлины, государыня спросила:
– А что, ma ch?rie, она действительно божественно поет?
Анна знала, что Екатерина не чувствует музыку.
– Она считается одною из лучших в Европе, ваше величество.
– Что же, представьте ее мне. Пусть придет в Эрмитаж.
Вечером императрица предложила певице остаться в Петербурге на весь сезон.
– Благодарю вас, ваше величество, – ответила певица, – но мое горло и мой голос стоят дорого. Здесь в вашем холодном климате я хотела бы получать не менее десяти тысяч рублей.
У присутствовавших дух захватило от наглости таких требований. Императрица тоже была удивлена, хотя вида не подала.
– У меня такое жалованье получают фельдмаршалы.
Итальянка вздернула голову.
– Тогда велите им и петь...
Эта дерзость могла бы ей дорого стоить. Но разговор происходил в Эрмитаже, где допускались вольности. И у Екатерины было хорошее настроение.
– Хорошо, я готова заплатить вам семь тысяч за сезон. В противном случае, вы завтра же отправляетесь в Италию.
Габриелли присела в реверансе.
Она пела почти во всех операх, которые ставились в придворном театре. И после спектаклей принимала у себя многочисленных поклонников. Веселая и общительная Габриелли была довольно частой гостьей и на вечерах императрицы. Однако Петербург – не Вена и Россия – не Италия. Резвость и сумасбродство у нас терпят до времени.
Однажды на балу она потребовала от безумно влюбленного в нее толстого волокиты Ивана Перфильевича Елагина вальсировать с нею. Как ни отговаривался смущенный директор императорских театров, красавица была непреклонна. В результате Елагин на первом же туре споткнулся и тяжело упал, растянув ногу. Узнав об этом, государыня разрешила ему являться с тростью и даже сидеть в своем присутствии. Таким и увидел его раненый генерал Суворов, вызванный после одной из своих побед на прием. С удивлением посмотрел он на сидящего Елагина. Императрица шла к нему навстречу, и все стояли. Заметив удивление полководца, Екатерина заметила:
– Не удивляйся, Александр Васильевич, на Елагин. Он, как и ты, получал рану. Только его полем сражения был паркетный пол, а противником – певица.
Эта выходка не прошла для Габриелли даром. Императрица велела выплатить ей жалованье и выслать за границу.
На Страстной неделе в понедельник государыня велела топить баню, а в покоях учинить великую приборку: «Страшной понедельник на Двор идет – всю дорогу вербой метет». Надо признать что, несмотря на свое немецкое происхождение и неважное знание русского языка, Екатерина стремилась во всем показать себя русской и православной. Она предпочитала русскую одежду, старалась соблюдать обычаи и даже пыталась привить придворному окружению любовь к русскому языку. Так, на малых собраниях в Эрмитаже говорить по-французски запрещалось. За это полагался штраф. Назначались «русские дни» и в Царском Селе.
Вот и ныне во дворце всю седмицу ходили в русском платье, постились и истово клали поклоны во дворцовой церкви, поминая страдания вошедшего в Иерусалим Спасителя. В эти дни старались рассчитаться с долгами, раздавали милостыню и подходили за благословением к священнику.
В Великий четверг старая княгиня Анна Львовна Трубецкая, приходящаяся двоюродной сестрою Петру Великому, со Львом Александровичем Нарышкиным жгли соль в печи. А Екатерина от четверговой всенощной шла в покои с зажженной свечою в руке. В полночь, после святой полунощницы, бегала вместе с фрейлинами к проруби зачерпнуть водицы, «покуда ворон не обмакнул крыла», чтобы успеть умыться студеной водой, приносящей здоровье и красоту...
В Светлое Христово воскресенье после торжественной службы и крестного хода, под хвалительные пасхальные стихиры и торжественные возгласы «Христос воскресе!», начиналось христосование – «творение целования в уста». Императрица давала целование митрополиту Платону, бывшему много лет законоучителем наследника. Затем, во время большого выхода, все остальное духовенство и светские чины «жаловались к руке». Тут же раздавались подарки. Каждому по заслугам. Анна получила два пасхальных яйца – крашеное гусиное и золотое с замочком. Внутри золотого лежали бриллианты и изумруды...
– Яйце применно ко всякой твари, – сказал митрополит, заметив, как зарделись от удовольствия щеки фрейлины. – Скорлупа, аки небо, плева – аки облацы, белок – аки воды, желток – аки земля, а сырость посреди яйца – аки в мире грех. Сие есть толкование святого Иоанна Дамаскина. Он же рек далее, что де Господь наш Иисус Христос воскресе из мертвых, всю тварь обноси. Своею кровию, яко ж яйце украси; а сырость греховную иссуши, яко же яйце изгусти...
К этому дню гофмаршальская часть, в нарушение регламента, смешивала в большом зале все три класса столов в единый. Столование кавалеров с дамами и дежурных офицеров, чиновников, адъютантов, личного штата императрицы и даже старших дворцовых служителей шло вперемешку. Разговоры, в зависимости от сорта и количества выпитого, тоже были самые разные. Когда Екатерина незаметно вошла в зал, на верхнем конце стола спорили по поводу законов о престолонаследии в России и в Швеции. Мало кто помнил их суть и потому все путались, стараясь более силой голоса, нежели знанием, победить соперников. Неожиданно на нижнем конце поднялся мало кому известный плотный господин. Он подошел к спорящим и, перекрывая общий гам, прочел наизусть сначала русский, а затем и шведский закон по-немецки. То был полузабытый всеми Безбородко.
Императрица, не доверяя его памяти, велела принести своды. Безбородко подсказал страницы и, когда сказанное им подтвердилось, поклонился и вернулся на свое место.
Через неделю он прочитал и поставил подпись под указом о назначении его кабинет-секретарем.
– Кстати, голубчик, а как ваши успехи во французском? – спросила императрица, редко забывавшая о своих поручениях. – С немецким, я чаю, вы справились, слышала, как шведский указ трактовали...
– По-французски читаю, ваше величество. Говорю пока плоховато, путаю с итальянским. Решил оный заедино выучить. Но к сроку, поставленному вами, осилю. Вот еще написал хронологию великих событий царствования вашего императорского величества, извольте взглянуть. И для его светлости подготовил «Записку, или Кратчайшее известие о Российских с Татарами делах и войнах»...
– Да вы – делец! – восхитилась Екатерина. – И память превосходнейшая. Правду говорил граф Румянцев-Задунайский, рекомендуя вас. Жаль, не знали раньше. А то, вот ведь как искали кого знающего немецкий, чтобы с депешами в Стокгольм отправить. Слава Богу, нашел светлейший какого-то гусара...
– То Зорич, ваше величество, Семен Гаврилович. Отменной храбрости человек. Раненным был взят в плен янычарами и четыре года в темнице Семибашенного замка константинопольского томился... Достойнейший человек...
– Да вы, я вижу, все и обо всех знаете. Ценное качество. Прошу вас быть при утренних докладах... А записку для светлейшего оставьте у меня в кабинете...
После похорон великой княгини, когда еще и слезы не высохли по поводу дорогой утраты, принц Генрих, «случайно» оказавшийся в Петербурге, привез письмо от «старого Фрица». В нем прусский король расхваливал новую претендентку на царственное ложе российского наследника. На сей раз, то была его двоюродная внучка – принцесса Вюртембергская, София-Доротея-Августа-Луиза.
Фридрих II уверял Екатерину, что, несмотря на младые лета (принцессе еще не было и семнадцати), по своему физическому развитию девица способна поразить любое воображение. К письму прилагалась и миниатюра. Императрица вздохнула, сделала несколько распоряжений кабинет-секретарю и дежурному адъютанту, после чего велела позвать наследника.
Павел некоторое время исподлобья смотрел на миниатюру, потом вернул ее матери. Жениться он категорически не желал. Но после долгих уговоров и препирательств, длившихся не один день, сдался:
– Я бы предварительно хотел увидеть объект в натуре, а не по изображению, – сказал он, глядя в пол. – Вы сами изволили говорить, что на ошибках следует учиться и не повторять их более. Ныне я уже никому не верю.
– И правильно делаете, mon cher, – обрадовалась Екатерина. – Я уже подумала об этом и решила, что вам не худо бы самому съездить в Берлин. Побываете у его величества в Сан-Суси, познакомитесь на месте с невестой. Они уже выехали из Мобельяра. А я вызвала графа Румянцева. Он хорошо знает Пруссию и будет вас сопровождать.
Екатерина заметила, как заблестели глаза сына при упоминании о Фридрихе. «Дурачок,– подумала она, – до сей поры не может отрешиться от детских иллюзий». Павел был действительно рад, хотя и не желал показывать этого. Приятной была, прежде всего, перспектива отъезда от Двора, затем – поездка в Пруссию к великому Фридриху, давнему его кумиру. Увидеть знаменитые парады в Потсдаме, это ли не счастье!.. Ну и новая невеста, тоже могла быть небезынтересна...
Будучи вообще скор на подъем, он тут даже удивил всех. Собравшись без проволочек, выехал инкогнито и был весьма любезно принят в Берлине. Здесь же познакомился и с той, кого прочили ему в жены. София-Доротея с матушкой герцогиней Вюртембергской также была приглашена королем в Берлин. Отец невесты, принц Фридрих Евгений почти всю жизнь прослужил в войсках прусского короля, получив Вюртембергское герцогство лишь под старость.
Дородная его дочь была на голову выше Павла, и впечатление произвела. Ей не было еще и семнадцати, а на бюст, как позже шутили, можно было усадить полковой оркестр. Воспитанная в строгих немецких традициях, она с детства усвоила главные заповеди, изложенные в стихотворении «Philosophie des femmes», записанном в ее тетрадке. Главное в них заключалось в том, что: «нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Ее философия должна состоять в том, чтобы рожать и воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой и блюсти в расходах бережливость».
Нельзя сказать, чтобы за прошедшие два с половиной столетия и к нашим дням классический подход к общественной роли женщины сильно изменился в принципе. В общем же девушка понравилась Павлу Петровичу. Правда, более нетерпеливо он ожидал парада войск, обещанного прусским королем.
В Петербург великий князь вернулся оживленным и полным планов. А затем, через некоторое время, пожаловали и гости из Пруссии. Государыня подняла бухнувшуюся перед нею на колени принцессу, милостиво сказала, что такие варварские обычаи давно изжиты при Дворе и остались лишь в памяти негодных учителей, которые не смогли рассказать о том принцессе. Но в душе государыня была довольна тем, что девушка, в отличие от своей предшественницы, не проявила заносчивости при встрече. Затем нареченную осмотрел Роджерсон и дал отменный отзыв о ее здоровье. Государыня выслушала лейб-медика, но тем не менее велела приготовить баню. И там, в мыльне, разложив с помощью верной фрейлины деву на теплой мраморной лавке, сама придирчиво обследовала смущенную принцессу во всех подробностях ее естества. Как ни краснела бедняжка София-Доротея, как ни стискивала зубы, тем не менее, послушно раздвигала колени и переворачивалась, становясь на карачки... Екатерина улыбнулась, по-видимому, довольная осмотром. Шотландец был прав, дева – кровь с молоком.
Анна цинично похлопала принцессу по широким лядвеям и добавила грубоватой скороговоркой, чтобы та не поняла:
– Ну, хватило бы размеру, тута, чаю, ничо не застрянет.
– Будем Hoffnung schцpfen <Набираться надежд (нем.).>... – Императрица засмеялась.
При крещении принцессу нарекли Марией Федоровной, подучили слегка русскому языку и – отправили под венец. Венчание состоялось 28 сентября и, поскольку цесаревич вдовел менее полугода, прошло без особой торжественности.
Быстро пролетело время и вот уже великая княгиня, потупив очи, доложила Екатерине, что ждет ребенка. Императрица усмехнулась, подарила ей перстенек с бриллиантом и табакерку. Невестка была по прошедшей бедности скуповата и презенту обрадовалась, как дитя. Екатерина вспомнила о миллионных долгах той первой, о том, как убивался сын по поводу ее кончины. И улыбнулась способу, коим его излечила с помощью писем несчастной к ее лучшему другу... В душе она даже похвалила себя за мудрость.
Подумала: «После, как родит, надо будет придумать ей подходящее дело». Но времени на это не нашлось – с момента свадьбы и до кончины императрицы великая княгиня умудрилась подарить российскому престолу четверых сыновей и семерых дочек. Кроме того, как и все благовоспитанные немецкие девушки, она была приучена к домашней работе, вела дневники и, чтобы потрафить свекрови, устраивала литературные вечера. Приходилось ей выступать и в роли распорядительницы придворными спектаклями, так как Павел любил, если и не сам театр, то актрис.
К супружеским обязанностям она относилась ответственно, как и ко всякому другому делу. Мужа – великого князя и наследника русского престола – почитала единственным из мужчин. И никогда не жаловалась никому даже на то, что временами супруг, не обращая внимания на постоянное интересное положение супруги, учил ее прусскому парадному шагу и ружейным артикулам.
Когда о том Анна доложила императрице, та вздохнула и махнула рукой:
– Der Apfel f?llt nicht weit vom Baum, meine liebensw?rdige Frau <Яблоко от яблони недалеко падает, моя любезная (нем.).>. Я проходить та же школа, пока сие мне не опостылело.
Отпустив всех, кроме кабинет-секретаря, Екатерина не без некоторого раздражения взяла в руки новый выпуск журнала «Кошелек», издаваемого неугомонным Новиковым [62] .
Правда, после того, как были закрыты его журналы «Трутень» и «Живописец», наполненные политическим ядом и осмеливавшиеся в подтексте порицать «просвещенное монархическое правление», издатель сбавил тон. Теперь он нападал в основном на галломанов. Но и в «Кошельке» его статьи о нравах светского общества, возбуждали серьезное недовольство в придворных кругах.
В принципе, недовольство Двора императрицу мало волновало, тем более, что Новиков ратовал за возврат к добродетельной старине, к нравственной высоте старорусских начал. А такие мотивы были не чужды и Екатерине. Кто, как не она выступала против мздоимства и злоупотреблений? Разве она когда-нибудь была против чистоты нравов и «великости духа предков, украшенных простотою»? Конечно, она знала, что ее втихомолку осуждают за любострастие. Но не даром же говорится: «что дозволено Юпитеру, то не дозволенно быку»...
Впрочем, если быть честной, ее раздражение имело иную причину. И она не призналась бы в ней даже самой себе. Дело в том, что Екатерина сама занималась сочинительством. Мало того, что она, заполняла листки своего журнальчика нравоучительными статейками, государыня сочиняла пиесы, сочиненья драматические, больше характера сатирического. И, как всякий автор, к чужому успеху относилась весьма ревниво. Но тут нужны некоторые пояснения.
В 1769 году она велела своему секретарю Григорию Васильевичу Козинскому, взяв за основу английский журнал «Spectator» – «Зритель», приступить к изданию русского сатирического журнала. Родилась четырехстраничная «Всякая всячина», взявшая за принцип «не целить на особ, а единственно на пороки. И при этом стараться своим примером не оскорблять человечество». Главным журналистом была, естественно, она сама, не раскрывая своего авторства. Впрочем, это очень скоро стало «секретом Полишинеля». Журнальчик получился забавным, вполне безобидным и, по мере узнавания руки сочинителя, вызывал верноподданнический восторг. Но в том же году появился новиковский «Трутень», с острыми статьями, касающимися вопросов, по-настоящему волнующими общество... Кроме того, как бы, не подозревая участия императрицы во «Всякой всячине», «Трутень» порою позволял себе чувствительно жалить, полемизируя с «умеренной снисходительностью к слабостям»... Борьба была неравной и ядовитое насекомое, вынуждено было сложить крылья.
Еще более острым оказался «Живописец», просуществовавший менее года. И вот – «Кошелек», куда более умеренный, скромный. Но и в нем порой намекалось, что во «"Всякой всячине" изображается скорее „слабость собственного разума“, нежели истинные причины общественных недостатков. Отсюда и раздражение, нараставшее с каждым новым выпуском „Кошелька“. Бывало, что, встречая на страницах журнала завуалированные порицания своих деяний, государыня даже плакала, повторяя: „Ну что я им сделала? За что они меня ненавидят?“... Нет, нет, она, конечно, не завидовала таланту Новикова. И внимательно просматривала все его статьи... Кончилось это для Николая Ивановича, как известно, весьма прискорбно...
Глава седьмая
В июне приехал в Петербург тридцатилетний шведский король Густав III. Молодой честолюбец, воспитанный матерью, поклонницей французской политики, он вступил на трон в смутное и тревожное время. Шведское дворянство было полно желания ограничить королевскую власть. Однако Густав нашел себе сторонников и 19 августа 1772 года произвел государственный переворот. В результате он стал абсолютным монархом. Первые годы его правления были поистине благодетельны для Швеции. Король преобразовал суды, искоренив взяточничество, навел порядок в армии и отменил пытки. Печать была объявлена свободной. Благодаря смелому займу у Голландии, вложенному в национальное хозяйство, ожило производство и расцвела пышным цветом торговля. Правда, наряду с этим, значительная часть реформ производилась и чисто кабинетно, без внимания к подлинным нуждам народа и государства. По примеру возлюбленной Франции Густав основал Шведскую академию, в которой сам же первым и получил премию за произнесенную речь. Он окружил себя писателями и поэтами, желая доказать всему миру, что является просвещенным монархом. И вот – Россия. Зачем? Король прекрасно учитывал, что для подъема престижа и усиления страны, ему необходимо оградить шведскую Померанию, охваченную с трех сторон прусскими владениями Фридриха II. Кроме того очень хотелось отобрать у датчан Норвегию. Эти вопросы он и надеялся решить с помощью императрицы Екатерины II.
В Петербурге Густав III развил бурную деятельность. Политические консультации чередовались с деловыми визитами и праздниками. Он побывал в Академии художеств, в Ораниенбауме у наследника, посетил Александро-Невскую лавру, Шляхетный кадетский корпус... Почти месяц гостил швед в столице России и отбыл совершенно очарованный ее повелительницей [63] .
Надо сказать, что в это время в Россию приезжало довольно много именитых гостей. Одни – из любопытства, из желания посмотреть на несравненную «Екатерину Великую». Другие, ослепленные блеском и европейскими тратами незаработанных денег русскими вельможами, надеялись поправить свои дела... Разные причины вели стопы иноземцев к топким берегам свинцовых невских вод.
Так в один из дней у петербургских причалов ошвартовалась роскошная яхта герцогини Кингстон. Богатая английская аристократка довольно долгое время вела переговоры с русским посланником в Лондоне, выразив желание презентовать русской императрице для ее Эрмитажа ряд картин из своей галереи. Живописное собрание герцога Кингстона было известно и славилось по всей Европе. Но старый герцог умер... Екатерина с осторожностью отнеслась к предложению, переданному по дипломатическим каналам. Но, когда леди Кингстон заявила, что количество и выбор полотен она предоставляет самой императрице, сердце государыни не выдержало – «Божий дар грешно топтать». Она передала свое согласие и предложила герцогине посетить Санкт-Петербург.
Принимая в салоне яхты посетителей, англичанка взахлеб говорила, что предприняла свое путешествие исключительно, чтобы взглянуть на «великую Семирамиду Севера». После таких слов императрице не оставалось ничего иного, как пригласить ее на большой выход.
Боже, правый! Стоило посмотреть на даму, появившуюся при Дворе в назначенный день. Уж на что наши вельможи привыкли к роскоши. Но когда леди Кингстон появилась в зале в герцогской короне, осыпанной бриллиантами, многие ахнули...
Приезжая аристократка пользовалась огромным успехом в русской столице. Приглашения следовали одно за другим. Кому не лестно видеть на своем балу особу? близкую к королевскому дому? Польщенная любезным приемом, ее светлость (многие говорили о ней, как о ее высочестве), как-то намекнула, что готова вообще покинуть туманные берега Альбиона и переселиться на не менее туманные, но согретые теплом человеческих сердец, берега Финского залива. Для окончательного решения ей хотелось бы получить титул статс-дамы Двора Ее императорского величества... Чтобы эта просьба была более весомой, она, по совету людей, наполнивших ее переднюю, купила в Эстляндии имение, которое назвала Чедлейскими мызами.
Екатерина призвала Анну Протасову и поручила ей навести более подробные справки о герцогине. Однако на этот раз фрейлине не повезло. Никто из ее прежних осведомщиков ничего определенного сообщить не смог. Были туманные намеки на какие-то судебные разбирательства в Лондоне. Но все это, как говорится, то ли у нее украли, то ли она... Анна доложила о неудаче, и Екатерина задумалась. Что-то мешало ей в отношениях с льстивой английской герцогиней, чувствовалась в ней какая-то фальшь...
– Пожалуй, что вы прав есть, мой королефф, – сказала она после длительных раздумий, – правы, правы. Конечно, каждый Двор славен свои вельможи. И чем больше среди них знатные люди, тем больше авторитет у Двор. Но и никто так не уронить значение, как слючайный человек, попавший ко Двору. Лучше не торопиться... Передавайте герцогин, что у нас нет в обычай давать титул статс-дама иностранкам. Только осторожно, не надо обидеть. Вы видели, какие превосходные картины она привезла с собой?..
Леди Кингстон отказом императрицы была обескуражена. Доброжелатели намекнули, что вот ежели бы она вышла замуж за кого-либо из русских вельмож... Но и сердечные дела не получились у нее в русской столице. Сухопарая англичанка на возрасте не смогла найти себе подходящего друга сердца, хотя и предпринимала к тому немало усилий. Говорили, правда, что, предложив управителю Потемкина полковнику Михаилу Гарновскому быть ее поверенным в делах, герцогиня утешилась. Но сей шляхтич не являлся той конечной целью, в каковую она метила. Посему, после вежливого абшида, получив прощальную милостивую аудиенцию, герцогиня взошла на борт своей яхты и отбыла во Францию навсегда.
В июле 1782 года в Петербург, после длительной поездки по европейским столицам, возвратилась княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Целью ее путешествия считалась необходимость и желание княгини дать европейское образование любимому сыну. Согласимся с этой версией, несмотря на ее весьма приблизительный характер. Императрица была хорошо осведомлена о ее переездах. Обе женщины, несмотря на размолвку, продолжали переписываться. Княгиня хлопотала, чтобы сын был принят в русскую военную службу со всеми возможными льготами. Одновременно она посылала императрице проекты благотворительных учреждений, которые казались ей особенно примечательными. Порою императрица досадовала на нецелесообразные, как ей казалось, встречи бывшей подруги с разными лицами. Но по возвращении приняла ее вполне доброжелательно. Двадцать лет, прошедшие после переворота, успокоили страсти и погасили беспокойство, обуревавшие Екатерину в первые годы восшествия на престол. Шероховатости отношений за время разлуки тоже сгладились, резкость характера княгини пообкаталась. В голову же императрицы запала мысль приспособить Екатерину Романовну к делу.
К этому времени пришла в упадок Санкт-Петербургская императорская академия наук. После не слишком-то рачительного управления графа Владимира Григорьевича Орлова по его протекции на должность директора был назначен Сергей Герасимович Домашнев. Некогда он учился в Московском университете, затем служил в Измайловском полку и во время турецкой войны командовал албанскими войсками. Годы его правления академией ничем, кроме яростных гонений на букву «ъ», описанных в ядовитом акафисте, не прославились. Зато злоупотребления и полнейший беспорядок в делах вынудил господ профессоров подать рапорт в Сенат. Вот тогда-то государыня и подумала: «А почему бы не назначить на пост директора злополучной Академии княгиню Дашкову?». Она велела фрейлине Протасовой постараться добиться расположения княгини и вызнать, как она отнесется к такому предложению.
Задание было трудным. Во-первых, положение Анны при Дворе и ее слава «d?gustatrice», вряд ли могли способствовать сближению с княгиней, которая после смерти мужа вела едва ли не монашеский образ жизни. Но недаром Анна столько времени прожила при Дворе. За две недели она собрала все сведения, все сплетни о княгине, узнала и тайну давней размолвки между бывшими подругами, когда Екатерина Романовна пыталась присвоить себе главную роль в перевороте и открыто считала, что троном Екатерина II обязана именно ей. Рассказали Анне и о дурном характере княгини, об отсутствии по этой причине у нее друзей, и о страстной привязанности к детям – к сыну и дочери, которые платят матери полным пренебрежением. Скоро фрейлина смогла составить себе полный портрет Екатерины Романовны, одинокой и несчастливой женщины, ведущей чрезвычайно скучную жизнь...
И тогда, будучи представлена княгине, Анна проявила такой интерес к ее впечатлениям от путешествия по Европе, что сумела растопить лед недоверия. Она даже получила приглашение навестить Дашкову и воспользовалась им...
Обе женщины много говорили о загранице. Анну действительно интересовали живые впечатления княгини. А той более некому было особенно-то и рассказывать. Кстати, Екатерина Романовна поведала Анне довольно много интересных подробностей о герцогине Кингстон, о которой все никак не утихали разговоры при Дворе. Рассказ княгини оказался полным неожиданностей и довольно забавным для характеристики английской аристократки.
– Прежде всего, ma ch?rie, никакой герцогини Кингстон не существует. При Дворе принцессы Уэльской, матери его величества короля Георга II, была юная фрейлина мисс Элизабет Чедлей. Красивая, как все юные особы, но, в отличие от большинства английских девиц, умна и с пламенным темпераментом. Среди многочисленных поклонников она выбрала самого неудачного – молодого повесу герцога Гамильтона. А результат вам должен быть понятным. Воспользовавшись ее неопытностью, герцог обольстил девицу и, оставив все свои обещания и клятвы, покинул ее. Правда, нужно отдать должное его деликатности. Их связь не была афиширована. Английский Двор – не наша деревня. С этого начались тайны, окутавшие мисс Чедлей, как покрывалом.
Через несколько лет она вышла замуж за королевского капитана по имени Гарвей, бывшего младшим братом графа Бристоля. Обвенчались тайно, понеже родители были против. Их брак с ее стороны был заключен без любви, и жизнь тайных супругов скоро превратилась в сущий ад. В результате они расстались. И мисс Элизабет Чедлей, она так и не приняла имени мужа, с разрешения принцессы Уэльской, отправилась путешествовать. В Дрездене ей оказывал чрезвычайное внимание курфюрст Саксонии и польский король Август Третий. В Берлине какое-то время ею был увлечен король Фридрих. Однако недостаток в средствах заставил ее вернуться в Англию.
Здесь она, несмотря на противодействия супруга, не желавшего давать ей свободы, уничтожила церковные записи о своем браке и вышла вторично замуж за старого герцога Кингстона, потерявшего голову при встрече с юной aventuri?re <Авантюристки (франц.).>. Старик, как и полагалось, вскоре умер, оставив по завещанию все свое громадное состояние молодой вдове.
Вы сами понимаете, мой друг, что родственники герцога не могли допустить такой несправедливости и возбудили процесс. При этом Элизабет Чедлей обвинялась сразу по двум статьям – во-первых, за двоемужество и во-вторых, был возбужден спор по поводу действительности духовного завещания, поскольку она вышла второй раз замуж при жизни первого мужа. Ежели ее признали бы виновною, то по старинному закону за двоемужество ей грозило бы зело тяжкое наказание. В случае снисхождения – публичное клеймение палачом, в тяжком же разе – смертная казнь. Однако аглинский суд – поистине улиссово измышление. Наша героиня нашла таких стряпчих, кои не токмо добились оправдательного приговора, но и сумели все состояние герцога Кингстона оставить при ней. Вот что такое герцогиня Кингстон, ma ch?rie.
– Но ваше сиятельство сказывать изволили, дескать, герцогини Кингстон не существует?
– В этом все дело. Суд постановил, считать второе замужество сей особы незаконным. Однако, понеже в завещании была указана не герцогиня Кингстон, а девица Элизабет Чедлей, завещание старого герцога посчиталось имеющим законную силу. Конечно, свет отвернулся от такой авантюристки . Вот тогда-то она и решила проникнуть к русскому Двору.
– Но как же так, зачем не знали мы сего ранее.
– Ах, моя дорогая. Я ведь писала ее величеству, без особых подробностей, конечно, советовала быть осторожнее.
– Я этого не знала.
– Не думаю, чтобы вы знали все, ma ch?rie. У государыни, наверняка, есть тайны даже от вас...
Анна поняла язвительность намека, но промолчала. Во время одной из встреч она ненавязчиво поведала княгине об идее императрицы по поводу предполагаемого назначения. Вздорный характер Екатерины Романовны тут же проявился, подвигнув ее прежде всего отказаться. Она написала резкое письмо государыне и к полуночи велела заложить карету, чтобы ехать к Потемкину, который на короткое время вернулся в Петербург и жил у себя дома. Именно он должен был из рук в руки передать ее отказ Екатерине.
Светлейший уже был в постели, но княгиню Дашкову не принять не мог. Он прочитал письмо и, не глядя на автора, изорвал листок и бросил на пол. Княгиня вспыхнула. Григорий Александрович поднял руки и сказал:
– Тут на столе есть перо, есть чернила и бумага. Садитесь, пишите, пожалуй, снова. Только все это вздор и бабьи страсти. Вы умная женщина, зачем отказываетесь? Императрица и в мыслях не имела вас обидеть. Пребывая в должности, вы будете часто видеться с нею и, возможно, сумеете что-то наладить... По правде сказать, она умирает со скуки, столько дураков ее окружают.
Трудно сказать, что ее убедило. Осторожная ли настойчивость фрейлины, к которой она успела привязаться, мудрое ли суждение Потемкина... Но через несколько дней Екатерина Романовна все-таки отправилась в Сенат присягать на новую должность.
8 сентября ночью обрушилась на Царское Село небывалая буря. Жестокий юго-западный ветер ломал деревья в парке. В покоях императрицы оказались выбиты стекла. И Екатерина велела всем собираться, чтобы ехать в Петербург.
Однако в столице картина была не менее угрожающая. Сильные порывы ветра с моря подняли воду в Неве. В ночь с девятого на десятое уровень воды поднялся на десять футов. Почти все низменные части города оказались залитыми. Современники писали: «От сего наводнения освобождены были токмо Литейная и Выборгская части города; в частях же, покрытых водою, оно и в маловременном своем продолжении причинило весьма великий вред. Суда были занесены на берег. Небольшой купеческий корабль переплыл мимо Зимнего дворца, через каменную набережную; любский корабль, нагруженный яблоками, занесен был ветром на десять сажень от берега в лес, находящийся на Васильевском острову, в коем большая часть наилучших и наивеличайших дерев от сея бури пропала. По всем почти улицам, даже по Невской перспективе, ездили на маленьких шлюпках».
Убытки были чрезвычайными. Множество народу потонуло. В дальнейшем решено было на случай наводнения подавать упреждающие сигналы, и уже 21 сентября вышел указ: «Когда в Коломнах и на оконечности Васильевского острова вода начнет выходить из берегов, то дан будет сигнал для Коломны из Подзорного дома, а для Васильевского острова с Галерной гавани тремя выстрелами из пушек; и в обеих сих местах поднят будет на шпицах красный флаг, а ночью по три фонаря. Для жителей в Коломнах учрежден пост у Калинкина моста, от которого по третьей пушке пойдет барабанщик от Аларчина моста и обойдет Коломну, стуча в барабан. Тоже будет сделано и в Галерной гавани, от стоящей близ оной гауптвахты, от которой барабанщик по слободе будет ходить и бить в барабан».
12 декабря в девять и три четверти утра великая княгиня Мария Федоровна благополучно разрешилась от бремени сыном. И 20 декабря состоялось торжественное крещение младенца, которому, по желанию Ея Императорского величества, было дано имя Александра. Восприемниками были заочно император римский Иосиф II и король прусский Фридрих II Великий. После чего пошла череда праздников. «До поста осталось всего каких-то две недели, – писала Екатерина своему постоянному корреспонденту Фридриху Гримму [64] , – а у нас еще предстоят одиннадцать маскарадов, не считая обедов и ужинов, на которые я приглашена. Опасаясь умереть, я заказала вчера свою эпитафию».
По случаю рождения первенца-внука государыня подарила его родителям большое имение, верстах в пяти от Царского Села. Большая часть земли была там покрыта лесом, пересекаемым речкой Славянкой, которая так разливалась вёснами, что образовывала сплошные топи. Имелись и две деревеньки, населенные сотней с небольшим душ обоего пола. Незавидное место. Тем не менее подарок пришелся всем по душе. Императрица была довольна тем, что отдалила сына от большого Двора. Наследник мечтал о свободе для собственных военных упражнений. А Мария Федоровна вообще питала особенную склонность к занятиям сельским хозяйством. И, несмотря на то, что денег на постройки императрица давала крайне мало, постепенно на месте старых шведских укреплений выросла дача Мариенталь, оградою которой послужили заросшие шведские оборонительные валы. Появился и увеселительный домик – Паульлюст. С этих небольших построек и начался знаменитый дворцовый Павловский комплекс.
Святки Двор проводил обычно в Царском Селе. Выезжали туда налегке, ненадолго. Живали недели по две и возвращались в Петербург. Анна не любила этих поездок. Они нарушали распланированный ход придворной жизни, доставляли массу хлопот и по холодному времени были сопряжены со многими неудобствами. Поэтому она даже обрадовалась, когда императрица предложила ей остаться в городе, хотя это и означало, как она понимала, некоторую остуду отношений.
Вечером, после всеобщего «исхода», фрейлина с удовольствием расположилась у камина в своих покоях. Велела девке, заменявшей Дуняшу, сготовить чаю... Но человек предполагает, а Господь располагает. Покойный вечер не удался. Только она успела разложить карты пасьянса, в прихожей за дверью раздались голоса. «Господи, прости, – подумала она, поднимаясь, – кого принесло на ночь глядя?» И в этот момент дверь распахнулась и на пороге предстал ее пропавший камердинер Петр. Но, Боже правый, в каком он был виде... Шуба разодрана, глаз подбит, лицо в запекшейся крови, волоса растрепаны. Едва вошел, комната наполнилась запахом перегара, а Петр повалился в ноги.
– Барыня-матушка, ваше высокоблагородие! Не велите казнить. Без вины виноватый.
Анна отступила:
– Что случилось Петр Тимофеевич? Почему в таком образе? Кто тебя?..
– Виноват, ваше высокоблагородие, как есть виноват...
И далее Петр рассказал, как объезжали они имения его сиятельства, выведывали, не знает ли, не видел ли кто красавицу-цыганку. И как под Можайском в кабаке, один мужик рассказал, что де видел ее в недалеком отседова, в имении его светлости князя Потемкина... Как приехали они с Дуняшей в то село, остановились у старосты...
– Одного вина, матушка, сколь выпить пришлося, пока вызнали про все. Я, конечно дело, купцом сказывался, от князей де Телятьевых промышляю, желаю товару по селам возить...
Далее получалось, что, пока Петр бражничал, Дуняша нашла пути встретиться с Баженой и уговорила ту бежать. Решили – перед самыми Святками, пользуясь суматохой. Сперва Бажена боялась. Управляющий говорил, что его сиятельство пожалуют на праздники. Потом согласилась. Запрягли они кибитку, сказали, что де мол в Можайск думают, на базар поранее. И уехали.
Хватились их, не хватились, Петр не знал. Только до Москвы добрались без помех. Разве что волки несколько верст за кибиткой бежали, да Бажена плакала, все говорила – холодно ей. Ну, да лошади-то добрые. Вынесли. А там и печурку затопили...
От Москвы до Петера – шлях знакомый. Намедни прибыли со всем благополучием и остановились, как и наказывала Анна в доме дядюшки Alexis’a на Мойке. Дуняша желала тут же и во дворец бежать, доложить о приезде. Но он, бес видать попутал, отсоветовал. Дворня баню топила, а они уж сколь времени не мывши. После баньки чарочку, другую приняли... Сколько просидели, Петр не знал, только услышал вдруг крик девки-цыганки и Дуняши. Выскочил с мужиками во двор, глядь, а там ворота настежь и кони в карету впряжены, а гайдуки девок тащат... Кинулись отбивать с кем за столом сидел, да куда там, хмельные. А те-то ну здоровы: намяли бока, спасибо в живе оставили. Когда в себя пришел, их и след простыл: ни девушки-цыганки, ни Дуняши...
– Тогда сюды и побег... Виноват, ваше высокоблагородие, не уберег... – закончил он сбивчивый свой рассказ.
– Ладно, Петр Тимофеевич, чего слезы-то лить попусту. Чьи были гайдуки, не признал ли?
– Одного, двух, вроде бы признал.
– Ну?..
– Да-к его, матушка, Анна Степановна, светлейшего князя люди.
– Так я и думала. А куды повезли не вызнал, далеко ли?
– Думаю, в карете-то по этакому морозу далеко не ускачешь. Не в кибитке. Но и во дворец к его сиятельству, вряд ли повезут. Ушей да глаз, что тама, что тута...
– А на тебя, Петр Тимофеевич, кто донес?
– Покамест ума не приложу, истинный Христос.
– Ну, то дело терпит, узнаем. В дядюшкиной дворне не един доносчик. А вот куды повезли?..
– Матушка, Анна Степановна, не кручиньтесь, вызнаю я. Я за Дуняшей скрозь землю пройду, вы не сумлевайтесь...
Анна некоторое время сидела молча, глядела на истерзанного мужика и не видела его. Мысли обгоняли одна другую. «К кому обратиться? Что сказать государыне?»
– Вот что, Петр Тимофеевич, ты постарайся поразузнай сам по себе. Я тоже кой-кого поспрошаю. А через пару деньков приходи, поглядим, кто чего полезного узнал. К тому времени, авось чего и надумаем...
На том и расстались. Полночи проворочалась с боку на бок статс-фрейлина в своей одинокой постели, но ничего не придумала. Наконец здоровый организм взял свое и она уснула.
Тем временем, Петруша Завадовский, сын скромного помещика, еще совсем недавно подносивший составленные им реляции под грозные очи генерала Румянцева, вдруг сам стал генералом и графом, первым доверенным лицом императрицы. Его многие поддерживали. Теперь к Петру Васильевичу бежали по утрам придворные топтуны с докладами, а он, в восхищении от своей удачи, от «случая», предавался, как говорили, беззаботной беспечности, находясь в состоянии душевного опьянения. Даже нанял себе учителя музыки, чтобы играть на арфе...
Как-то Екатерина спросила Безбородко:
– Александр Андреевич, а что Петр Васильевич, не корыстолюбив ли? Уж больно холоден, расчетлив...
– Да как сказать, ваше величество. Охулку на руку не положу, но сие есть. Его многие «глупцом» кличут, понеже, он, как бы не пользуется положением своим и вашим благорасположением...
– И что же?
– Он на то говорит, что отменно застенчив, а посему не смеет за себя слова вымолвить.
– То есть правда. Он ничего не просит.
– Так ведь – умен...
– Э-э, Александр Андреевич, иная охвалка, хуже охулки...
Безбородко растянул толстые губы в ухмылке, но ничего не ответил.
– А что бы ему хотелось, получить, какой презент, не знаете?
– Ваше величество, да лучше вас никто подарка не выдумает...
Екатерина вспомнила похожий разговор, состоявшийся раньше с Annet’ой Протасовой. И тогда результат был примерно таким же... «Не глуп, не глуп, однако, этот хохол. Есть в его скользком уме что-то похожее на ум Annete. Не попробовать ли его в дипломатической службе. Приставить к старому сапогу Никите Ивановичу... А то, что-то болеть он стал... А Петра Васильевича надобно поощрить...»
На следующий день государыня пригласила Завадовского участвовать в обсуждении проекта здания государственного банка, представленного архитектором Кваренги. Петр Васильевич восхитился. И государыня тут же сказала, что готова построить такой же дом и ему. Проект был немедленно заказан тому же Кваренги. Вскорости планы великолепного здания с увеселительным домом, павильонами, многими флигелями и надворными строениями для подаренного имения Ляличи были представлены, и ее величество своеручно изволила сделать ряд исправлений. Петр Васильевич, увидев это великолепие, не сказал, а, скорее, простонал: «В сих хоромах вороны будут летать», на что государыня ответила: «Ну и что, я так хочу».
Позже, когда дом был построен, Завадовский велел поставить перед крыльцом статую своего благодетеля фельдмаршала Румянцева. И, проходя мимо, никогда не забывал снимать шляпу.
К общему неудовольствию, Потемкин недолго был в отлучке. Внутренние события требовали его присутствия в столице, где варилась вся политика государства. Новый фавор беспокоил светлейшего чисто политически. Завадовского откровенно поддерживали Разумовский с Румянцевым, ему был предан Безбородко, набиравший силу в недрах тайного кабинета и даже Григорий Орлов. Последний, исключительно из-за своей крайней нелюбви к одноглазому тезке. Об остальной придворной шушере, занимавшейся балетами, сплетнями и маскарадами, Григорий Александрович не думал. Хотя, в общем-то – напрасно.
Несмотря ни на что, он все же любил эту странную женщину, волею судьбы или прихотью истории вознесенную на вершину имперской пирамиды. Любила его и она. С самого начала Потемкин покорил императрицу мужской силой, своей любовной ненасытностью, но не только этим. В чем-то они были очень схожи. Екатерина всегда говорила, что «служит государству». Потемкин тоже служил – ей и Отечеству. Оба отличались широтой замыслов и дел, понимали и ценили это друг в друге. Потемкин даже превосходил своим размахом повелительницу России, которая все-таки воспитывалась в скромных условиях маленького немецкого княжества. При этом и совершать Григорий Александрович, несмотря на свою безалаберность, умудрялся значительно больше, чем Екатерина. Главное отличие заключалось в том, что он, как правило, доводил то, что замысливал, до осуществления, а начатые дела (хорошие ли, плохие ли) – до завершения.
Потемкин прекрасно понимал, что Екатерина в силу характера и темперамента своего не станет долго обходиться без партнера. И Завадовский, обладая умом мелким, скорее женским, без размаха, тем и беспокоил. Новый любимец, в силу изначальной бедности своей, уж больно хорошо умел считать чужие прибытки. В том числе и во первых строках – его потемкинские... А казна-то войной опустошена. Конечно, «бухгалтер» сей не на долгое время. А кто следующий? Не найдется ли, кто потеснит его не токмо на постели государыни, что он бы и пережил, а в делах?.. И зародилась у него мысль взять дело обеспечения императрицы любимцами в свои руки. При том «бухгалтера»... сменить.
Однажды Петр Васильевич, нежданно-негаданно, получил приглашение от светлейшего на ужин. Человек, принесший приглашение , сказал, что велели мол передать –Ужин будет интимным в мужской компании: трапеза, вино, карты... Надо ли говорить, как сначала испугался, а потом обрадовался Завадовский. Столько времени Потемкин его не замечал и «вот будьте нате»...
Вечер действительно удался на славу. Хозяин был любезен, гости приятны, вино и яства – отменные. А уж девки, подававшие!.. «И откуда они берут таких?» – с завистью думал про себя Петр Васильевич. Пир затянулся. Завадовский и не помнил, как из-за стола-то выбрался. Очнулся утром и не понял, где находится. Опочивальня, что твой бальный зал. Кровать под балдахином – шестеро поперек лягут, и еще место останется. Но главное... Петруша похолодел. Главное было рядом. В постели, под единым с ним одеялом на лебяжьем пуху, лежала дева. Та самая, на которую он вечор пялился более всего, с золотыми волосами, ныне разбросанными по подушкам.
Петр Васильевич осторожно отодвинулся, сел и обнаружил, что наг... «Матерь божья» – вырвалось из его уст. И тут проснулась красавица. Распахнула синие очи и потянулась так, что выпросталась из-под одеяла со всеми прелестями. У бедняги-фаворита, как говорится, в зобу дыхание сперло. Он попятился от ее простертых рук, заскулил жалобно и выскочил из необъятной постели. Закутался в шлафрок, кинулся к двери и был таков...
Где нашел граф Завадовский свои панталоны и кафтан с башмаками, как разыскал карету и растолкал кучера, спавшего тут же, сказать трудно. А вот его рассказ дрожащим голосом поведанный Екатерине Анна слышала. Слышала и не особенно добрый смех императрицы... Но, обеспокоенная долгим отсутствием вестей от своего посланца, близко эту историю не приняла. Между тем государыня, оставшись наедине с фрейлиной, заметила весьма жестким голосом:
– Что-то зело polissonner <Шалить (фр.).> позволять себе князь Григорий Александрович. Думает – буду прогонять граф Завадовский... Не выйдет... А пока, своди-ка его к Роджерсону...
Тем же вечером она впервые устроила сцену Потемкину. Под конец спросила:
– Ты закончил ли читать историю-то крымского ханства? Говорили, что зело быстр в чтении. Коли закончил, так не пора ли поехать да взглянуть на наместничество? А то ведь без своего пригляду дело не сделается...
Неделю спустя князь Григорий Александрович Потемкин с небольшой свитой уже ехал по раскисшим весенним дорогам навстречу солнцу, направляясь в Крым. В жизни этого великого царедворца и государственного устроителя начинался еще неведомый ему новый поворот судьбы – создание порубежной Новороссии, самого богатого края великой державы. Сколь слез пролито на ней бабами и мужиками русскими, уводимыми в татарский полон, а сколько крови солдат, завоевавших эти земли...
Дома Анну ждал сюрприз. В прихожей за маленьким столиком сидели и чаевничали Петр Тимофеевич и Дуняша. Анна даже не ожидала, что так обрадуется своей горничной. А та так прямо в три ручья разлилась. Пришлось утешать да успокаивать. Пригласив пропавших в будуар и затворив двери, Анна уселась рядом и сказала:
– А теперь, рассказывайте...
И слушала, не перебивая, длинный рассказ об удивительных приключениях ее посланцев и соглядатаев. Петр Тимофеевич все-таки дознался, кто из слуг Алексея Федоровича донес потемкинским клевретам об их приезде. Узнал и кого из дворни посылали отнять у них цыганскую девушку. А подольстившись и подпоив одного из форейторов, выведал и то, куда были отправлены обе пленницы. Но тут слово у него переняла Дуняша.
– А привезли нас, Анна Степановна, голубушка, не знай куды. Ежели бы вы меня с собой прошедшим летом в Раненбаум не брали, ни по чем бы не признала. А так-то примечаю, вроде знакомое место, хотя все снегом засыпано, не разбери-пойми. Потом поняла, что в ранбовску крепость попали. Кругом часовые. Солдаты в кафтанах коротких с ружьям на морозе стоят. Зябнут. Жалко их, страсть. Но так-то, все мужики ничего, справные... – Она лукаво взглянула из-под сбившихся волос на Петра Тимофеевича. – Из баб-то в крепости-то никого. Потому меня, знать и прихватили. Завели нас в каморы. А ничего себе. Ковры на полах расстелены, подушки. Только вот на окнах решетки. А так и не нахальничал никто, не баловал. Видать их сиятельство наказали. Бажена-то, дева сердечная, поначалу все плакала. Но потом перестала. Раза два сами его светлость князь Григорий Александрович приезжали, – ненадолго. Привезут подарков кучу, свалят вместе. Ну тама, конечно, и любовь... Только Бажена от всего отказывалась, все домой просилась. К весне стали нас гулять выпускать. Сперва во двор, потом в сад.
Только лучше бы мы в каморах сидели. Ведь чего приключилося-то, Анна Степановна... Встренула Бажена в саду какого-то офицера. Раз встренула, другой... Потом еще и еще... Где гуляли, про чего беседовали – не ведаю. Сказала она мне, что зовут его месье Поль и обхождение он имеет ласковое. Словом, понравился он ей. А потом проговорилась, что и она, мол, тому Полю по-сердцу. Он де сам ей то сказал, вроде как признался... Я чего... я тоже говорю, мол – дело молодое, только ты гляди, девка, ноги-то сразу не расставляй, а то ведь обманет. Нет, говорит, он не такой. И тута подходит к окну и зовет меня. Вона, грит, Поль на лошаде верьхами, глянь, какой справный конь под им... Ну, известное дело, цыганка, перво дело на коня глядит...
Я подошла, глянула и сомлела вся. Верите ли, ваше высокоблагородие, сидит на жеребце в аккурат под нашими-то окошками сами его императорское высочество великий князь Павел Петрович. Вот те и Поль... – Горничная замолчала, глядя в расширившиеся глаза хозяйки. – Истинный Христос, Анна Степановна, как на духу...
– Да я верю, верю. Рассказывай далее.
– Оклемалась я мало-мало и говорю: ты мол это чего вообразила? Перед кем жопой вертишь? Ведь это сами их императорское высочество. Какой он тебе Поль?.. Она как зальется слезами. Думала, ума решится. Так убивалась, так жисть свою цыганску проклинала, что и я с ею заревела. Ну, значит, отплакали мы свое. Бажена пообещалась не давать, значит, никакого авансу своему Полю. На том и кончились наши с ей об том разговоры.
Потом, уж не через неделю ли, я индо со счету сбилась, считамши, сколь времени мы в плену-то сидим, сказала она, что был промеж них разговор. Мол, повинился месье Поль в том, что виноват, не сказал сразу кто он есть. И что велит свободить нас из крепости. Мол, мы уже и сей момент свободны. Из камор перевели нас во дворец, в наилучшие палаты. Только Бажена слово свое сдержала, как и обещалась: наставляла его высочество, что де мол зря они ее, простую цыганку, полюбили. И что у них такая супруга прекрасная есть, котора им сынков-наследников народила. Это я ей все про их высочество великую княгиню рассказала.
А после, гуляючи, мы и с Петром Тимофеичем в саду встренулись. Он, грит, лошади мол готовы, можно в Питербурх ехать. Я, понятное дело, сразу согласилась. А Бажена, – ни в какую. Чего, говорит я тама в сырости делать-то буду. Я ей толкую, что де моя барышня сами статс-фрейлиной у их величества, и ее мол не оставят...Только не уговорила. Осталась она, вы уж не взыщите. А сама я сразу и приехала с Петром Тимофеичем.
Дуняша закончила и замолчала. Анна тоже не проронила ни слова. Невероятный неожиданный поворот событий сбил ее с толку и она напряженно размышляла, как доложить императрице о наследнике и Бажене?..
Сколько не было в столице Потемкина – месяца два, три ли? За это время холодный и пугливый Петя Завадовский успел надоесть Екатерине. И, надо полагать, светлейший это понимал. Потому что в один прекрасный день, еще до рассвета, когда большинство обитателей Зимнего дворца еще спали, Потемкин выпрыгнул из кибитки и, не останавливаясь, прошел в покои императрицы. Екатерина, в ожидании, когда девка-калмычка принесет холодной воды со льдом для умывания, сидела на маленькой скамеечке и растапливала камин; услыхав знакомые шаги, вскочила, прижала руки к груди. Он вошел, распахнув двери:
– Матушка... Катя!..
Обнял и подхватил на руки ее, хотя и потяжелевшую с годами. А женщина припала лицом к нему, заплакала и засмеялась.
Перед обедом был назначен Совет. Государыня не опоздала. Но когда за нею, как ни в чем не бывало, возникла громоздкая фигура Григория Александровича, не одного из членов этого наиважнейшего собрания продрал по спине мороз. Батюшки-светы, неужто промахнулись, поставив на темную лошадку, на тишайшего Петюнчика Завадовского? И тут же сами себе и ответили: «Точно, промахнулись. Ну разве сравнится крысенок со светлейшим? Да никогда в жизни. Вот он, возьми-ка его за рупь за двадцать. Поди всю ночь гнал лошадей. Ямщика, небось, замертво с козел сняли. А он – хоть бы что, только рожа покраснела более обычного. Громадный, гордый, непобедимый. Черная тесьма через лоб теряется в густых напудренных волосах. Грудь и тезево необъятные, словно ручьем полноводным голубая Андреевская лента перекрывает. Трость в руке с набалдашником из оникса... Светлейший – одно слово...».
Потемкин не заходил в фаворитские покои. Просто даже и не подумал. А там что творилось... Петр Васильевич метался из комнаты в комнату не прибранный, в шлафроке. Рвал на себе волосы, причитал...
– Куда же я-то теперь, Господи, и куда девать добро-то дареное?..
И тут же истерично начинал орать на лакеев, собиравших сундуки и корзины, что де медлят, что желают его разорения...
Потемкин, между делом, послал гусарского секунд-майора Зорича, воротившегося из Швеции, с наказом:
– Передай-ко, Семен Гаврилыч, этому... – Он помахал пальцами в направлении фаворитских хором. – Чтоб завтра духу его не было. Будет тянуть, – душу вытрясу...
Зорич усмехнулся, поправил усы, придержал саблю и пошел выполнять приказание. Казалось бы, простое дело – пройти вестибюлем, подняться по боковой лестнице, там повернуть, отсчитать три двери, в четвертую войти, спуститься вниз, еще раз повернуть и подняться перед Эрмитажем по другой лестнице прямо в хоромы. Да только, черт его знает, где в этих темных коридорах, какая лестница, в какую дверь войти, из какой выйти. Семен Гаврилович Зорич не так уж часто путешествовал по дворцовым переходам, да еще вечером, да без света и провожатого...
Короче говоря, когда он понял, что окончательно заплутался, решил действовать напролом, как в турецкой сечи. Пропустив несколько темных помещений, двери которых открывались легким поворотом ручки, он заметил под одной из них слабую полоску света из щели. «Слава тебе, Господи, – вздохнул гусар, – хоть одна живая душа нашлася». Он постучался и, открыв дверь, вошел.
В теплой передней было сумрачно. Свет проникал из следующего покоя через неплотно прикрытую дверь. Зорич огляделся. Глаза, привыкшие к темноте за долгое блуждание по коридорам, различили на софе чью-то фигуру. Кто-то спал, завернувшись в шубейку. «Чай, из дворовых. Не след незвано хозяев беспокоить, спрошу так...» Он тронул спящего за плечо.
– Эй, послушай...
– А? Кто? Чего?.. – с дивана вскочила девка. – Тебе чо надоть? Чо по ночам-то... – Она не успела закончить фразу, как из-за двери раздался еще один женский голос:
– Кто там, Дуняша? Что случилось?
Зорич замахал руками.
– Тихо, чего орешь... Заплутал я тута у вас. Дорогу в покои любимца укажи и будет с тебя.
В этот момент дверь открылась, и на пороге показалась женщина в пеньюаре с трехсвечным шандалом в руке.
– О, да у нас гость... – Анна, а это была она, с удивлением посмотрела на незнакомого ей чернявого, статного офицера в блестящем гусарском мундире, и сразу отметила про себя его жгучую южную красоту.
– Простите великодушно, – Зорич закашлялся. – Истинную правду говорю – совсем заплутался в коридорах ваших. Темень. А его светлость велели господина Завадовского из своех покоев вытряхнуть... А где оне, покои– то энти?.. Говорят: туды поверни, сюды. Однех лестниц не перечесть... – Все это можно было бы и не рассказывать, но свечи в руке женщины столь рельефно выделили соблазнительные подробности ее фигуры, что изголодавшийся гусар явно решил продлить удовольствие. – Позвольте представиться – секунд-майор Зорич Семен Гаврилович, ваш покорный слуга...