Сантрелья Вепрецкая Тамара
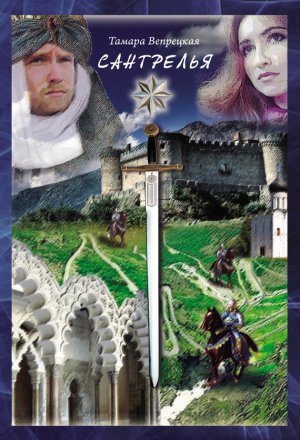
От поворота и до поворота
Ведет нас путь, то горький, то счастливый.
Хуан Боскан (1490–1542) /испанский поэт эпохи Возрождения/Вскоре Сулейман позвал меня на помощь Святогору. Слуга привел меня в южные помещения замка, где я еще ни разу не бывала. Небольшую комнату на втором этаже с низким тяжелым сводчатым потолком, по словам араба, занимали церковные служки и монахи, обитавшие в замке. На деревянной лавке лежал какой-то человек. Возле него суетился Святогор.
— Элена! — обрадовался последний. — Ты мне очень нужна. Падре Ансельмо — один из раненых. Сейчас он без сознания, и ему необходимо постоянно менять повязки и накладывать мази. Возле него неусыпно должен кто-то находиться. Но в замке есть еще один раненый — младший сын хозяев пятнадцатилетний Габриэль. Родители его ни в какую не позволили мне разместить обоих пациентов в одной комнате. А во внимательном уходе нуждаются оба. И я вынужден бегать от одного больного к другому, оставляя их на попечении сиделок.
Я приблизилась, чтобы рассмотреть своего подопечного. Седоволосый старец с бледным, чуть землистым лицом, запавшими глазами и обострившимся носом не приходил в сознание, и если бы не едва заметное хрипловатое дыхание, я бы подумала, что он умер. Меня пугала ответственность ухода за таким тяжелым больным. Но Святогор явно торопился и, призвав меня к вниманию, стал подробно объяснять мне мои обязанности. Я собрала в кулак все свое мужество и усердие, стараясь изо всех сил не переспрашивать и вникать в таинства врачебного мастерства с первой попытки. Однако несколько раз я все же терпела фиаско и задавала нелепые вопросы. Он терпеливо повторял объяснение. Наконец, инструктаж завершился, и я позволила себе полюбопытствовать:
— Кто он?
— Падре Ансельмо — святой отец, отшельник, знаменитый своей праведностью, чудотворными деяниями и ясновидением, — ответил Святогор. — Извини, я должен идти.
Вечером мне приказали явиться на богослужение, и с падре Ансельмо остался один из монахов. Во время службы мне позволили встать за хозяевами. Беренгария попятилась чуть назад и почти сравнялась со мной.
— Элена, — возбужденно зашептала она. — У нас такие ужасные события! Я должна непременно рассказать тебе.
Я посочувствовала и приготовилась слушать, но падре Эстебан взглянул в мою сторону и не преминул возмутиться:
— Дочь моя, Элена, кто позволил тебе стоять вместе со своими сеньорами? Твое место — далеко позади.
Я покорно кивнула, извинилась перед девушкой и отступила вглубь часовни. Но ей слишком не терпелось поведать мне о семейных горестях. И после богослужения она бросилась ко мне и шепнула:
— Пойдем вместе.
Но она недооценила бдительность святого отца.
— Элена, дождитесь меня, — мягко попросил он, так, что я не смела отказать ему в этой маленькой любезности.
Я вынуждена была снова извиниться перед девушкой. Она, конечно, огорчилась, но понимающе кивнула и удалилась.
— Господу угодно, чтобы вы проявили себя на поприще милосердия, — высокопарно заговорил падре Эстебан. — Пока вы призваны ухаживать за страждущими, я разрешаю вам посещать часовню лишь во время богослужения. А читать молитвы вы будете у ложа больного, моля Господа о выздоровлении оного.
Так моя роль сиделки получила законное оформление.
— Сейчас все в замке очень заняты, и мы не в состоянии предоставлять каждый раз провожатого для вашего передвижения, — продолжал падре. — Я уповаю на ваше благоразумие и благочестие, и полагаю, что вы доберетесь до покоев несчастного падре Ансельмо без посторонней помощи и без лишних приключений.
Я смиренно поклонилась и по его сигналу направилась к выходу. Из часовни я решила выбраться на улицу и пройти через двор, потому что уже два дня не была на свежем воздухе. У самого выхода, откуда ни возьмись, вынырнула Беренгария, слегка напугав меня.
— Я чувствовала, — защебетала она, — что ты захочешь прогуляться. Но все же пойдем со мной.
— Извини, милая Беренгария, — отнекивалась я, — меня ждут, я должна непременно вернуться к раненому.
— Я только познакомлю тебя с братом. Мой младший брат Габриэль, ранен арабами. Он первым бросился на защиту отца Ансельмо, — затараторила девушка, увлекая меня обратно в душные коридоры замка. — Я тоже ухаживаю за братом. Он такой славный мальчик, вот увидишь.
— Но почему я его до сих пор не видела? — поинтересовалась я.
— Ты разве не знаешь? Он воспитывался с двенадцати лет в замке Дауро. Разве в вашей стране не отдают мальчиков на воспитание и обучение воинским наукам соседнему сеньору? — удивилась девушка.
— Да-да, конечно, — поспешила согласиться я.
— Так вот, сеньор Берсеро, владелец замка Дауро, направлялся со своими вассалами и Габриэлем к нашему отцу, и по дороге брат первым заметил, как арабы захватили святого отца. Он пустил коня вскачь и вступился за старца. Подоспевшие воины спасли их обоих, но старец оказался тяжело ранен. Ранен и мой бедный Габриэль, — сокрушалась Беренгария. — К счастью, Сакромонт умеет врачевать, и мы очень полагаемся на него.
Я ощутила невольный прилив гордости за своего земляка, столь развившего свой ум разносторонними знаниями. Словно услышав мои мысли, девушка добавила с каким-то особым воодушевлением:
— На мой взгляд, Сакромонт — самый умный и образованный в нашем замке.
И мне почудилось, что она зарделась.
Мы добрались до покоев дона Альфонсо. Беренгария тихонько постучала. Дверь распахнул сам молодой хозяин. Я извинилась за вторжение. Девушка тут же объяснила, что хотела познакомить меня с братом. Дон Альфонсо провел нас к постели больного. Около кровати стоял Святогор, увлеченный изготовлением какого-то снадобья. Беренгария подвела меня ближе к больному.
Габриэль спал. Бледный, совсем еще мальчик, настоящий ангелочек, такой же рыжеволосый, как сестра. Под глазами легла болезненная синева. Он чуть учащенно и чуть прерывисто дышал. Губы воспаленно алели на бледном лице.
Внезапно обернувшись, меня увидел Святогор. В его взгляде промелькнул немой укор.
— Элена, я надеюсь, ты не оставила пациента без присмотра? — осторожно поинтересовался он.
— Когда я уходила на богослужение, возле него оставался монах, — я попыталась дать понять, что не вольна в своих перемещениях по замку.
Он огорченно кивнул, выказывая понимание. Далее он деловито объяснил Беренгарии, что необходимо делать с приготовленным лекарством. Девушка, вероятно, исполняла роль добровольной сиделки при возлюбленном брате.
— Я отлучусь проведать падре Ансельмо. Дела его очень неважные, — обратился Святогор к дону Альфонсо. — Я вернусь через некоторое время. Если что-то срочно понадобится в мое отсутствие, вы знаете, где меня найти.
— Спасибо, Сакромонт, — откликнулся молодой хозяин. — Сейчас малыш спит, но мне кажется, ему уже немного лучше.
— Это так. Но кризис еще не миновал, — ответил наш целитель. — Не оставляйте его без присмотра.
— Я буду при нем день и ночь! — воскликнула Беренгария.
Святогор одобрительно улыбнулся:
— Вы славная девушка, Беренгария. Я всегда считал, что могу положиться на вас.
Девушка вся засветилась и немного покраснела.
— Не беспокойся, Сакромонт, — подал голос Альфонсо, — мы не оставим брата. К тому же здесь неустанно находится матушка.
— Донье Эрменехильде необходим отдых, — заметил доктор, — она сильно переволновалась.
Мы откланялись и ушли.
— Элена, я так рассчитываю на твою помощь, — сказал Святогор и крепко сжал мне руку, пока мы быстро шагали по лабиринтам замка. — Не отлучайся от старца. Он очень плох, а я не могу раздвоиться.
— Но я, в любом случае, не смогу оказать ему необходимой помощи в нужный момент. Я абсолютно ничего не смыслю в медицине, — растерянно проговорила я.
— Это ничего, я подоспею вовремя, — подбодрил он, снова сжав мне руку, и вдруг произнес: — Какое у тебя красивое имя! Мне кажется, я слышал его раньше.
— Наверняка, — согласилась я. — По-русски меня зовут Елена. Так звали княгиню Ольгу в крещении.
— Княгиню Ольгу? — изумился он. — Какую?
— Благодаря которой, твоя матушка была христианкой, ты же сам мне рассказывал.
— Ах, да! Откуда же ты это знаешь?
— Мы же изучаем историю нашей страны, — засмеялась я.
Он восхищенно покачал головой и произнес как-то совсем по-русски:
— Елена!
В "лазарете" нас ожидал сюрприз: старик пришел в сознание. Он хрипло и тяжело дышал, но при этом тихая улыбка играла у него на губах. Святогор бросился к нему:
— Святой отец!
— Это ты, мой мальчик, — выдохнул больной, — это ты исцеляешь меня? Спасибо, Господь не забудет твоей доброты и оценит твои знания.
— Молчите, ваше преподобие, — поспешил остановить его врачеватель, — вам не следует разговаривать. Берегите силы. Постарайтесь уснуть. Вам необходим покой и отдых.
Он сделал перевязку. Старец закрыл глаза, лишь когда боль не позволила ему долее улыбаться. Вздохнув, он открыл глаза и еще раз осмотрел своего врачевателя.
— Где я нахожусь, сын мой? — поинтересовался старик. — И почему на тебе мусульманские одежды?
— Я мусульманин, но вы не волнуйтесь. Это христианский замок Аструм Санктум дона Ордоньо Эстелара, — ответил Святогор. — Здесь вам рады помочь. И здесь будет ваш приют до самого вашего выздоровления. Я на службе у сеньора замка.
Святой отец с усилием кивнул и смежил воспаленные веки.
Ночь прошла у постели больного. Иногда меня сменяли Сулейман или какой-нибудь монах, и мне удавалось подремать в уголочке. А вот для "главврача" этой маленькой клиники, по-видимому, не выпало даже минутки отдыха. Ночью священник метался в жару, да и мальчик тоже требовал от Святогора неусыпного внимания.
Утром в покои заглянул дон Ордоньо. Святогор как раз менял старцу повязку. Хозяин осведомился о состоянии святого отца и о здоровье своего сына.
— Состояние мальчика не вызывает у меня таких опасений, как падре Ансельмо. Но оба пациента требуют серьезного лечения, — отчитался "медик". — Дон Ордоньо, я не врач, я воин, однако, во дворце халифа я получил разностороннее образование. Но я уже много лет служу вам, и многие новшества в медицине мне не ведомы.
— К чему ты клонишь? Уж не хочешь ли ты отправиться к арабам? — возмутился владелец замка.
— О нет, это очень далекое путешествие, а у меня слишком мало времени, — сказал Святогор. — Хотя было бы полезно познакомиться с новыми знаниями. Дон Ордоньо, я имел кое-какие контакты с моими единоверцами и старался всегда узнавать новое, используя любую возможность. Так вот, есть у меня один рецепт, как раз для ранений такого рода. Но мне не приходилось еще применять его на практике и досконально изучить его свойства. Короче говоря, я не рискнул бы применить его без оглядки ни для святого отца, ни тем более для сына вашей милости.
— На ком же ты можешь его опробовать? — понял его хозяин.
— Я подумал, что наилучшим пациентом для исследований мог бы стать загадочный узник, — деловито и бесстрастно проговорил Святогор.
Я похолодела и затаила дыхание.
— Его пытками довели до такого тяжелого состояния, что ему в любом случае необходимо лечение. И в то же время, если лекарство окажется неэффективным или будет иметь отрицательные последствия, это скажется лишь на узнике.
Я не верила своим ушам. И это говорил Святогор, русский богатырь, благородный, любимый мною Святогор! Я изображала изо всех сил сосредоточенную возню около пациента и ждала ухода дона Ордоньо, чтобы немедленно призвать к ответу Святогора и выяснить, к чему он клонил.
— Я не возражаю, но где ты станешь лечить его? Не в каземате же? — пробасил сеньор.
— Нет, — вздохнул врачеватель. — Это было бы выше моих сил. Я не смог бы постоянно находиться сразу возле трех больных, расположенных в разных концах замка. Если бы ваша милость позволили, его можно было бы поместить здесь же на другой лавке.
Дон Ордоньо задумался, окинул комнату взглядом и ответил, что немедленно распорядится доставить сюда и создать ему условия; только пусть Сакромонт непременно испробует самые сильные средства. Хозяин уже собрался идти, как раздался стон раненого:
— Аструм… Санктум…звезда…
В эту же секунду в покои вошел падре Эстебан и увидел, что все застыли в растерянности. И он тоже стал свидетелем слов раненого, произнесенных в бреду:
— Аструм…Звезда…Здесь…Предназначение…
Больной затих. Священник приблизился к его постели и долго сосредоточенно молился.
— Сакромонт, — позвал он, наконец, — от твоих усилий зависит теперь жизнь этого святого старца. Сколько чудесных деяний совершил он во имя Господа! И Господь наделил его внутренним зрением. Люди со всей Кастилии и со всего христианского мира стекались к нему за советами и помощью, а то и просто за добрым словом, идущим от самого Господа. Вот и сейчас в бреду ему явилось какое-то откровение, и мы слышали его слова о замке нашем, однако, смысл их пока сокрыт от нас.
Святогор слушал с почтением и пообещал приложить все усилия к выздоровлению старика. Падре Эстебан оглядел всех присутствующих, поклонился дону Ордоньо и подозвал меня:
— Элена, обращаюсь к тебе в присутствии владельца замка, сеньора нашего дона Ордоньо. От тебя, от твоего усердия в молитвах также зависит теперь судьба этого старика и всех тех, кто страждет его наставлений.
Я пролепетала, что стараюсь. Дон Ордоньо одобрительно подмигнул мне и, уходя вместе со священником, намекнул Святогору, что не забыл о его просьбе.
Днем Коля уже лежал в одних покоях с раненым священником, причем с него даже сняли кандалы. Святогор сделал из него подопытного кролика. Однако врачеватель надолго уходил ко второму пациенту, а монахи иногда отлучались по своим делам, и мы с братом ухитрились даже немного поболтать. Именно он и объяснил мне "коварство" Святогора, который никаких новых средств не испытывал на Коле, а лишь вытащил его из темницы.
И потянулись дни и ночи у постели больного. Я уже неплохо научилась справляться с перевязкой, хотя каждый раз ужасалась при виде ран и ссадин на теле старика. Днем и ночью я дежурила около него, иногда читая молитвы. Спать удавалось немного.
Вечерами я покидала эту пропахшую снадобьями и мазями комнату, чтобы присутствовать на богослужении. После церкви Беренгария неизменно приводила меня в покои дона Альфонсо, где потихоньку поправлялся мальчик. Несколько раз я заставала там Святогора, и я стала замечать, как краснела Беренгария, когда целитель обращался к ней с просьбами или указаниями. Она начинала вся светиться и как-то всем телом подавалась вперед, словно в таком положении она лучше воспринимала его слова. Совместный уход за юным Габриэлем, очевидно, совершил переворот в девичьей душе. Пленник отца, уже много лет живший в замке, неожиданно превратился в долгожданного героя ее романа. Я понимала ее. Еще бы! Он такой красивый, такой умный, такой обходительный! Теперь он оказывался спасителем обоих ее братьев. К тому же, он напоминал волшебника, потому что ему единственному в этом замке оказались подвластны тайны целительства. А какой он был заботливый и внимательный! Юное сердце, давно жаждавшее любви, не устояло и растаяло. Ничего не пришлось дорисовывать в воображении, не пришлось выискивать героя в любовных романах, как это сделала бы моя современница. Беренгария не читала романов: они в то время еще не писались, да и не знаю, умела ли девушка читать. Идеальный герой был налицо и не нуждался в ретуши.
Я понаблюдала за Святогором. Но он, слишком увлеченный своим делом, к тому же смертельно усталый (он не спал уже несколько ночей, выхватывая лишь урывками час-два сна в сутки), ничего не замечал. Я горько усмехнулась. Теоретически шансы моей юной соперницы преобладали над моими. И он, и она принадлежали к одному времени, их связывали одни представления о жизни. У меня же не могло быть ничего общего с людьми этого времени. Нас разделяло тысячелетие!
Падре Ансельмо выздоравливал очень трудно и медленно. Фактически, как только ему становилось лучше, состояние его тут же делало крен в сторону ухудшения. Я ловила иногда печальный взгляд Святогора, когда он осматривал больного. Но он не терял надежды, упорно продолжая лечение.
На Святогора больно было смотреть. Лицо его осунулось, глаза воспаленно блестели изумрудной матовой зеленью, но он не жаловался. А по утрам он всегда выглядел посвежевшим и бодрым, даже если этой ночью ему не пришлось ни на минуту сомкнуть глаз. Вероятно, он ухитрялся общаться иногда со своими богами, и они давали ему веру. Или же он делал свою гимнастику, и она давала ему силы.
Я не имела подобных источников силы, и хотя спала явно больше, а работала явно меньше, чувствовала себя совсем измученной. Однажды утром я меняла падре Ансельмо повязку с мазью. Святогор тем временем его осматривал. Не то от вида раны, не то от усталости, когда я выпрямилась, в глазах у меня потемнело, и я почувствовала, как почва уходит из-под ног.
Каким чудом Святогор успел подхватить меня, не ведаю, но только он не дал мне упасть. Он держал меня, прижав к себе, а голова моя покоилась на его плече. В этот момент в комнату впорхнула Беренгария и издала невольный возглас удивления. Этот звук заставил меня очнуться, и я нашла себя в объятиях Святогора. В них же меня нашла и Беренгария.
— Беренгария! — обрадовался Святогор, ничуть не смутившись, — Элене плохо, дай скорее воды.
Меня напоили и усадили в деревянное кресло. Пока я приходила в себя, я наблюдала, как девушка возбужденно шептала что-то Святогору, приблизившись вплотную к его лицу и даже приподнявшись слегка на цыпочки. Выслушав ее, он кивнул, и они вместе покинули помещение.
— Эта девчушка по уши влюблена в нашего доктора, — шепнул мне Коля.
Мы были пока одни. Падре Ансельмо спал.
— Боюсь, что так, — согласилась я.
— Боишься? — удивился брат. — Ты разве ревнуешь? Родная моя, ты что тоже…?
Он не договорил, не отважился.
— Коля, милый, мне чужда ревность, ты же знаешь, — заверила его я. — В чувствах же своих я еще не разобралась. Но вот с предчувствиями, как я успела убедиться, я вполне знакома. И сейчас я предчувствую недоброе. Хотя куда уже хуже?
— Тебе просто нужен отдых, — пытался успокоить меня брат. — Ты устала. Мне-то Абдеррахман устроил здесь почти санаторий по реабилитации после двух с лишним недель заточения в суровом каземате. А вы с ним работаете на износ. Ты уже падаешь в обморок, а от него осталась одна тень.
Через некоторое время вернулся Святогор. Оставив Сулеймана присматривать за больными, он увел меня в свои покои и заставил лечь в постель. Я сопротивлялась:
— Святогор, ты устал гораздо больше меня. Отдых необходим, прежде всего, тебе.
— Я выносливее тебя. Я бывал и не в таких переделках, я не спал и не по пять суток…
— Я ничего не знаю о твоей жизни, — удрученно вздохнула я.
— Я обязательно расскажу тебе, — заверил он меня. — А сейчас спи.
— А ты? — не унималась я. — Посмотри на себя. Глаза утонули в темных кругах, нос заострился, брови сдвинулись, а лоб сморщился, будто тебе доставляет огромных усилий держать глаза открытыми…
И я не удержалась: ласково провела рукой по его бровям, глазам, очертила контур носа и скользнула пальцами по губам, погладила усы и бороду. Я подумала, что я совсем утонула в приглушенной зелени его глаз и заблудилась в густоте его ресниц. Он как-то неестественно застыл, будто выжидая чего-то или испытывая внутреннюю борьбу. Он, как в замедленной съемке, осторожно оторвал мою руку от своего лица и прижал ее к губам. Потом также медленно и осторожно он притянул меня к себе, покрыл мое лицо легкими, нежными поцелуями и, наконец, притронулся губами к губам. Он уже хотел отпрянуть, вероятно, опасаясь обидеть меня, но я удержала его, обвила его шею руками, и страстный поцелуй состоялся. И теперь я знала наверняка, что я совсем пропала.
— Как же я расстанусь с тобой, девочка моя? — прошептал он, крепко сжал меня в объятиях, заставил лечь, приказал мне спать и тихонько ушел.
Глава двадцать седьмая ПРИ ДВОРЕ ХАЛИФА
Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет:
Не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю бога и прославляю милость его за то, что он меня, грешного и худого, столько лет оберегал от тех смертных опасностей, и не ленивым меня, дурного, создал, на всякие дела человеческие годным.
"Поучение Владимира Мономаха"
Я провалилась в сон, словно в глубокий освежающий колодец. Сколько я проспала, не знаю, но разбудил меня странный звук, проникший в мой сон и совпавший с ним. Мне снилось, что я открываю тяжелую дверь со скрежетом, а за нею меня встречает Святогор. И я попадаю в его объятия. А одет он по-современному — в джинсы и рубашку, и этот наряд ему очень к лицу. Но что-то раздражает нас, мешает раствориться в радости видеть друг друга и быть вместе. И тут я замечаю, что дверь-то уже открыта, а звук все еще продолжается. И я очнулась.
В этот момент Святогор закрывал дверь подземелья. Он выглядел озабоченным, почти удрученным. Я позвала его. Он бросился ко мне:
— Ты уже проснулась? Как ты себя чувствуешь?
— Я-то хорошо, — смутилась я. — А ты? Тебя что-то тревожит?
— Да, многое, но больше всего меня беспокоит то, что должно меня радовать, — и он как-то робко улыбнулся.
— Что? Что это? — не поняла я.
— Видишь ли, я очень хочу спасти вас с Николасом. Я понимаю, что вам грозит здесь опасность, — сказал он. — И я каждый день ходил в подземный коридор наблюдать за поведением световой стрелки.
— Боже, когда же ты все успеваешь? — поразилась я.
— Это не требовало от меня никаких героических усилий, — отнекивался он. — Просто я приходил туда, ориентируясь по солнцу то за час до появления стрелки, то через час после нее.
Он грустно помотал головой, будто прогоняя наваждение, и продолжил:
— Вчера я пришел через два часа и увидел стрелку, острием своим указывавшую в сторону выхода, от моего жилища. Сегодня решил я удостовериться в ее действенности и захватил с собой кубок. Я поместил его на стрелку и, когда она погасла, кубок исчез.
Я ахнула. Я до сих пор не могла поверить в чудеса, не могла привыкнуть к ним.
— Это означает, — подытожил Святогор, — что врата времени открыты и на выход. И завтра я должен отправить вас обратно в ваше время, — он вздохнул. — Да-да, я должен.
Я замерла, ожидая, что он скажет дальше. Он посмотрел на меня грустно. Взгляды наши встретились, и мы так долго не отрывали друг от друга глаз, что, казалось, зелень его глаз перетекла в мои, окрасив их в серо-зеленый цвет, и изумруд его глаз чуть разбавился сероватым оттенком моих.
— Я должен отправить вас завтра домой, — повторил он и как-то беззащитно, по-детски улыбнулся. — Но я не хочу. Не хочу!
Я коснулась его руки и спросила:
— Мы спешим?
— Да-да, я думаю, нам пора, — растерянно произнес он.
— Жаль, — вздохнула я. — Я так хотела, чтобы ты рассказал мне дальше историю своей жизни. Ведь завтра мы расстанемся, и я никогда ее не узнаю.
— Пойдем, Елена, мы нужны пациентам. Как только выпадет свободная минутка, я обязательно расскажу тебе.
Падре Ансельмо чувствовал себя бодрее и обрадовался нашему появлению. Он о чем-то беседовал с Колей на латыни, а когда мы вошли, вдруг обратился к Святогору:
— Мой уважаемый лекарь, поведайте мне, как оказались вы в этом христианском замке.
Я удивилась тому, что просьба больного совпала с моей, и углядела в том добрый знак. Я начинала верить снам, совпадениям и чудесам. А Святогор усмехнулся, пощупал пульс у священника, одобрительно кивнул и промолвил:
— Что ж, видно, не уйти мне сегодня от рассказа.
Он заговорщически подмигнул мне, устроился рядом с постелью раненого и начал рассказывать. А я снова приведу здесь отрывок из его рукописи:
"Стал я жить в сказочном дворце Мадинат Аль-Сахра. А держали меня, дабы сделался я халифа "заморской ученой собачкою". И здесь во дворце продолжил я свое просвещение. Науки у арабов возводились в культ. Здесь ценились по-особому медицина и математика, астрономия и философия, и владение словесностью. Высочайшим искусством полагали арабы каллиграфию, величая ее "духа геометрией". Самой же достойной наукой почиталась теология, в этом мире место их людям разъяснявшая. Уважением великим пользовались те, кто для себя способен был почерком изысканным переписать "Коран", и украсить его рисунками-миниатюрами. И познания сии человеческие во дворце постигал и я, учителями именитыми направляемый. Сам халиф развращенным был человеком и избалованным. Он пытался лишь создать у подданных впечатление, что достойный сын он отца своего, покойного халифа Аль-Хакама Второго /*Аль-Хакам II — второй кордовский халиф, прославившийся своим миролюбием и богатейшей библиотекой, насчитывавшей 400 тыс. книг. Правил с 961 по 976 гг./, богатейшей и изумительнейшей библиотекой своей прославившегося.
Аль-Хакам пополнял эту знаний сокровищницу неустанно и с прилежанием. Почитал он книгу лучшим подарком мусульманина мусульманину. При правлении Аль-Хакама, сказывают, в стенах дворца самые знаменитые поэты и сочинители слагали свои вирши и сказания; самые мудрые философы искали истину и делились своими поисками в своих творениях; самые искусные каллиграфы, среди которых преобладали женщины очаровательные и образованные, занимались переписыванием книг и украшением их; самые талантливые медики врачевали обитателей райского уголка самой Кордовы и спасали немощных с самых дальних уголков халифата всего. Аль-Хакам славился как самый образованный и наименее жестокий халиф. И в правление его несколько годов прочный мир царил между Аль-Андалус и христианами. Сыну завещал он мир оберегать и не поднимать оружия и войск, иначе как по острой надобности, для защиты правды и справедливости. Ибо, по разумению его, только в мирной жизни можно знания приумножать и народу своему дать процветание.
Однако, прошли эти времена, и взошел на престол Хишам Второй. Был он младшим и поздним сыном великого Аль-Хакама и наложницы Субх, покорившей пожилого халифа волосами своими светлыми и глазами голубыми и подарившей ему двух сыновей. Старший, к сожалению, долго не прожил. И поспешно объявил халиф маленького Хишама своим наследником. Совсем мальчиком оказался наследник в руках сильного Мохаммеда ибн Аби-Амира игрушкою. Был тот во дворце человеком случайным и новым, однако же сумел втереться к халифу в доверие и особенно к молодой его наложнице. Мохаммед внешностью обладал столь обаятельной и столь великим честолюбием, что очень скоро утвердился он в халифате на первых ролях. Поговаривали, был он самой Субх даже полюбовником. Они нуждались друг в друге одинково. Ее влиянье при дворе полагал он ступенькою для дальнейшего наверх продвижения. Она же видела в нем опору для сына своего возлюбленного, слишком юным на престол восходившего.
Так все и произошло. Постепенно удалось Мохаммеду ибн Али-Амиру остаться советником и министром единственным юного халифа. И тщеславие его ему позволило одного лишь человека иметь над собой — самого халифа, причем власть последнего становилась столь призрачной, что вся власти полнота, все бразды правления сосредоточились в руках Мохаммеда. Хишама же министр приобщал к образу жизни неправедному и нездоровому, разрешал ему возлияния винные, поощрял его наклонности самые низменные.
Воздвигнет вскоре Мохаммед на берегах Гвадалкивира бурного и для себя дворец столь же прекрасный, как дворец самого халифа. И имя даст ему похожее, Мадинат Аль-Сахира наречет его. Перенесет он в резиденцию свою все службы государственные. Халиф же останется в Мадинат Аль-Сахре, как птичка в золотой клетке, великий, но ничтожный, всевластный, но без власти, свободный, но пленник, охраняемый будто бы во имя безопасности телохранителями и лишенный права передвигаться по собственному желанию.
Мохаммед же, стремясь еще выше взлететь и прославиться, возобновил священную войну против христиан и одержал победы многочисленные. И вот с победой воротясь из королевства Леон, он принял титул Аль-Мансура, " Божьей волею победителя ".
В эту пору и протекало детство мое и юность моя при дворе халифа. Доводилось с Аль-Мансуром видеться и мне. Человек этот великий в устремлении противопоставить себя всему человечеству, и вправду обладал обаянием поразительным. Меня заставляли петь иль декламировать при нем. Терялся я, благоговел от его взгляда проницательного, казалось, этот человек все знает обо мне, все мысли читает мои с легкостью. И он образованием своим значительно халифа превзошел, и уважение имел он к слову писанному. Но знаю я, по приказанию его, как будто с ересью в борьбе, целые тома, драгоценные и многомудрые, из библиотеки, столь любовно Аль-Хакамом собиравшейся, были принародно преданы на площади огню. Этого не мог я простить ему и негодовал в душе, но, увидев его, забывал обо всем и готов был преданно ему служить, потрясенный его величием. Чувствовал, что по душе ему и я. Ласково трепал он меня по белокурым волосам и особенно заинтересованно об успехах моих проведывал у наставников моих.
Именно Аль-Мансур распорядился новым направлением просвещенья моего. Обучаться начал я делу военному. Полагал он, что, как и все, должен был я поддерживать халифата мощь именно теперь. Поражения свои проклиная, христиане стремились к единству, и арабам достойный готовы были в битвах они дать отпор.
Незамеченными не остались ратные мои умения. Военные наставники удивлялись моей стрельбы из лука меткости, способности в седле держаться и с лошадью управиться даже на всем скаку. Всем этим и другим искусствам воинским еще в раннем детстве обучил меня мой батюшка. И арабы уже в юности ранней привлекли меня к участию в военных кампаниях, сначала в пехоте средь простого люда солдатского, а затем и среди всадников, в чью семью меня приняли за заслуги мои ратные.
Думается мне, сам Аль-Мансур оценил успехи мои воинские и наградил, возвысив меня в звании. Не считался я более рабом иль пленником, а почитался наравне с воинами, коих иногда превосходил познаниями, что все ж сверх меры ценилось в арабском обществе.
Вскоре стал я разбираться и в делах политических во всей Аль-Андалус. Уразумел я тогда, что Аль-Мансур, всемогущий и самовластный, подмявший под себя халифа несчастного, слабого и развращенного, проводил политику особую. Справедливо опасался этот деспот, что поднимется супротив него, узурпатора, знать родовитая, его возвышением недовольная, жадная до власти, богатства и славы. Не желал допустить он такого поворота, великой обладая дальновидностью. И создал он организацию военную нового образца. В ней равны все стали по званию: и арабы племени знатного, и арабы происхождения низкого, и берберы дикие, из Северной Африки пришедшие, и невольники, ликом черные, и даже христиане, по какой-то причине арабам служившие. И не делал он ни для кого исключения, не допускал никому послабления, и не возвышал никого без заслуги истинной. Это силу давало деспоту невероятную, мощь военную и преданность личную всего воинства его многочисленного. Потому-то я и возвысился, хотя был я тоже невольником.
Появился у меня со временем даже оруженосец и слуга мой верный, Сулейман, который водил за мной в походы ослика вьючного с провизией и запасами оружия. Он с восторгом щит мой носил кожаный, драгоценный и дорогой, мне подаренный самим диктатором. Не прославился я убийствами, не участвовал я в грабежах и насилии над жителями деревень покорившихся, за что презирали меня часто воины, особенно из племени берберского, верные псы узурпатора. Однако сам Аль-Мансур относился ко мне с уважением, окружал меня ласкою, потому что копье мое — смелое и меткое, потому что меч мой — верный и удачливый в поединках с неприятелем, потому что в сражениях яростных не прятался я за спины других воинов, потому что не бросал я на поле битвы товарищей израненных, потому что ухитрялся брать я множество пленников живыми и здоровыми.
В перерывах между походами возвращался я во дворец халифа Хишама Второго, прозябавшего в своих разлечениях, от всего мира сокрытого, от самого себя охраняемого. Там я снова становился "ученою собачкой хозяина", ублажал его музицированием и декламацией, восхищал его речью многоязычною, читал ему труды великих авторов или истины, в Коране заключенные. Там продолжал я свое образование. Увлекался я медициною, полагая полезность ее на поле ратном.
Так текли годы службы моей при дворе халифа кордовского, то в райских садах дворца, то в кампаниях воинских, походах дальних и утомительных. Ранен я бывал, но раной не опасною, сам умел себя я вылечивать с помощью верного оруженосца моего. В остальном Бог оберегал меня и не обходил своею милостью. Думаю, ведомы ему мои страдания душевные и поиски духовные.
Я порой невыносимо тосковал и по матушке и батюшке, по добрым сестрам своим старшим. Тосковал я по жизни, которую понимал, где легко отличал я добро от зла, друга от ворога, ласку от грубости, искренность от лицемерия. Здесь же все иначе виделось. Войны мы вели неправедные. Неприятель наш истинным был земли этой хозяином. За вниманием министра-диктатора крылось коварство и вседозволенность, а за ласкою — стремление подчинить души людей, судьбы их сломать, как поступил он уже с халифом законным, потомком рода Омейядов, внуком Абд-Аль-Рахмана Третьего.
И вот наступил тот год, памятный для всей Аль-Андалус. Прожил я уже в Кордове лет около пятнадцати и был уже мужем зрелым и воином многоопытным. Отправилось воинство арабское в поход дальний и многотрудный против королевств и графств христианских. Множество селений поверженных оставили мы позади. Шли мы легко, каждая победа азарт рождала воинский. Добрались мы до края горного. Там раскинулось владение графа кастильского, давно уже арабами завоеванное, но вновь христианами заселенное в отсутствии контроля и угнетения со стороны завоевателей. Местечко для ратного столкновения избранное именовалось Коршуньей горой, иначе — Калатаньязор /*Традиционно, принято считать, что эта битва при Калатаньязоре (в провинции Сориа) произошла в 1002 г. и нанесла сокрушительное поражение по армии Аль-Мансура, а сам он был ранен и вскоре скончался в замке Мединасели. Однако, некоторые историки утверждают, что битва состоялась летом 1000 г., в ней против армии Аль-Мансура выступали объединенные силы королевства Леон, Наварры и тогда еще независимого от Леона графства Кастилия. Исход ее неизвестен, и она не имеет никакого отношения к смерти Аль-Мансура, действительно умершего в 1002 г. Автор позволил себе воспользоваться традиционной версией/.
И столкнулись в сражении честном две армии, не уступавшие друг другу храбростью. Много христиан полегло под нашим натиском, но и мы потери понесли огромные. И казалось, Бог на нашей стороне, но внезапно пересмотрел Всевышний взгляд свой на сражавшихся да и занял сторону неприятеля. Ранен был наш вождь, сам тиран Аль-Мансур. Я уж вместе с ним бой покинул жаркий, ибо врачевать его мне было велено, коль сгинул врачеватель наш в том походе изнуряющем. Поражение терпели мы, и было ясно это всем сражавшимся. Нас теснили упорно христиане измученные, свою землю упорно защищавшие и в том силы свои черпавшие. Я возился с ранами великого диктатора, поражался его терпению и мужеству.
Вдруг заметил я юношу-христианина. От своих он отбился воинов и с бербером кровожадным отчаянно дрался в поединке честном. Не хотел я в состязание их вмешиваться и продолжил было целительство. Но увидел я, как нацелил топор еще один бербер, стремясь помешать бою честному. Стало так мне жаль того юношу, совсем мальчика, и я бросил свое врачевание и к воину, что топор держал, кинулся, рискуя сам под лезвие его угодить невзначай, и крикнул я ему, что Аль-Мансур срочно просит его. Юноша тем временем поверг соперника, но на землю пал, раненый своим противником. К юноше я кинулся, сам не понимая, что делаю. Подхватил я его на руки, с поля боя понес в сторону христиан, положил осторожно на траву и начал раны его перевязывать. Обработав его раны неопасные, бережно устроил я его, за огромным валуном от глаз противника сокрыв. И поворотил к пациенту своему великому.
Но заметил я, как начали арабы медленно отступать, осторожно перемещая повелителя на носилках, из прутьев наспех сделанных. Окружили их вдруг христиане-воины и был взят в полон Аль-Мансур.
Вышел из засады я к предводителю их рыжебородому, зычным басом говорившему, и обратился с речью достойною. Я поведал ему, что повержен арабским воином юноша в бою, и что я, знакомый с тайнами врачевания, помощь оказал ему необходимую, но теперь считаю его пленником. Предложил я сдаться добровольно в плен, слово дал я, клятвой во имя Аллаха скрепленное, что верну тогда их раненного, коль отпустят они на волю вольную старика больного и немощного, на носилках лежавшего. Не раскрыл я им, что старец тот и был сам Аль-Мансур, а назвал его своим дядюшкой. Пошептались воины христианские, посудили-порядили да и дали свое согласие, прежде пожелав на юношу взглянуть. Отказался я выдать им его местонахождение, раньше чем уверую, что старик мой вне опасности. Снова совещались воины да и взяли под стражу меня и еще двух арабов-пленников, отпустив притом диктатора с двумя сопровождающими.
Я простился с ним. Был он очень плох, но нашел в себе силы поблагодарить меня за службу верную. Правда, высмеял он поступок мой, добровольное мое пленение, и шепнул мне так: "Жизнь моя уже не стоит ни гроша, ни за что загубил ты молодость и отвагу свою. Но привык я под себя людей подминать всю жизнь, потому приму твою жертву с благодарностью".
Так я пленником сделался рыжебородого дона Ордоньо. Юноша же тот сыном был его доном Альфонсо, двадцати лет от роду. Потерпели арабы поражение сокрушительное. И вернулся домой мой новый господин, да и заточил меня в подземелье замка своего. Однако, благодарность свою за спасение юноши дон Ордоньо мне всегда выказывал, обращался со мной неплохо он, не пытал, не истязал, а потом решил, что на свободе я буду ему полезнее. И тогда заключили мы договор о сотрудничестве. Итак, я поселился в доме господина Ордоньо — в его замке Аструм Санктум.
Много позже до меня докатилась весть о смерти Аль-Мансура в замке Мединасели. Он ушел из жизни шестидесяти двух лет, но он здоровьем отличался и мужеством, и если б не рана его смертельная, еще мог прожить бы немало лет".
Глава двадцать восьмая ЗАГАДКИ СВЯТОГО СТАРЦА
О путник, обернись, взгляни назад
— И ты увидишь путь, тебе сужденный.
Он вдаль пролег, восходом освещенный,
Но в дали той уже горит закат.
Минувшее с грядущим стало в ряд;
Приход, уход — одни у них законы;
Так поверни же руль судьбы бессонной,
Как стрелку, что обходит циферблат.
Мигель де Унамуно(1846–1936) /испанский поэт и философ/
— Cначала ты спас старшего брата, а теперь выхаживаешь младшего, — мечтательно промолвил падре Ансельмо, когда Святогор завершил свой рассказ.
— Да-а, это именно ты, мой мальчик! — снова загадочно произнес старик.
Мы все в изумлении посмотрели на больного. Священник блаженно улыбался, зачарованно покачивая головой, так что белые волосы его под тонзурой терлись об изголовье.
— А зовут тебя Абдеррахманом? — спросил он.
— Так называли меня арабы, — кивнул Святогор.
— А здесь тебя называют Сакромонт. Почему? — поинтересовался старец.
— Это мое имя в переводе на ваш язык.
— Откуда же ты родом?
Святогор уклонился от прямого ответа:
— Я уже и не помню откуда. В плену у арабов я с раннего детства.
Падре Ансельмо медленно и трудно повернул голову и окинул внимательным взором своего лекаря.
— Нет, мой мальчик, от меня ты не скроешь правды, — проговорил он лаского. — Я-то знаю, откуда ты. Ты из очень далекой и очень загадочной страны, за многими морями и землями. Да-да, ты из той же земли, что и …
Он неожиданно умолк, вздохнул и обратился ко всем:
— Попросите сюда владельца замка и всю его семью, а также достопочтенного падре Эстебана. Прошу тебя, Сакромонт, исполни мою просьбу немедленно!
Сулеймана послали за семейством. Стало тревожно. Ситуация напоминала выражение предсмертной воли больного. Я бросила вопросительный взгляд на Святогора — тот лишь растерянно пожал плечами. Он внимательно осмотрел старика, дал ему выпить укрепляющий настой и посоветовал подремать, пока собираются члены семьи сеньора.
Через минут двадцать все вместе вошли в "лазарет". Сулейман застал всех уже в часовне в ожидании богослужения, о котором я совершенно забыла, потрясенная всем, что произошло за день.
— Ваша милость, — обратился Святогор к дону Ордоньо, — прошу извинить меня, что я прервал вашу службу. Падре Ансельмо настаивал на вашем приходе. Вероятно, он имеет что-то очень важное сообщить всем вам.
Дон Ордоньо кивнул и сказал больному, что все в сборе и готовы со вниманием выслушать его. Падре Ансельмо, очевидно, все же утомился. Он какое-то время молчал, собираясь с силами, но что-то настолько не давало ему покоя, что это мешало отложить разговор на следующий день. Он слабо улыбнулся и заговорил:
— Я рад, что вы почтили меня, недостойного, своим вниманием и нашли время оторваться от дел. Мне жаль, что здесь вам всем, даже негде устроиться. Но я не отвлеку вас надолго.
Все действительно стояли, лежали только сам старец да Коля, тяжесть состояния которого "доктор" преувеличивал в интересах дела. Я оставалась возле постели больного рядом со Святогором. Остальные нестройной кучкой сгрудились в центре комнаты. После слов старика дон Ордоньо жестом пригласил всех приблизиться к больному и кучка приняла форму полукруга. Беренгария, метнув на меня недобрый взгляд, очутилась рядом со Святогором, по другую его руку.
— Дорогие мои, — слабым, но внятным голосом начал старец, — я должен поведать вам нечто очень значительное. Мне известно, что замок Аструм Санктум и его владельцы облечены исключительно важной миссией. Собственно, сообщить вам об этом я и направлялся, когда попал в переделку. Но тогда мне еще неведомо было, кто из вас способен осуществить эту миссию. Теперь мне это открылось.
Он перевел дух и продолжал:
— Замок этот недаром называется Святая Звезда. Эта "звезда" имеет отношение к древней утраченной культуре, в верованиях которой преобладала восьмиконечная звезда как символ солнца. Тайна этой культуры сокрыта от людей уже множество веков. На многие столетия люди забыли о местонахождении самого древнего города на нашей земле, ныне оккупированной арабами. Но существует святыня, вывезенная арабами из Северной Африки и доставшаяся им по наследству от карфагенской культуры, погубившей, согласно преданию, культуру наших далеких предков. Святыня эта хранит тайну того, самого древнего, города. Святыня эта спрятана во дворце халифа.
Старик замолчал. Никто не шелохнулся и не проронил ни слова. Падре Ансельмо собрался с мыслями и силами, окинул проницательным ясным взглядом окружающих, причем глаза его, усталые и болезненно воспаленные, излучали такую магнетическую твердость и убежденность, что не оставалось никаких сомнений в значимости того, что он пытался до нас донести. Он продолжил:
— Отправляясь в ваши владения, я еще не ведал, укажет ли судьба, как вам исполнить возложенную на вас миссию. Теперь же меня просветили, что Всевышний послал вам человека, способного справиться с задачей и доставить святыню под сень этих стен, где, согласно предсказанному, она и найдет свой приют, пока не настанет час ее прочтения и осознания. А час этот настанет.
Тишина сменилась странным шуршанием и тихим шарканьем. Все от напряжения и внимания нервно переминались с ноги на ногу. Старец опять перевел дух. Падре Эстебан шагнул к больному и осторожно рискнул спросить:
— Ваше преподобие, кого же вы видите в роли исполнителя воли Всевышнего?
Раненый слегка дернул головой, как бы призывая не торопить его, и, прикрыв глаза, промолвил:
— Эти полномочия под силу только одному человеку среди вас… Мусульманину…Сакромонту…
Раздался нестройный приглушенный вздох, не то облегчения, не то удивления.






