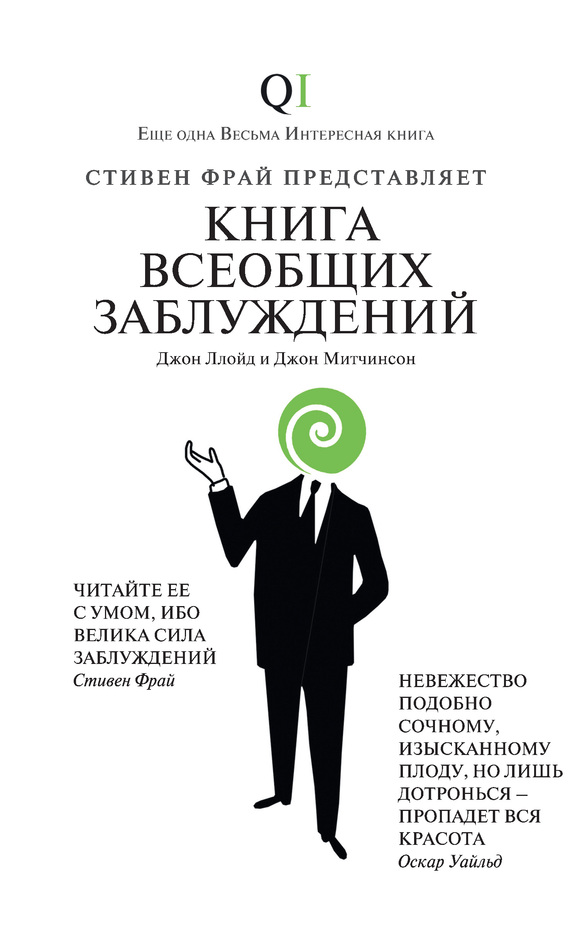Гений Келлерман Джесси

— Могла, — успокаивающе ответил Андрейд.
— Она могла нанять кого-нибудь.
— Могла.
— Не знаю, что и думать, — сказал я.
— Пока нам предъявить ей нечего. Мы ничего не докажем. Разве только незаконное преследование — по тем двум письмам. Только скажу вам честно, никто с такой ерундой возиться не станет. Она твердит, что просто пошутила.
— И как, вам смешно? — Я помахал перед носом у Трега письмом.
Андрейд и Трег снова переглянулись.
— Ну, если честно, не очень, — ответил Андрейд.
— Чуть-чуть, — добавил Трег.
Я изумленно уставился на них. Почему это мои неприятности всех так забавляют?
— Но только самую капельку, — поправился Трег.
— Короче, мы вернулись к тому, с чего начали, — объявил Андрейд. — Будем искать вашу коробку. А вы пока расслабьтесь и не переживайте больше из-за писем. Думаю, новых не будет.
Я тупо кивнул.
— Ничего, потихоньку-полегоньку, и докатимся, — добавил Трег.
Я вышел на улицу, как в тумане. И в голове у меня не прояснилось, пока я не поговорил с Самантой. Едва меня увидев, она сразу же спросила, не заболел ли я. Пришлось пересказать ей содержание моей беседы с полицейскими.
— А, — ответила она. — Ну и дела!
— Вот-вот.
— Ни фига не понять.
— Вот-вот.
Она ухмыльнулась:
— Ладно, так и быть, внесу немного ясности.
И она рассказала мне, что нашла Джеймса Джарвиса, человека, на которого тридцать лет назад напал наш маньяк. Джарвис выжил. Он переехал в Бостон, где преподавал маркетинг в заштатном университете. Саманта с ним поговорила. Джарвис утверждал, что ничего уже не помнит, но она ему не поверила. Ей часто приходилось допрашивать жертв, переживших сексуальное насилие, и она считала, что, встретившись с ним, мы добьемся большего. По телефону гораздо легче соврать, подавить страшные воспоминания. На следующий день позвонил заместитель директора «Зеленых садов» и сказал, что копии фотографий выслать не сможет, но может пустить нас на них взглянуть. И мы с Самантой решили отправиться в большое путешествие.
Через две недели мы погрузились на летучую калошу, следующую из аэропорта Ла-Гуардиа в Олбани. Накануне вечером по телевизору обещали порывистый северо-восточный ветер, и я решил, что наш рейс сильно задержат, если вообще не отменят. Но с утра светило яркое солнце, на полу аэровокзала лежали прямоугольные солнечные пятна, и Саманта шла ко мне навстречу, окутанная золотым сиянием. На ней были лиловые вельветовые штаны и черный свитер. Никакой косметики. За плечами — основательно потрепанный рюкзачок. Саманта встала в очередь на регистрацию, засунув большие пальцы в карманы брюк. Я стоял в сторонке и не шевелился, боялся, что волшебный свет, исходящий от нее, пропадет. В конце концов я решился, подошел и просто не смог удержаться от комплимента.
Мы получили посадочные талоны, влезли в автобус, проехали немного по летному полю и выгрузились перед весьма хлипким на вид самолетиком. Самолетик поблескивал на солнце крыльями, залитыми противообледенительной жидкостью. В салоне было всего тридцать посадочных мест, мы сели по разные стороны от прохода, и Саманта сразу же отвернулась к окну. За окном техник поливал из шланга лопасти винта.
— Ненавижу летать, — сказала она.
Я не придал значения ее словам. А кто любит? Особенно по нынешним временам. И зря не придал. Надо было слушать внимательнее. На каждом «ухабе», а в таком самолетике их чувствуешь все, Саманта вцеплялась в ручки кресла. Лоб у нее покрылся испариной.
— Эй, ты как там?
Саманта сильно побледнела.
— Ничего. Ненавижу летать!
— Хочешь водички?
— Не надо, спасибо.
Самолет провалился в яму, и Саманта опять напряглась.
— Вообще-то я не такая трусиха, — сказала она. — Это я после смерти Йена начала бояться.
Я быстро просчитал возможные риски и взял ее за руку, надеясь, что не совершаю роковой ошибки. Она вцепилась в меня и не отпускала весь полет. Нет, один раз отпустила — мимо нас ехала тележка с напитками.
Про Олбани[41] я почти ничего не знал, помнил только, что, по словам Эда Коча,[42] в городе не было ни одного приличного китайского ресторана. Как только мы выехали из аэропорта, я сразу осознал его правоту. Чувство ложной интеллигентности заставило нас сделать круг почета вокруг местного капитолия, и выяснилось, что это аляповатое красно-белое страшилище, тщетная попытка возвести во всеми забытом городе архитектурный шедевр. Вообще, первые ньюйоркцы могли бы и подумать немножко, прежде чем выбирать этот городишко столицей своего штата. То, что триста лет назад казалось очевидным преимуществом, — бобры тут водились в изобилии, и их шкурки было легко добыть — утратило в наши дни свою значимость. А вот международным культурным и финансовым центром город так и не стал.
«Зеленые сады» располагались на другом берегу Гудзона, недалеко от шоссе 151. Мы проехали через унылые пригородные районы. На окнах домов все еще красовались рождественские гирлянды. Возле очередной развилки двое взрослых мужчин наблюдали за третьим, который, быстро переступая ногами по шине от грузовика, катил ее по автостоянке задом наперед на манер циркачей. Я пустил Саманту за руль, только убедившись, что она уже достаточно успокоилась после полета и снова стала вредной и занудной. Полдороги она развлекала меня рассказами про кошмарные выходные.
— Мама по ошибке назвала Джерри отцовым именем.
— Да ладно! Врешь!
— Если бы!
— Напилась, что ли?
— Она нет, а вот он — да. Наверное, поэтому и назвала. Небось вспомнила, как на отца орала. Джерри сказал что-то про ее стряпню, урод, а она вдруг: «Да пошел ты, Ли!» И сразу рот рукой прикрыла. Прямо кино.
— А он-то заметил?
— Еще как.
— Мама дорогая!
— Ага.
— Жуть!
— Да ладно, проехали. — Она посмотрела на меня: — А ты отцу позвонил?
Я помолчал, не зная, что ответить.
— Нет.
Саманта молча кивнула.
— Я собирался, правда! Даже трубку снял! — Мне хотелось как-то оправдаться.
— И?
— Я не знал, что сказать.
— Спросил бы, зачем он хотел купить твои рисунки.
— Как-то не сообразил.
— Дело твое. — Она включила левый поворотник. — Приехали.
Каменные колонны, расположенные по сторонам от подъездной дорожки в «Зеленые сады», когда-то составляли единое целое с аркой монументальных ворот. Точно такие же, только украшенные ржавыми потеками, колонны располагались по всему фронтону здания. На них зияли дырки от креплений давно утерянных водостоков. Вдоль дороги, заслоняя обзор, тянулись сосны и заросли ольхи. Наконец показался старый высокий дом с белеными стенами, треугольной крышей и верандой. Я совсем разволновался. Мы поднялись по ступеням, в дверях нас встретил человек с рыжей козлиной бородкой.
— Дэннис Дрисколл, — представился он.
— Итан Мюллер. А это Саманта Макгрет, окружной прокурор.
— Очень приятно. — Улыбка у него вышла кривоватая. — У нас тут гости редко бывают.
Внутри все скрипело и разваливалось. Темный коридор был заставлен так, что по нему можно было только протиснуться. С викторианских времен тут никто ничего не ремонтировал. На стенах по-прежнему жуткие обои с золотыми полосами, свет включается кнопками, правда, огромная люстра так и не зажглась. Паровые трубы шипели, как гремучие змеи. В холле на стене висел портрет седовласого толстяка с двумя подбородками и в напудренном парике. Табличка под портретом поясняла, что это Джон Вестфилд Уорт.
— Он тут всем заправлял до середины шестидесятых, — сказал Дрисколл. — Заведение считалось очень прогрессивным для своего времени.
Он повел нас вверх по лестнице, остановился на площадке и показал на окно. За окном был заснеженный луг и еще одно здание, несколько более современное.
— Там раньше были комнаты пациентов. В семидесятых все внутри сломали и устроили реабилитационный центр. А сам дом построили в 1897 году. — Он повел нас на третий этаж. — Надо же, как вы быстро откликнулись! Если честно, я думаю, доктор Ульрих не ожидала, что вы сами приедете, потому-то она и согласилась вас принять.
— А мы вот они.
— Да уж, да уж.
Мы прошли по заставленному темному коридору и поднялись еще по одной лестнице.
— Тут редко кто бывает. Отопление в этой части дома барахлит. А летом здесь настоящее пекло. Мы эти помещения в основном как склады используем. Наши пациенты, те, что живут у нас подолгу, оставляют тут чемоданы. Очень много народу из других штатов приезжает. А канадцы, бедняги, уже совсем истомились ждать, пока до них очередь дойдет. Теоретически, мы могли бы селить в этих комнатах сопровождающих родственников, но я им всегда советую остановиться в гостинице. Вуаля!
Мы повернули за угол.
— Теперь понимаете, почему я сам не хотел с ними возиться? — спросил Дрисколл.
Вдоль длинного коридора от пола до потолка висели сотни фотографий, деревянные рамки основательно растрескались из-за сезонных колебаний влажности. Стен совсем не было видно, словно мы очутились в галерее фламандского эрцгерцога. У меня аж клаустрофобия разыгралась. Были там и портреты, но большинство, как и обещал нам Дрисколл, — групповые снимки, раньше очень любили так фотографировать: люди стоят рядами, самые высокие сзади, самые маленькие сидят на полу впереди, скрестив ноги. Застывшие, напряженные взгляды, тщательно приглаженные волосы, рубашки, застегнутые на все пуговицы. Но было в этих лицах и нечто необычное, неподобающее случаю. Кое-кто ухмылялся или смешно выпячивал челюсть. А может, это мне только показалось. Я же знал, что всех их заперли здесь за плохое поведение. Мне было очень жаль этих отверженных. Родись я в эпоху, чуть менее снисходительную к пороку (или в чуть менее терпимой семье), — вполне мог оказаться на их месте.
Там, среди них, мог быть и Виктор Крейк. Мне не терпелось поскорее отыскать его. Мы переворачивали снимки один за другим и читали подписи, там, где они были. На одной фотографии осталась только дата: второе июня 1954 года. Сколько лиц и имен, сколько человеческих душ, и все забыты. Где теперь их семьи? Как эти бедняги жили, пока не попали сюда? Разрешалось ли им покидать больницу? Привидения тянули меня за рукав, им хотелось захватить живое тело и вырваться наконец отсюда.
Мы нашли его. Саманта тихонько сказала: «Итан» — и все. А я-то думал, небеса разверзнутся и грянет гром.
Семь человек выстроились в ряд. Саманта вела пальцем по надписи под рамкой.
СТЭНЛИ ЯНГ ФРЕДЕРИК ГУДРЕЙС ВИКТОР КРЕЙК МЕЛВИН ЛЭТЕМ
Маленький, сантиметров на десять ниже стоящих рядом, с криво подстриженными усиками. Глаза испуганно раскрыты. Ждет фотовспышки. Высокий лоб, мягкий круглый подбородок — лицо, похожее на перевернутую могильную плиту. Слишком большая голова на тщедушном тельце. Так мог бы выглядеть горбун. Судя по тому, сколько лет всем остальным, Виктору здесь, скорее всего, лет двадцать пять, хотя на вид — гораздо больше.
— Ну ты подумай! — сказал Дрисколл.
Я взял фотографию. Руки у меня тряслись от волнения. Мне было и грустно и радостно оттого, что мы наконец его нашли. А еще обидно. Когда-то этого человека не было. Я создал его. Я чувствовал себя творцом. Потом мы начали его искать, и постепенно, с большим трудом, я признал существование Крейка. Я говорил с людьми, которые его знали. Ел яблоки, которые он покупал. Шел по его следу. Виктор становился все реальнее, и я ухватился за созданный мной образ, я возвеличил его, вместо того чтобы свергнуть с пьедестала. И я ждал, что увижу кого-то куда более значительного, нечто большее, чем просто имя под черно-белыми пятнами, большее, чем заурядный таинственный незнакомец. Мне нужен был памятник, супермен, Избранный, мне нужен был нимб над головой или, на крайний случай, рога. Что-нибудь, ну хоть что-нибудь, лишь бы оправдать такую чудовищную перемену в моей жизни. А передо мной стоял похожий на голема печальный человечек. Он был моим богом, и я стыдился его заурядности.
Интерлюдия: 1944
Маленький домик, и в домике есть все, что нужно. Миссис Грин готовит и стирает. Учит его читать и считать. Учит, как называются птицы и звери, дает большую книжку, сажает к себе на колени, читает вслух Библию. Он любит слушать про то, как нашли в тростнике Моисея. Он представляет себе плетеную корзинку на берегу Нила, крокодилов и аистов вокруг нее. Миссис Грин руками показывает щелкающие челюсти, громко хлопает, и он пугается. Хлоп! Но он ведь знает, что все кончится хорошо. Моисея ждет его сестра. Она позаботится о малыше.
Больше всего на свете Виктору нравится рисовать. Миссис Грин привозит ему из города коробку цветных карандашей и бумагу, очень тонкую, и он старается ее не порвать. Только в город миссис Грин ездит не часто, бумаги не хватает, и он рисует на стенах. Миссис Грин сердится. Так нельзя делать, Виктор. Но рисовать-то негде, и он учится использовать любой клочок. Выуживает из мусорного ведра конверты, разрисовывает обложки книжек, которые миссис Грин читает, а потом ставит на полку. Один раз она открывает книжку, видит, что он натворил, и снова сердится. Он не понимает почему. Ведь она эту книжку уже прочитала! Так какая разница? Но миссис Грин требует «никогда не сметь» и шлепает его.
Вообще-то, она редко его бьет. Обычно миссис Грин нежна с ним, и он любит ее, как мать. Хотя матери у него нет. А миссис Грин не разрешает ему называть ее мамой. Он не понимает, откуда же он тогда взялся. Но это неважно. У него есть все, что нужно: еда, миссис Грин и бумага. Они гуляют по всему поместью. Миссис Грин рассказывает, как называются цветы, и Виктор внимательно разглядывает лепестки. Вокруг вьются пчелы, но его они никогда не жалят. Он смотрит на цветок, пока не запомнит его хорошенько, а потом возвращается домой и рисует. Миссис Грин называет его чудиком и улыбается. «Чудик ты у меня, Виктор. Смотри, какой колокольчик. Смотри, какой одуванчик». Наперстянка, цикорий, клевер. У каждого своя форма. «Чудик ты мой, чудик, но рисуешь ты здорово».
Ему шесть лет. По улице едут ребята на странных штуках. Это велосипеды, объясняет миссис Грин. Они так быстро двигаются! Он тоже такой хочет. Миссис Грин говорит — нельзя, он не может выходить за забор. Он обещает, что не выйдет, только пожалуйста, ну пожалуйста, мне так хочется велосипед.
Виктор ее ненавидит. Чтобы отомстить, он дожидается, пока миссис Грин заснет после обеда, — она часто ложится подремать, — подтаскивает к стене стул и снимает с крючка ключи на ленточке. Отпирает входную дверь и ворота и пешком идет в город. Виктор и раньше тут бывал, но тогда он крепко держался за руку миссис Грин. Раньше ему все в городе казалось интересным, а теперь тут слишком громко. На него рявкает автомобиль. Его облаивает собака. Ему нехорошо, и, чтобы спрятаться, он заходит в магазин. Хозяин смотрит на него, точно он просто большой жук. Начинается дождь, и Виктору приходится сидеть в магазине долго-долго, много часов. Хочется есть. Денег нет, и он просто берет первое, что попадается на глаза, — кусок рафинада. Кладет в кармашек и выбегает на улицу. Хозяин бежит за ним. Виктор мчится прочь, хозяин магазина поскальзывается и падает в лужу. Виктор оглядывается и видит, что этот человек весь перемазался грязью и стал похож на пятнистую корову. Зато теперь он уже не гонится за Виктором. Только кричит, и все равно приходится убегать. Виктор добегает до самых ворот, ноги болят, и ужасно жжет в груди.
Миссис Грин нет в ее комнате. Виктор залезает на стул, вешает ключ на место и идет к себе. Он ложится на кровать, старается отдышаться и вынимает из кармана кусочек сахара. Но есть не хочется. Он не любит сладкого. Надо было взять что-нибудь вкусное. Хотя Виктор вообще не очень любит есть, поэтому он такой худой и маленький. Это ему сказал дядя с зеркальцем и палочкой, которую суют в рот. Он сказал миссис Грин, что мальчику надо больше кушать, что он и так отстает в росте. А миссис Грин в ответ: «Неужели вы думаете, я не старалась его накормить?» Дядя называется доктор. Он ушел, но миссис Грин сказала, что он еще вернется.
Виктор снова достает сахар. Ему нравятся острые неровные края. Он играет, пока сахар не начинает таять в руках. Виктор кладет кусок рафинада на стол и любуется тем, как искрится нежный белый бочок. Берет бумагу и обводит кусочек по краям. Потом дорисовывает рожицы. И тут вбегает красная, как индюк, миссис Грин. Говорит, что знает, как он себя вел, что она чуть с ума не сошла, разыскивая его. Как он мог? Как он мог? Никогда, слышишь, мерзкий мальчишка, никогда! Ты должен понять! Какой же ты глупый! Она топчет кусок рафинада. Потом кладет Виктора себе на колени и шлепает его, пока он не начинает выть. Мерзкий мальчишка. Она рвет его неоконченный рисунок.
Нет, обычно она добрая. Водит его в церковь. Виктору нравятся окна. На них нарисовано, как ангел приносит благую весть, и как Христос произносит проповедь, и воскрешение Господне. Стекла пылают синим и сиреневым огнем. Виктору нравится представлять себе эти окна по ночам, лежа в кроватке. Ему нравится их цвет, но больше всего нравится форма. Миссис Грин учит его, как молиться, и Виктор часто лежит в темноте и шепчет молитвы.
К ним в гости приходит еще один дядя. Он приезжает на длинной черной машине. У него огромная фетровая шляпа, Виктор никогда таких не видел. «Здравствуй, Виктор!» Надо же, дядя даже знает, как Виктора зовут. У дяди большие усы. Виктор тоже хочет такие усы. Здорово было бы, если бы над губой всегда жил добрый зверек. Тогда Виктор был бы не один. Он часто остается один, но ему не всегда одиноко. Только иногда. Интересно, почему?
Усатый дядя приезжает часто. Иногда Виктор возвращается с прогулки, а дядя уже его ждет. А пока ждет, читает газету. Если повезет, он эту газету забывает на столе, когда уезжает. Виктор рвет ее на полоски и прячет, чтобы потом на ней порисовать.
Дядя приезжает в гости правильно. Уезжает быстро и всегда привозит подарки. Кораблик, волчок, большую перчатку и мячик. Виктор надевает перчатку. Кажется, будто у него рука раздулась. Что с ней делать, с этой перчаткой, непонятно. Миссис Грин объясняет: ею ловят мячик. Кто же будет кидать ему мячик? Миссис Грин сначала обещает покидать, но потом забывает и не играет с Виктором. Так что перчатка валяется в углу позабытая. Зато Виктору нравится рисовать корабль. А волчок можно раскрутить так, чтобы он вертелся долго-долго.
Усатый дядя, когда приезжает, очень долго осматривает дом и заглядывает во все комнаты. Открывает и закрывает двери. Если петли скрипят, он морщится. Проводит пальцем по столешницам. Задает Виктору вопросы. Сколько будет три умножить на пять? Напиши, пожалуйста, свое имя. Если у Виктора все получается правильно, дядя дает ему десять центов. Если неправильно или Виктор не знает ответа, дядя хмурится, и зверек у него над верхней губой брезгливо топорщится. Виктор старается отвечать всегда правильно, но со временем вопросы становятся все сложнее. И он начинает бояться приездов усатого дяди. Ему стыдно. Виктору исполняется семь лет, и дядя говорит: «Надо начинать его учить».
Через несколько дней после этого приезжает другой дядя. Мистер Торнтон, учитель. Он привозит с собой целую кипу книг и, к изумлению и восторгу Виктора, забывает их потом забрать. В жизни Виктор не видел столько бумаги сразу! Ночью он бросается к этим книжкам, разрисовывает страницы рожицами, звездочками, выводит на полях линии и буквы. На следующее утро возвращается учитель, и выясняется, что Виктор не только не выполнил задания, но еще и испортил три новеньких учебника. Учитель бьет Виктора, миссис Грин никогда так сильно его не шлепала. Виктор плачет, но миссис Грин ушла в город за покупками. Учитель порет Виктора так сильно, что на попе проступает кровь.
Учиться не так уж плохо. Виктор узнает, как взвешивать предметы на весах, как разглядывать растения в микроскоп. Их лепестки кажутся прекрасными снежинками, если посмотреть на них вооруженным глазом. Только это не сами лепестки, а «клетки». Виктор очень надеется, что учитель забудет и микроскоп тоже, но, к сожалению, этого не случается. Мистер Торнтон укладывает его в кожаный чехол и увозит. Тогда Виктор рисует клетки по памяти. Учителю он свои художества показывать не решается, потому что мистеру Торнтону это увлечение, как он сказал, никогда не нравилось.
Как-то раз, когда миссис Грин отправляется в город, учитель велит Виктору встать и снять брюки. Виктор кричит, потому что не хочет, чтобы его снова выпороли. Он ведь ничего не сделал! Он кричит, а учитель хватает его за плечи, прижимает ладонь ко рту так сильно, что невозможно дышать. Виктор пытается укусить его за руку, но учитель сильно бьет его по попе. Расстегивает пуговицы и ремень и стаскивает брюки Виктора. Виктор готовится к порке, но учитель просто гладит его попу, а потом трогает между ног. Потом мистер Торнтон велит ему одеваться. Они возвращаются к уроку грамматики. И такое иногда повторяется.
Когда в следующий раз уже доктор просит Виктора снять брюки, Виктор громко кричит, кусает доктора за локоть и убегает. Он носится кругами по комнате, пока миссис Грин не удается поймать его за руки. Доктор хватается за ноги, и вместе они привязывают Виктора к стулу огородным шлангом.
— Да что с тобой такое?
— Не знаю.
— Господи боже, вы только поглядите на него!
Доктор светит фонариком Виктору в глаза.
— И часто с ним такое?
— Нет.
— Хм. Хм. — Фонарик выключается. — Очень странно.
Они уходят в соседнюю комнату. Виктор все равно слышит каждое слово.
— У него бывают истерики?
— Нет.
— Что-нибудь еще странное заметили?
— Он сам с собой разговаривает. Придумывает себе друзей и с ними разговаривает.
— Все дети так делают.
— В его возрасте? Он больше с ними разговаривает, чем со мной. С ним что-то не так.
— Ничего удивительного.
— Он же не такой, как его мать.
— Нет. Но слабоумие может выражаться очень по-разному.
— Держать его здесь взаперти противоестественно.
— Это не нам решать.
— Так дальше не может продолжаться! Сколько он еще будет тут жить?
— Не знаю.
— Я не собираюсь провести тут остаток своих дней.
Виктор чешет запястья о шланг.
— Милосердие, — говорит миссис Грин. — Милосердие.
— Я поговорю с мистером Мюллером.
— Да, пожалуйста.
— Скажу ему, нужно что-то решать.
— Куда он подевался? От него несколько месяцев ни слуху ни духу.
— Он за границей. В Лондоне. Они там строят порт.
— Боже правый! И что, кроме нас с вами никому до него нет дела?
— В данный момент — никому.
— Как же так?
— Вот так.
— Господи помилуй!
— Миссис Грин!
— Господи!
— Но я-то здесь, с вами.
Виктору удается ослабить узел на шланге. Руки уже свободны. Потом ноги. Виктор на цыпочках подходит к двери и видит, как близко стоят доктор и миссис Грин. Доктор засунул руки ей под блузку. Миссис Грин отстраняется, и они вместе уходят в другую комнату. Уходят надолго. Вернувшись, миссис Грин совсем не удивляется, что Виктор сидит за столом и рисует. Она наливает ему какао и целует в макушку. От нее пахнет водой и шампунем.
Вскоре после этого Виктор впервые видит ее тело. Он нагибается и заглядывает в замочную скважину, когда она моется. Из-за пара, конечно, много не разглядишь, но когда миссис Грин вылезает из ванны, становятся видны большие белые груди. Виктор издает какой-то звук, миссис Грин слышит его и накидывает на себя полотенце. Потом открывает дверь. Виктор уже мчится прочь. «Мерзкий мальчишка!» Он бежит в свою комнату и прячется под кровать. Она входит, на ней платье, надетое наизнанку. С волос капает вода, они рассыпаются, пока она вытаскивает Виктора из-под кровати. Он цепляется за пол, но миссис Грин сильнее. «Мерзкий мальчишка! Мерзкий мальчишка!» Но не бьет. Сажает его на край кровати и громко отчитывает. «Хорошие мальчики так себя не ведут. Никогда! Ты должен быть хорошим мальчиком и не должен быть плохим».
Он хочет быть хорошим.
Проходит время. Усатый дядя снова приезжает. Вид у него грустный.
— Это просто невыносимо, сэр, — говорит миссис Грин.
Дядя быстро ходит по комнате и теребит мочки ушей.
— Я понимаю.
Виктор потрясен. У него тоже есть привычка дергать себя за уши. Миссис Грин не нравится, когда он так делает. Она шлепает его по рукам и требует, чтобы он перестал вести себя как чудик. А этот высокий, взрослый, почти волшебный дядя в огромной шляпе точно так же, как Виктор, дергает себя за уши. Виктора прямо распирает от гордости.
— Ему нужно учиться в школе, сэр.
— Я это понимаю. Я просил доктора Фетчетта найти для него подходящее заведение. Его ведь в обычную частную школу не пошлешь.
Усатый дядя останавливается и разглядывает рисунок Виктора, тот, что миссис Грин повесила на стену.
— Неплохо.
— Это не я рисовала, сэр.
— То есть… Да что вы?
— Да, сэр.
— Что, все? Боже мой! Ну надо же! Я всегда думал, это ваши.
— Нет, сэр.
— У него талант. Надо купить ему краски.
— Да, сэр.
— Ну что ж, давайте купим.
— Хорошо, сэр.
— Я скоро вернусь. Поговорю с доктором Фетчеттом, и мы что-нибудь придумаем.
— Хорошо, сэр.
— А как продвигаются его занятия?
— Плохо, сэр. Он по-прежнему не хочет делать домашнее задание. Просто рвет тетради.
Усатый дядя вздыхает.
— Будьте с ним построже.
— А то я не стараюсь! Сами-то как думаете?!
— Не забывайтесь!
— Простите, сэр. Я совсем вымоталась.
— Я понимаю. Вот, возьмите.
— Спасибо, сэр!
— И пожалуйста, купите мальчику краски.
— Хорошо, сэр.
— Виктор, веди себя хорошо.
Больше он этого дядю никогда не видел.
Проходит время. Виктору исполняется одиннадцать. Миссис Грин печет именинный пирог, ставит его на стол и плачет. «Не могу! Сил больше нет…»
Виктору очень хочется ей помочь. Он протягивает ей свой кусок пирога.
«Спасибо, золотко. Ты добрый мальчик».
Виктор стоит у окна и смотрит, как серая машина подъезжает к крыльцу. Из нее выскакивает человек в синем пиджаке, открывает заднюю дверцу. Оттуда появляется дама с высокой прической и в коричневой, похожей на гриб, шляпке. Миссис Грин быстро открывает дверь, и женщина проходит мимо нее. Останавливается посреди комнаты и брезгливо оглядывается. Смотрит на Виктора.
— Он плохо вымыт.
— Он играл в саду, мэм.
— Не смейте мне возражать! Он плохо вымыт, и нечего обсуждать. Ну, что скажешь?
Женщина обращается к нему. Виктор молчит.
— Он вообще молчун, мэм.
— Заткнитесь!
Женщина в шляпке ходит по комнате, поднимает и снова бросает на стол тарелки.
— Какой тут свинарник!
— Простите, мэм. Я обычно мою посуду после обеда…
— Мне плевать. Помойте его. Он уезжает.
— Мэм?
— Я не могу винить вас за ошибки моего мужа, но вы должны понимать — его больше нет с нами, и теперь я и только я принимаю решения. Это ясно?
— Да, мэм.
— Тогда отмойте его. На него тошно смотреть.
Миссис Грин купает его. Виктору не хочется принимать ванну, он ведь вчера уже мылся. Он сопротивляется, а миссис Грин его уговаривает: «Ну пожалуйста, Виктор!» Кажется, она сейчас заплачет. Он позволяет ей раздеть себя и усадить в ванну.
Женщина в шляпке говорит:
— Машина приедет через час.
— Куда вы посылаете его, мэм?
— Это не ваше дело.
— Мэм, не сочтите за дерзость… Простите, мэм…
— Вы можете оставаться здесь сколько пожелаете.
— Я не хочу оставаться здесь, мэм.
— И неудивительно. Мой муж повел себя как осел. Вам самой-то не кажется его затея идиотской?
— Не знаю, мэм.
— Разумеется, знаете. У вас ведь наверняка есть свое мнение.
— Нет, мэм.
— Вы прекрасно вышколены. Сколько он вам платил?
— Мэм…
— Я прослежу, чтобы о вас позаботились. Позвоните по этому номеру. Договорились?