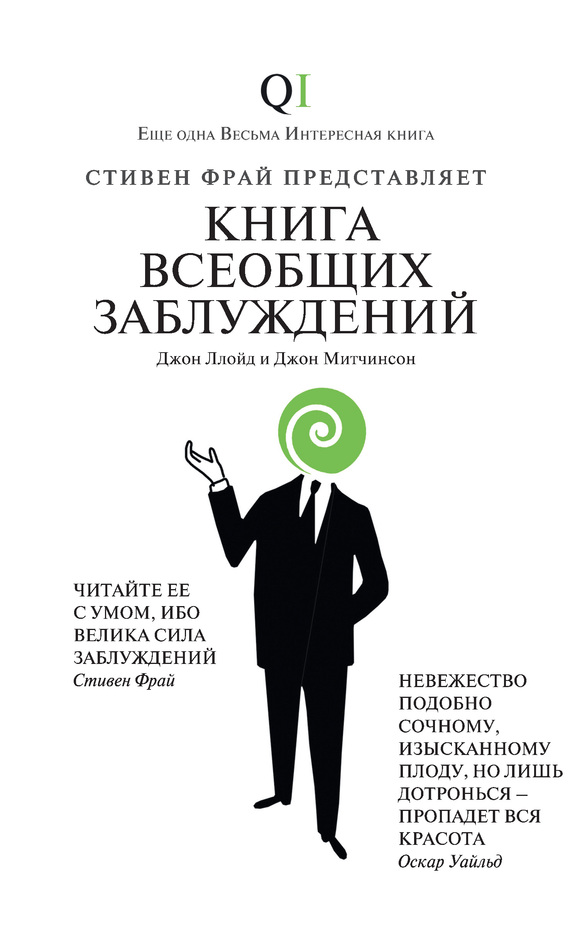Гений Келлерман Джесси

— Разумеется, пока мы не можем с уверенностью сказать, будут или нет у ребенка какие-нибудь проблемы со здоровьем. Я это говорю не для того, чтобы напугать вас, а просто чтобы вы были готовы к любым неожиданностям.
Льюис просит дать ему малыша. Ощущение такое, что держишь клочок бумаги.
— А почему он такой красный?
— Они все красные.
Льюис облегченно вздыхает. Здоров, здоров. Ребенок здоров! Он качает спящего малыша и постепенно начинает понимать, что эта его нормальность — худшее из проклятий. Ведь мальчик становится наследником, он ущемляет исключительные права Дэвида. Страшно представить себе, на что способна Берта в таких обстоятельствах.
Доктор спрашивает, приедет ли миссис Мюллер.
— Полагаю, нет.
Льюис лежит на полу гостиной, ждет, когда утихнет боль в спине, и смотрит на жену. Она нависает над ним, точно башня. Стоит в амбразуре между двумя креслами и ждет.
— Ребенок умер. Девочка тоже. При родах.
Через месяц Льюис говорит жене, что отправляется в деловую поездку, и возвращается в приют.
— Мне необходимо знать, как зовут отца.
Доктор Санта беспомощно оглядывается на адвоката в поисках поддержки.
— Я не сказал жене, куда еду. Вы могли бы хотя бы помочь мне дать малышу имя.
Секунду помедлив, Санта подходит к шкафу и достает оттуда папку. Он протягивает Льюису фотографию молодого человека. Копна темных волос, темные, бешеные глаза.
— Его фамилия Крейк.
Льюис изучает снимок, ищет сходство.
— Он ваш пациент?
— Да.
— На вид он нормальный.
— У него другие проблемы. Поведение. Одни неприятности с этим мальчиком.
Льюис кладет фотографию на стол. Наверное, как отец, он должен что-то чувствовать. Гнев или, может, отвращение. Ничего. Ему только немного любопытно.
— Как он познакомился с моей дочерью?
Доктор смущенно переминается с ноги на ногу.
— Трудно сказать. Вы же знаете, мы держим их раздельно. Иногда они встречаются — во время концертов в главном зале. По всей видимости, этой парочке удалось ускользнуть.
Льюис хмурится:
— Вы хотите сказать, что она пошла добровольно?
— Скорее всего, да. Она потом часто его звала.
Льюис молчит.
— Его больше нет с нами.
— Нет? — переспрашивает Льюис. — Он умер?
— Жив, но я велел перевести его.
— И где он теперь?
— В другом заведении, это недалеко от Рочестера.
— А он знает?
— Думаю, нет.
— Вы собираетесь ему сказать?
— Вообще-то, нет.
— Прошу вас, не надо ему ничего говорить.
Санта открывает дверь машины перед Льюисом и, заискивающе улыбаясь, произносит:
— Надеюсь, вы не обидитесь, если я спрошу, как себя чувствует Руфь? Мы все ее очень любили.
— Прекрасно, просто прекрасно.
Доктор протягивает руку. Льюис ее не замечает.
Он нанимает трех служащих, во главе с сиделкой. Ее зовут Нэнси Грин, шотландка с лошадиной челюстью. Когда-то работала медсестрой в Заведении. Нэнси добра к Руфи, и к младенцу тоже. Льюис объясняет ей, как важно сохранить тайну, и она понимает его. Или ему это только кажется? От того, что о девочке узнают, добра не будет, говорит ей Льюис. И Нэнси соглашается с ним. Еще бы, он платит ей такие деньги.
1940 год. Началась мировая война. Дэвид учится на первом курсе университета. Берту снова избрали председателем женского клуба. Своим обязанностям она посвящает все больше и больше времени, едва дожидаясь момента, когда сын выходит из дома на Пятой авеню. Представительство во Франкфурте закрылось с тех пор, как немцы вошли в Польшу. Интересы корпорации Мюллеров смещаются из области международных финансов в область управления недвижимостью в Штатах. Льюис считает, что на этом поле стабильности будет больше. Чутье его не подводит: после войны ветераны возвращаются домой и требуют нового жилья. Но все это случится лишь через несколько лет, а пока Льюису приходится просто доверять своей интуиции.
Ноябрь выдался дождливым и холодным. К тому же налетает буря, самая страшная за последние десять лет, когда она отступает, Манхэттен пахнет дождевыми червями. Льюис сидит в своем кабинете на пятидесятом этаже небоскреба «Мюллер».
Мало кто знает его прямой номер. Телефон звонит. Льюис снимает трубку. Нэнси Грин.
— Сэр, она очень больна.
Он отменяет вечерние встречи и выезжает. Плохой знак: у ворот стоит заляпанный грязью автомобиль доктора Фетчетта.
— Я не могу справиться с лихорадкой. Ей нужно в больницу.
Несмотря на все их старания, через неделю Руфь умирает от тяжелой пневмонии. Доктор Фетчетт старается утешить Льюиса, говорит, что люди, страдающие монголизмом, вообще мало живут. Это чудо, что Руфь прожила так долго и так быстро и легко умерла.
Льюис хоронит ее во дворе дома. Священника звать не стали. Сиделки поют псалмы, миссис Грин присматривает за малышом.
Глава девятнадцатая
Несколько недель мы с Мэрилин не разговаривали. Я позвонил один раз, сразу после Нового года, и ее секретарь ответила, что Мэрилин уехала в Париж.
— И долго она там пробудет?
— Мне не велено вам говорить. Мне и про Париж-то говорить не велели, так что вы уж меня не выдавайте.
Никакого права сердиться на нее у меня не было, но я все-таки рассердился. Мне казалось, что пострадавшая сторона тут я, что Мэрилин не может на меня обижаться, ведь я поступил так с ее разрешения. Точно так же я отреагировал на смерть мамы, точно так же я вел себя всякий раз, когда мне было стыдно или мне объясняли, что должно быть стыдно. Самовлюбленность и вина плохо сочетаются. Они смешиваются, и получается раздражение. Я вспоминал, как Мэрилин со мной обращалась, как смеялась надо мной, как разговаривала со мной снисходительно и как мне приходилось улыбаться в ответ. Я был для нее лишь симпатичным мальчиком, эскортом, и она часто без спросу лезла в мои дела. Мэрилин заставляла меня целовать ее, когда у меня голова раскалывалась от боли. В тот же список я добавил преступления, которые не имели ко мне никакого отношения. Называл ее разрушительницей семей, мстительной разведенкой, вруньей, хамкой. Я забыл о том, какой доброй она бывала, и вспоминал лишь ее жестокость. И вот наконец я понял, с какой испорченной, отвратительной женщиной связался, и ее нежелание простить мне небольшую оплошность показалось мне верхом лицемерия. Когда же я пришел к заключению, что Мэрилин в ответе за глобальное потепление и расцвет бизнеса в Интернете, то решил оставить ей на автоответчике сообщение. Сказать все, что думаю. Я сунул руку в карман и вместо телефона вытащил ценник, который продавец в «Барниз», наверное, забыл снять. Пиджак обошелся Мэрилин в 895 долларов плюс 8,375 налогов.
Я написал длинное письмо с извинениями и, к моему удивлению, получил такое же длинное в ответ — на французском. Мэрилин знает, что по-французски я не говорю, значит, она рассчитывала, что мне придется обратиться за помощью. Какое еще страшное унижение она для меня приготовила? Я немного поколебался, но все же позвонил Нэту.
— «После смерти короля Людовика Четырнадцатого двор снова переместился из Версаля в Париж. В Фобуре на месте садов и болот был построен новый квартал». — Он быстро пробежал текст глазами. — Тут что-то про ресторан… Знаешь, что это такое? Это история отеля, в котором она живет. Похоже, она просто вырезала кусок текста с веб-сайта. — Он посмотрел на меня. — Может, я чего-то не понимаю?
— Это значит «пошел ты».
Самолет Саманты задержали из-за снегопада. Я позвонил ей, и она велела мне продолжать работу без нее. Я решил проверить ту информацию, которую получил в магазине жуткого старика. Я обзвонил все клубы, где играли в шахматы или шашки. Вдруг Виктор ходил туда в поисках достойного противника? Ближе всего к Мюллер-Кортс оказались клубы в Бруклине, и во всех завсегдатаями были полунищие ученые, подростки с горящими глазами и кошмарными стрижками, непризнанные гении с рыбьими глазами, смакующие подробности каждой победы. Они сидели на слишком высоких для них барных стульях, болтали ногами, прижимали к груди электронные таймеры и поджидали новую жертву, которую можно было бы разгромить в пух и прах. Я ходил между ними на цыпочках и пытался выяснить, не знал ли кто-нибудь из них Виктора Крейка, усатого коротышку, немного похожего на…
— Тсс! Тише!
Предпоследним в моем списке был клуб «Хай-стрит, шахматы и шашки» на Ямайка-авеню. Их автоответчик сообщил мне, что по четвергам в 18.30 у них играют в шашки, в кассу нужно внести пять долларов, победитель забирает весь выигрыш, напитки и чипсы бесплатно.
Несмотря на пышное название, клуб был бедненький: грязная комната на четвертом этаже (на первом, кстати, находилась контора адвоката, специализирующегося на выходе уголовников под залог), узенькая лесенка, на которую попадаешь, если постучать кулаком в железную дверь и дождаться, пока кто-нибудь тебя впустит. Я приехал минут на пятнадцать пораньше. Мне открыл болезненно худой старик во фланелевой рубашке и потертых плисовых брюках. Он сразу спросил, заказывал ли я столик заранее.
— Я не знал, что нужно заказывать.
— Да ладно вам, шучу! Шутка такая. Меня зовут Джо. Гребите наверх потихоньку.
Пока мы поднимались, он извинился за то, что к ним так трудно попасть.
— Домофон сломался. — Он тяжело, со свистом, дышал, хромал и почему-то все время взбрыкивал, как будто старался сбросить ботинки. — Во всех остальных подъездах работают, только наш накрылся. А хозяину наплевать. Приходится запираться, потому что сюда уже вламывались несколько раз. Нашумели, огнетушитель со стены сорвали, залили нам ковер. Хотя по мне, так ничего страшного, подумаешь, ковер намочили. — Он вытащил носовой платок и смачно высморкался.
— Собственно, я хотел задать вам вопрос насчет одного из ваших посетителей.
Он замер, занеся ногу над последней ступенькой. Что-то изменилось. Старик сразу насторожился.
— Да? Это насчет кого же?
— Насчет Виктора Крейка.
Старик с хрустом потер шею.
— Не знаю такого.
— Может, кто-нибудь из ваших посетителей его знает?
Он неопределенно пожал плечами.
— Ничего, если я поднимусь и поспрашиваю их?
— Сейчас матч начнется.
— Я могу подождать, пока вы закончите.
— Зрителям тут делать нечего. Это вам не футбол.
— Тогда я могу попозже вернуться. Во сколько вы закрываетесь?
— По-разному. — Он постучал пальцами по перилам. — Может, через час, а может, и через четыре.
— Тогда я буду играть.
— А вы умеете?
Чего там уметь-то, в шашки?
— Да, — ответил я.
— Точно?
— Справлюсь.
Он снова пожал плечами.
— Ну и ладненько.
Я оглядел зал и понял, что в Бруклине клубы очень даже фешенебельные. В Квинсе публика была разношерстной: какой-то пугливый парень нес огромные стаканы, за столиком устроился толстяк в старых кроссовках и сиреневых спортивных штанах с пузырями, у дальней стены стояли близнецы, они поглощали кока-колу в фантастических количествах и трещали между собой на смеси английского и испанского.
Джо, похоже, был тут главным. Он вышел в зал и сделал несколько объявлений, в том числе напомнил собравшимся про предстоящий матч на Стейтен-Айленд, а потом пошел по кругу, сажая игроков за стол парами. Меня он устроил за шатким ломберным столиком. Мой противник в наглухо застегнутой теплой куртке уселся напротив. Его круглое лицо слабо светилось во тьме капюшона.
— Это Сэл. Сэл, познакомься, это наш новенький.
Сэл кивнул.
— Это даже хорошо, что вы пришли, — сказал мне старик. — Без вас получалось нечетное число. Гоните пятерку.
Мы с Сэлом достали кошельки.
— Вот спасибочки. — Старик вырвал у меня из рук банкноту и потащился дальше.
В комнате становилось все жарче, но Сэл своей куртки упорно не снимал. И перчаток, кстати, тоже. Поэтому убирать с доски съеденные шашки ему было трудно. А ел он их с печальным постоянством. Я начал передавать ему их, просто так, из вежливости.
— А что бывает, если… — начал я.
— Тсс! Тише.
— Что бывает, если получается нечетное число игроков? — шепотом спросил я.
— Тогда Джо играет сразу с двумя. Я в дамках.
Играли мы минут девять. По-моему, это у них нечто вроде намаза было. Мы закончили, и Сэл, улыбаясь, откинулся на спинку стула. Он даже хотел руки за голову заложить, чтобы выглядеть уж совсем победителем, но пальцы на затылке сплести не смог, перчатки помешали. Пришлось ему подпереть подбородок кулаком и так наслаждаться видом доски без единой черной шашки. Все остальные играли молча, только слышался стук пластмассовых кружочков о доски и время от времени раздавался шепот: «Я в дамках».
— Вы когда-нибудь видели тут…
— Тсс!
Я вытащил ручку и визитку и написал свой вопрос на обратной стороне. Сэл прочитал и покачал головой. Потом взял ручку и накорябал: «Я тут недавно».
Он показал на визитки. Я протянул ему одну, но он нетерпеливо замахал на меня руками и взял четыре. Он начал писать, нумеруя каждую визитку в верхнем углу.
1. Я сюда начал ходить пару месяцев назад, так что я не всех тут
2. знаю, а вот Джо знает всех. Кстати, вы в курсе, что он был
3. чемпионом страны
Я вытащил еще одну визитку. Оставалось всего три. «Неужели?» — написал я.
4. Да, он был чемпионом 93 года, а еще он мастер
5. спорта по шахматам и нардам
Я достал последнюю карточку и написал: «Вот это да!» Мы неловко помолчали. Время от времени мы кивали друг другу. Теперь, когда мы установили такую прочную связь, молчание становилось мучительным испытанием.
— Второй матч, — объявил Джо.
Я проиграл восемь раз подряд. Один раз мне даже удалось продержаться целых пятнадцать минут. Мне повезло: мой противник, пожилой ветеран со слуховым прибором в обоих ушах, заснул на середине партии. К концу вечера ни разу не проиграл только Джо. Игроки стонали, когда приходил их черед сразиться с ним. Лично я играл с ним последний, восьмой матч. Пришлось выдвинуть шашку на середину поля и ждать смерти.
— Е7 — Е6, — провозгласил Джо. — Мое любимое начало.
И спокойно смел меня с доски. Как будто мы с ним в разные игры играли. В каком-то смысле так оно и было. Я играл так, как меня учили в детстве, то есть развлекался и убивал время. Мои ходы наверняка казались ему неожиданными и необдуманными. Я мог добиться лишь краткого преимущества, если вообще добивался его. Старик же анализировал каждый свой шаг. Наверное, так бывает со всеми, кто достиг профессионализма в своем деле.
Я наблюдал за ним с тем же восторгом, с каким впервые рассматривал картинки Виктора. Позвольте, я объясню. Гений принимает множество форм. Наши современники научились постепенно ценить трансцендентность не только в Пикассо, но и в других, менее заметных произведениях. Старый добрый провокатор, Марсель Дюшан,[39] доказал это, отказавшись от карьеры художника, переехав в Буэнос-Айрес и полностью посвятив себя игре в шахматы. «В этой игре, — писал он, — вы найдете всю красоту искусства, но вы найдете в ней и нечто большее. Из нее невозможно извлечь прибыль. Игра намного чище искусства». На первый взгляд может показаться, что Дюшан сокрушается, размышляя, какую власть над нами обрели деньги. На самом деле он борется не с деньгами. Он стирает четко очерченные границы традиционного искусства, полагая, что все формы самовыражения — все без исключения — абсолютно равны. Живопись ничем не отличается от шахмат, а шахматы — от катания на роликах, а ролики — от приготовления супа на собственной кухне. Если вдуматься, любое из этих старых, проверенных временем занятий лучше традиционного искусства, лучше живописи, потому что при этом не нужно патетически провозглашать себя «художником». Борхес утверждал, что патетика — путь посредственности, и страстное желание быть гением — один из самых серьезных соблазнов в искусстве. В таком случае настоящий гений не осознает собственной гениальности. Гений на то и гений, что не должен задумываться над своими творениями, не должен задумываться над тем, как примет его публика или как его произведения повлияют на его дальнейшую судьбу. Гений просто действует. Он — человек ограниченный, для него существует одна лишь страсть, страсть нездоровая и часто разрушительная. Таким человеком был Джо, таким был и Виктор Крейк.
Да, я склоняю голову перед гением, перед тем, как легко он приносит себя в жертву предназначению. Я надеялся, что и на меня падут отблески его костра. И вот теперь, глядя на то, как Джо забирает мою последнюю шашку и кладет ее рядом с остальными пластмассовыми телами, когда-то составлявшими мое войско, я вдруг вспомнил, зачем мне нужен был Виктор Крейк. И зачем я продолжал искать его, когда понял, что создать его заново у меня не получится. Крейк был моей последней надеждой, моим единственным шансом почувствовать жар костра, вдохнуть запах дыма, искупаться в его свете.
Раздача призов — точнее, призового фонда в пятьдесят долларов — прошла скромно. Джо просто вручил их сам себе. Один из участников проиграл шесть партий подряд и возмущенно удалился. Я утешал себя тем, что не я один так плохо играю, и расстраивался, что не успел сделать главное: задать ему вопросы.
Расстраивался я напрасно: все остальные знали Виктора. Они сообщили мне, что он был постоянным посетителем клуба и исчез около года назад. Все сошлись на том, что лучше всего поговорить с Джо, он тут старожил. Я был несколько озадачен, поскольку Джо утверждал, будто о Крейке он не слышал. Джо за то время, пока я опрашивал остальных, успел тихонько испариться.
Человек с огромной кружкой посоветовал мне подождать:
— Он вернется.
— Откуда вы знаете?
— А ему надо клуб запереть.
И я стал ждать. Игроки расходились, я смотрел в окно и видел, как они пробираются через сугробы и спешат к автобусной остановке. Двое не ушли и играли до половины двенадцатого, а потом я остался один на один со столиками и стульями — слушать, как жужжит люминесцентная лампа, и внимательно читать надписи на разорванной упаковке хрустящих хлебцев.
Джо вернулся после полуночи. А куда ему было деваться? Я знал это, и не только потому, что мне так сказали. Ведь настоящий гений никогда не бросит в беспорядке священное для него место. В двери внизу заскрежетал ключ, на лестнице раздалось пыхтение. Джо вошел в комнату и принялся расставлять стулья, как будто меня там и не было. Я начал ему помогать. Мы работали в полной тишине. Джо дал мне рулон бумажных полотенец и полироль, и мы вместе протерли столы.
— Я про вас в газете читал, — наконец сказал Джо. — Ведь это вы устраивали выставку? — Он завязал горлышко мусорного мешка замысловатым узлом.
— Поэтому мне и нужно с ним поговорить. Отчасти. Я должен отдать ему деньги.
— Отчасти. А еще почему?
— Простите, не понял.
— Почему еще вы его ищете?
— Хочу убедиться, что у него все в порядке.
— Как трогательно.
Я не ответил.
— И сколько денег?
— Много.
— Много — это сколько?
— Достаточно.
— Чего это вы такой скрытный?
— Зато честный.
Джо криво улыбнулся и переложил мешок в другую руку. Он очень горбился, кособочился и морщился, когда молчал. Казалось, он все время чем-то недоволен.
На улице снова началась метель. Джо бросил мешок в темном проулке и пошел к автобусной остановке. Он прихрамывал еще сильнее, чем в начале вечера, и теперь двигался почти как больной церебральным параличом. А еще он вдруг сделался выше ростом и как будто раздулся. Ветер распахнул полы его куртки, под ней обнаружилась еще одна, а под ней третья.
— Давайте я вас подброшу, — предложил я.
Он повернул голову.
— Я себе сейчас такси вызову, — пояснил я. — Могу вас довезти.
Из-за угла показался автобус. Старик посмотрел на него, на меня, снова на него и сказал:
— Что-то я проголодался. Хотите есть? Я ужасно хочу.
Мы пошли в круглосуточную забегаловку. Я заказал себе кофе без кофеина, а старик, когда услышал, что я плачу, потребовал яичницу с ветчиной, тосты из черного хлеба и молочный коктейль. От его заказа у меня сразу изжога началась. Официантка уже отошла от столика, но он вернул ее и велел принести еще салат и жареные луковые кольца в кляре.
— Надо, чтобы все питательные элементы были, — объяснил мне Джо.
Ел он медленно, тщательно разжевывая каждый кусочек. Пятьдесят движений челюстями за раз. И какой после этого у еды должен быть вкус? Пресная каша да слюни. Все это старик запивал большими глотками молочного коктейля, так углубляясь в стакан, что на кончике носа оставалась пена. После каждого глотка Джо вытирал лицо салфеткой, комкал ее и бросал на пол. И без конца нервно оглядывал зал: дверь, барная стойка, я, стол, официантка, музыкальный автомат и снова я. Руки у него были красные, обветренные, все пальцы в заусенцах.
Он спросил меня, когда я в последний раз играл в шашки.
— Лет двадцать пять назад.
— Я так и понял.
— Разве я говорил, что хорошо играю?
— Виктор здорово в шашки играл. И играл бы еще лучше, если бы не торопился так.
Мне сразу стало интересно. Я-то представлял себе Крейка этаким философом, созерцателем, по крайней мере, когда он не рисовал. Я сказал Джо, что рисунки были как-то удивительно заряжены энергией, особенно если собрать их в единое целое. Он пожал плечами. Интересно, он не согласен или ему просто плевать?
— Вы в этом районе живете? — спросил я.
— Конечно. Иногда.
Я не понял сначала, но потом сообразил, и старик ухмыльнулся.
— Хотите, могу как-нибудь в гости пригласить. Переночуете у меня. Любите спать под открытым небом? Ха-ха-ха.
Я вежливо улыбнулся, и он совсем зашелся смехом.
— Знаете, какая у вас сейчас физиономия? Будто я вывалил мусорный бак вам на ковер, а вы пытаетесь сделать вид, что ничего не заметили. Ладно, шучу. Нет, я не живу на улице. Выдыхайте уже.
— Не могу.
— Почему? Вы мне не верите?
— Я…
— Ну ладно, тогда — да, я живу на улице. Сплю в парке. Ха-ха-ха. Да нет, не на улице. Нет, на улице. А вы как думаете?
— Не знаю, что и думать.
Он выпил остатки молочного коктейля, высоко задрав подбородок, и помахал стаканом официантке.
— Шоколадный, пожалуйста.
У него на тарелке еще оставалась парочка луковых колец и совершенно нетронутый салат. Принесли новый коктейль, и процесс поглощения пищи возобновился: чавк-чавк-чавк, глоток, бульк-бульк-бульк, салфетка. Мне показалось, что он следует какому-то странному ритуалу, что ему обязательно нужно закончить есть и пить одновременно. Я так и видел, как встает солнце, а мы все сидим в этой забегаловке, заказываем и заказываем, пока еда и питье не закончатся — вместе. Аминь.
Или он просто очень, очень хотел есть.
— Гляньте туда, — сказал старик, указав перепачканным в шоколадной пене кончиком носа на темную церковь за окном. — Там приют. Но двери запирают в девять, так что по четвергам я не успеваю.
Я даже спрашивать не стал, почему он предпочел постели игру в шашки, мне и так было все ясно. Вместо этого я спросил:
— Где вы научились играть?
Он вытер лицо отвратительно жирной салфеткой. Я протянул ему другую, он утерся, скомкал, бросил на пол.
— В дурдоме.
Я снова вежливо улыбнулся. Во всяком случае, попытался улыбнуться.
— Ха-ха-ха, куча мусора на ковре! — Он стал пальцами доставать из тарелки салат, разглядывать его на свет и совать в рот. С листьев на стол капал соус. — Очень я зелень люблю, — признался Джо, тщательно пережевывая пищу.
— И сколько вы там пробыли?
— С семьдесят второго по семьдесят шестой. Там чему хочешь можно научиться. Это у меня было вместо высшего образования. — Он снова заржал, сделал глоток, закашлялся, выплюнул немного молочного коктейля и вытер подбородок. — Если у вас крыша не отъехала до того, так она непременно отъезжала там — от скуки.
— Сэл сказал, вы были чемпионом мира.
— Мог бы и поменьше болтать. Да, было дело, срубил чуть-чуть деньжат. Но шашками много не заработаешь. А теперь вообще компьютер сделали, попробуй его обыграй. Человек нынче вроде аппендикса, никому не нужен. — Он откинулся на спинку стула и погладил живот. Непонятно было, как в него все это влезло. На столе осталось только немного молочного коктейля, и старик смотрел на свой стакан с вожделением. — Хотите узнать что-нибудь про Виктора — купите мне десерт.
Я помахал официантке. Джо попросил пирог с кокосовой стружкой.
— Кончился.
Джо посмотрел на меня:
— Хочу пирог с кокосовой стружкой.
— Съешьте клубничный, — предложил я.
— По-вашему, это достойная замена?
— Ну…
— Нет стружки, так давайте с шерстью, — сказал старик.
Официантка посмотрела на него, на меня, покачала головой и ушла.
— Принесите что есть, — закричал ей вслед Джо и повернулся ко мне: — Я съем шоколадное мороженое.
Я встал и пошел догонять официантку.
Джо мрачно разглядывал скатерть, пока девушка не вернулась с десертом.
— Виктор тоже был в дурдоме, — сказал старик.
— С вами?
— Нет. — Он хихикнул. — Вы его никогда не видели, да?
— Не видел.
— Он меня намного старше. Я с ним только в клубе познакомился.