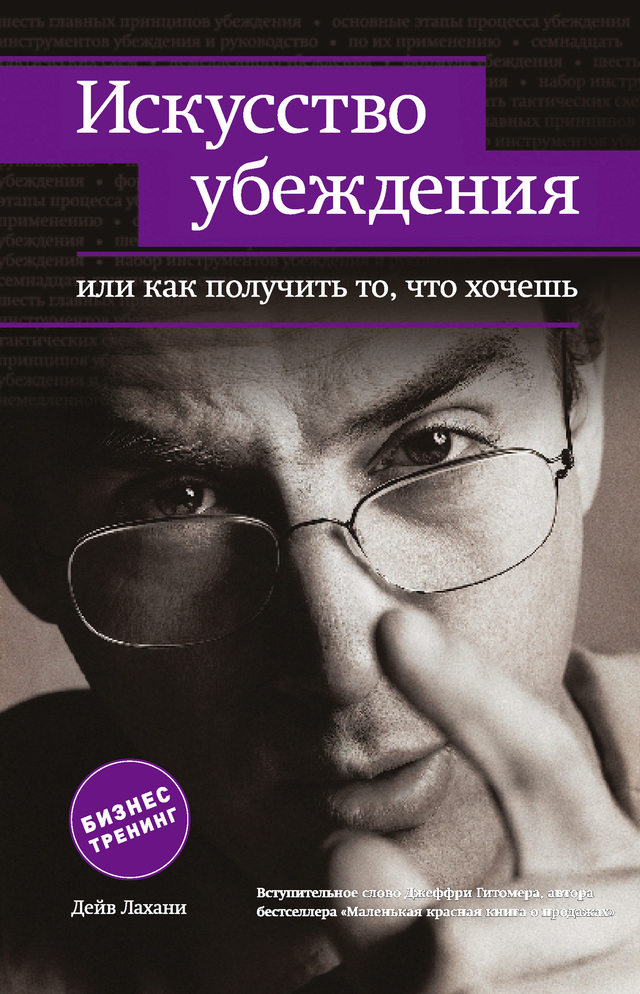Герой иного времени Брусникин Анатолий
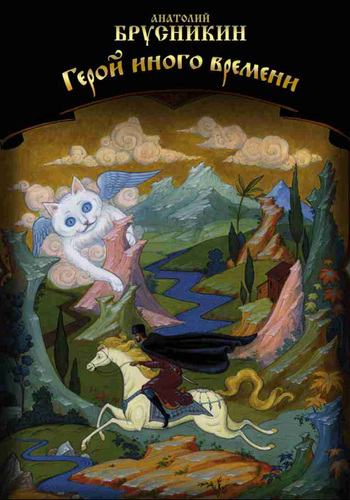
– Нам нельзя расставаться. – Зара взяла его за руку, жесткую и горячую. – Я придумала лучше. Мы их обманем. Ты завернешь меня в бурку у них на глазах. А потом, когда луна зайдет за тучу, я потихоньку выскользну. Знаешь, какая я ловкая? Никто не заметит. Пусть Аксыр оставит внизу не одну лошадь, а две.
– Ты такая же умная, как твоя нана. – Он восхищенно покачал головой. – Так и сделаем.
Костер получился неважный – на перевале росли лишь чахлые кусты, но тепла от него хватало, а света было даже многовато. Укутанная буркой, Зара смотрела на своего жениха. Он сидел к ней вплотную, держа у ее горла кинжал – чтоб джангызцам не вздумалось подкрасться в темноте. Другой рукой время от времени он поглаживал Зару. Условились, что она уйдет за час до рассвета, когда скроется луна.
Если б только не тепло, исходившее от его руки! Если б не мечты о том, как они будут жить втроем на краю света!
Между мечтой и сном граница такая хрупкая, ее почти и нет.
Сначала Зара думала, какой у них будет дом. Потом увидела его, как наяву: белый-белый, и все стены разрисованы чудесными узорами. Но это она уже спала.
А когда проснулась, Галбацы не было. Он ушел, а Зара не могла этого услышать – даже если джангызцы по нему стреляли.
Прозрачный воздух дрожал радужными искорками – из-за гор поднималось солнце.
Зара скинула бурку, поднялась. К перевалу снизу бежали джигиты, впереди всех – нана.
И Зара не могла удержаться – горько заплакала. Опять она была одна на всем свете.
Что-то коснулось ее щиколотки.
Посмотрела вниз – ангел.
Выгибая изящную спинку, он терся о чувяк и зевал.
Галбацы оставил Заре того, кто грел его сердце! Значит, он обязательно вернется – за невестой и за своим ангелом!
Прекрасное создание вновь открыло ротик, и вдруг раздался небесный звук: «Яяау!»
А потом на Зару обрушилось много-много звуков.
Посвистывал ветер, шипели догорающие угольки костра, звонкий голос кричал: «Зара, доченька, ты жива!»
Пропел ангел – и мир избавился от немоты.
Зигзаг
Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро – добро, и кровь – за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.
Лермонтов, «Измаил-бей»
Дарья Фигнер
Обманывать себя она перестала, когда перед подъемом обхватила его сзади за плечи и прижалась грудью к его спине. То, что не желал принимать рассудок и что отвергала воля, ворвалось в плоть и кровь – через нахлынувший жар, через сумасшедшее сердцебиение, через сладостное оцепенение. И во время восхождения, и во время спуска Даша была в полубеспамятстве. Но не от страха – от наслаждения. Ей хотелось, чтобы так было всегда: она крепко его обнимает, они единое целое. Если сорвутся, то вместе, а вместе с ним – хоть в пропасть. Это было самое восхитительное ощущение всей ее жизни. Это было самое ужасное, что только могло с нею случиться.
Она безрассудно, неостановимо полюбила единственного человека на свете, которого любить ей было никак нельзя. Полюбила не так, как описывают в стихах или романах – всем сердцем, а вообще всем, что в ней было, – и любила всё, что было в нем. Вдруг открылась неоспоримая истина: ее кожа создана для того, чтобы его осязать; обоняние – чтобы жадно вдыхать его запах; глаза – чтоб на него смотреть; слух – чтобы внимать его дыханию; язык – … Во время спуска она тайком лизнула его покрытую испариной шею – и солоноватый вкус показался ей волшебным.
Когда всё закончилось, ее пальцы не желали расцепляться. Олег Львович подумал, что это от нервов, и очень бережно разъединил их, один за другим. Пальцам сразу сделалось холодно. Потом Мангаров целовал их, согревал дыханием, но это не помогло.
Весь долгий и опасный путь в Серноводск она была словно не в себе. Вздрагивала, когда звучали выстрелы, пила и ела – но совершенно механически. В Даше что-то происходило, что-то менялось, и она вся была поглощена этим пугающим процессом.
Хорошо, что мужчины обращались с ней, как с больной. Были заботливы, но не донимали разговорами: молчит – и пускай. Когда оказались в безопасности и стало возможно ехать медленней, Григорий Федорович настоял, чтобы она села перед ним – якобы так ей будет покойней. Она не спорила. Но все время, пока Мангаров нежно обнимал ее за плечи и нашептывал ласковые слова, она его ненавидела. За то, что он – не Олег Львович: и держит ее неправильно, и голос не такой, и запах.
Несмотря на ошеломление, мысль работала – выискивала лазейки, как совместить несовместимое и приспособиться к новой действительности.
Дашино воспитание, чувство порядочности, самоуважение – то лучшее, что в ней было и чем она гордилась – все эти основы ее душевного устройства были потрясены, опорочены. Ей следовало испытывать к себе презрение и омерзение, но ничего подобного не было. Это ужасней всего.
Держась обеими руками за жесткую гриву лошади, Даша вспоминала бывшее прежде – и поражалась собственной слепоте.
Теперь-то ясно, что она влюбилась в Никитина, еще его не увидев. В тот самый день, когда на станции Бирюлево слушала взволнованный рассказ Алины Сергеевны Незнамовой. Влюбилась в неизъяснимую красоту этой истории. В мужчину, который способен вызывать в такой необыкновенной женщине столь долгое и сильное чувство.
Ну хорошо, эта влюбленность была романтической и девичьей. Еще не любовь, а тоска по любви, ее предчувствие. Но когда она увидела Никитина вблизи и заглянула в его страшные (да-да, именно страшные!) глаза – ведь кажется, можно было спросить себя: чего это ты, голубушка, так напугалась? А того и напугалась, что увидела в этих глазах свою гибель. Гибель прежней Даши Фигнер – ясной, честной, светлой.
Но ничего она, дура, не поняла. Объяснила волнение своей душевной отзывчивостью и даже умилилась на себя: вот-де как близко приняла она к сердцу заботу доверившейся ей женщины.
И всё последующее свое поведение объясняла себе тем же: благородным участием в Никитине, ответственностью перед Незнамовой.
Не совсем так. Сомнения все-таки были, причем с самого начала. Но Даша возмущалась ими, гнала прочь. И, чтоб доказать самой себе чистоту помыслов, написала в Москву письмо: Олег Львович отличился, уже произведен в унтер-офицеры, а после похода в Семиаулье несомненно получит эполеты, так что не медлите, выезжайте. Письмо ушло с военным курьером, самой быстрой эстафетой.
Но экспедиция завершилась неуспехом. Олег Львович не только остался без надежды на выслугу, но был услан обратно в свой дальний форт. Когда Даша узнала об этом из записки Григория Федоровича, помертвела от ужаса. «Что я натворила! – сказала себе она. – Незнамова уже в пути, ее не остановить. Приедет счастливая – а его нет. Он ее не ждет, он спросит, почему она здесь? А виновата во всем я».
И невдомек ей было, что ужас вызван не столько конфузной ситуацией, сколько разлукой с Олегом Львовичем. Мыслью, что она может его больше никогда не увидеть. Решение ехать в Занозу возникло немедленно. Она об этом написала Григорию Федоровичу, отдала записку журналисту и стала думать, как всё устроить.
То, что случилось потом, было похоже на нескончаемый страшный сон: смерть бедного Трофима, плен у дикарей, но сейчас, потрясенная своим открытием, Даша об ужасах и не вспоминала. Словно всё это произошло не с ней. Или с ней, но много-много лет назад.
Чем меньше оставалось до Серноводска, тем яснее становилось: предстоящих мук Даше не вынести. Приедет Незнамова, посмотрит ей в глаза – и, конечно, сразу всё поймет. С ее-то проницательностью и чутким сердцем – непременно. Как стыдно, как стыдно! Что может быть хуже, чем попытка украсть самое дорогое у той, которая и без того жестоко обворована судьбой?
Это был голос прежней Даши. Он потихоньку оттаивал, звучал всё громче. Спорить с ним было невозможно.
Имелся и еще один повод для терзаний, недостойный. Умываясь в маленьком горном озерце, она вдруг увидела свое отражение и чуть не разрыдалась. Боже, на кого она похожа! Какая-то облезлая кошка! Волосы висят сосульками, глаза ввалились, губы распухли. А кожа! А ногти!
«Глупости, – одернула себя Даша. – Какое это имеет значение?»
Но сама себе не поверила. То, как она выглядит, имело значение, и очень большое. Олег Львович должен смотреть на нее не с сочувствием, а с восхищением. Не жалеть ее, а желать!
Стоило ей мысленно произнести эти слова, и внутри будто вспыхнул яркий свет, озаривший душу и прояснивший мысли.
Нравственных терзаний как не бывало.
В любви каждый за себя. Здесь нет ни сострадания, ни благородства, ни учтивости. Потому что любовь – единственное, ради чего стоит жить и ради чего не жалко умереть. Одно дело прочесть такое в романе, и совсем другое – ощутить всем существом, как ощутила это Даша, застыв над черной водой.
Она будет сражаться за свою любовь! Пускай она воровка, пускай подлая предательница – да кто угодно! Наполнившее ее чувство было такой силы, что все остальное утратило значение.
Он будет принадлежать ей во что бы то ни стало. Вопреки всем и всему. Даже вопреки самому себе.
К Даше он равнодушен – в том единственном смысле, который для нее важен. Это первая трудность. Вторая: за много лет он свыкся с мыслью о той женщине, их слишком многое связывает. Трудность третья: его сердце покрыто ржавчиной, опалено невзгодами. Оно разучилось любить – если когда-то и умело.
Задача сложная, что говорить. Значит, нужно стать умной, смелой, прекрасной. Такой, перед кем рухнут все преграды.
И Даша очнулась. С нее слетела вялость, глаза заблестели, плечи распрямились. Лишь теперь она заметила, что куда-то подевалась маленькая глухая черкешенка и что Галбаций (кажется, он на время исчезал – или примерещилось?) едет мрачный и всё вздыхает. Вот отличный повод показать себя перед Олегом Львовичем в хорошем свете.
– Что с вашим другом? Он нездоров? – спросила она участливо. Безо всякого интонирования, по-дружески. Женские фокусы – это потом. Сначала нужно привести себя в надлежащий вид.
– Он где-то потерял котенка, что вы подарили, – так же по-товарищески ответил с улыбкой Никитин. – Я вижу, Дарья Александровна, вам лучше?
– Немного. Знаете, я не говорю вам слов благодарности. Потому что словами моих чувств не выразить. Отныне вы для меня… – И не договорила.
Голос у нее очень правильно, тепло дрогнул.
«Про скорый приезд Незнамовой ему ни слова, – думала Даша. – Как бы она ни торопилась на Кавказ, раньше, чем через две или три недели, не приедет. Это время – моё».
– Григория Федоровича мне отблагодарить просто, – сказала она, изобразив милую девичью застенчивость, которой в ней нисколько не осталось. – Да и обязана ему я меньше, чем вам. Кунаку вашему я достану другого котенка. Еще краше и моложе, – прибавила она, не удержавшись. – А вот как выразить мою признательность вам, ума не приложу…
– Мне довольно того, что вы на свободе. А Галбация другим котенком вы вряд ли утешите. Кто краше и моложе не заменит того, кто был дорог.
Она вздрогнула – ей показалось, что Никитин прочел ее тайные мысли и ответил на них. Но в теперешнем Дашином состоянии надолго обескуражить ее было невозможно.
Первую попытку расшевелить в Олеге Львовиче иной интерес она предприняла на следующий день.
У подножия гор, в мирном ауле, их поджидали капитан Иноземцов и доктор Кюхенхельфер. В коляске у них было всё необходимое, чтобы снова превратиться если не в красавицу, то по крайней мере в цивилизованную женщину. Даша отмылась, переоделась, надушилась. Настоящей прически, конечно, не сделала, но заплела косу – вышло мило и эффектно, в духе пушкинской героини: «Три дня купеческая дочь Наташа пропадала».
Сразу прибавилось и уверенности.
По дороге остановились на привал возле ручья. И Даша произвела еще не атаку, а, как выразился бы papa, разведку боем. Отошла к ивняку, стала ждать, когда Олег Львович пойдет умываться. И сделала вот что: приспустила платье, обнажив шею и плечи, грациозно присела над водой – стала обтираться смоченным платком.
Прежняя Даша ничего до такой степени бесстыдного и вообразить себе не смогла бы, а новая Даша, смелая, о стыде даже не думала. Лишь жалела, что плохо знает мужчин, особенно немолодых: что сильней пробуждает в них страстность? Во всяком случае, от маневра хуже не будет. В представителях сильного пола, как известно, чрезвычайно развита чувственность. Когда они видят какой-то пустяк вроде подвязки или ненароком обнажившейся части тела, прямо с ума начинают сходить.
С ума от вида Дашиных плеч Никитин не сошел, но и удалился не тотчас – несколько секунд постоял. Она сделала вид, что не видит его и не слышит, но внутренне возликовала: ага, залюбовался! Метод оказался перспективным – она взяла его на заметку.
В последний день путешествия Даша вела себя очень продуманно, с каждым спутником по-своему. Мангарову нежно улыбалась, но близко к себе не подпускала; его функция была – излучать обожание, окружать ее ореолом желанности. С капитаном держалась по-дружески просто. С доктором шутила. Горцу сочувственно вздыхала – издали, они ведь не любят разговаривать с женщинами. А Олегу Львовичу без конца посылала взгляды, полные глубокой благодарности и несколько раз говорила о своем неоплатном долге, так что он даже засердился. Это ничего. В какой-то книге Даша прочла, что больше всего человек любит тех, кто ему чем-то обязан.
Домой освобожденная пленница вернулась бодрая, целеустремленная, готовая перевернуть горы и вычерпать моря. Расплакавшийся от счастья папенька сказал: «Настоящая дочь воина!» Знал бы он…
С отцом нужно было провести очень важный разговор, однако в первый день Александр Фаддеевич был как в полупомешательстве: то смеялся, то утирал слезы, задавал миллион вопросов и не дожидался ответов. Он обнял всех спасителей дочери: и Мангарова, и Никитина, и доктора, и Платона Платоновича. Хотел даже облобызать абрека, но тот увернулся.
Еще бы папеньке не ликовать! Дочь возвращена, умолять государя об освобождении аманатов не нужно, закладывать имение не придется.
Надо было растолковать отцу, кому он всем этим обязан в первую очередь. Беседу Даша решила провести назавтра. Притом не в домашних условиях, а в отцовском кабинете – чтоб там же, сразу, без последующих сомнений была подписана соответствующая бумага.
Так и поступила.
В полдень явилась в штаб. Офицеров и всякого рода порученцев там было вдвое или втрое больше, чем прежде. Дело в том, что генерал от инфантерии Головин в ожидании скорого прибытия министра и своей неминуемой отставки взял отпуск по болезни. Генерал-лейтенанту Фигнеру он поручил временно исполнять должность главнокомандующего Кавказским корпусом со всеми соответствующими полномочиями и особыми правами. Даша смутно себе представляла весь объем этих полномочий, а из «особых прав» ее занимало только одно. О нем-то она и желала говорить.
На крыльце у нее произошла странная встреча. Из дверей штаба выскочил высокий тощи кавказец в алой черкеске и мерлушковой папахе. Его хищное, носатое лицо было черно от ярости, жилистая рука сжимала золоченую рукоять шашки.
Даша хотела пройти мимо, но горец, увидав ее, замер.
– Вы дочь сардара! А я князь Эмархан. Тот самый, что вел о вас переговоры с Рауф-беком! – вскричал он на правильном, но несколько клекочущем русском. – Это благодаря мне вас чисто держали и хорошо кормили! Я дал абрекам задаток в пять тысяч рублей – своих собственных денег! Сардар-генерал отказался мне их отдавать! Говорит, что вас освободили без моей помощи! Говорит: где доказательство, что я платил Рауф-беку деньги? Как будто абреки выдают расписки!
Она посторонилась – у него изо рта летели брызги, и вообще этот человек показался ей крайне неприятным. Он был похож на жуткого главаря разбойников, который два дня вез ее, словно мешок с отрубями, перекинув через луку седла. Только тот походил на рычащего волка, а этот на визгливого шакала. Зачем только отец пользуется услугами всякого отребья из туземных князьков? Они ничем не лучше «хищников». Даже хуже. Те, по крайней мере, защищают свой край.
– Если вы пытались мне помочь, я вам благодарна, – холодно сказала она. – Но чего вы хотите?
– Как «чего хочу»?! – Эмархан сглотнул – под острой бородкой качнулся огромный кадык. – Это были мои последние деньги! Вы говорите, что благодарны мне. Так вознаградите меня хоть чем-то! Я разорен! Нищ!
Раньше от такого шипения, от испепеляющего взгляда нежная мадемуазель Фигнер перепугалась бы, начала лепетать что-нибудь извиняющееся и, наверное, даже отдала бы какую-то из своих драгоценностей, лишь бы этот головорез оставил ее в покое. Но в теперешней Даше девичьей пугливости совсем не осталось.
– Я подумаю, чем вас отблагодарить, князь. И стоит ли, – спокойно молвила она. – Посоветуюсь с отцом. А теперь позвольте – вы загораживаете мне дорогу.
Подействовало! Страшный человек с низким поклоном прижал руку к груди, попятился.
– Не нужно советоваться с сардаром. Он прогневается на меня. Уповаю лишь на ваше милосердное сердце, благородная госпожа. Если решите чем-нибудь пожаловать бедного Эмархана, пришлите со слугой на постоялый двор Лазаряна. Ведь пять тысяч!
Она небрежно кивнула. Горец, продолжая кланяться, сбежал по ступенькам. Толстяк с бабьим лицом, в засаленной черкеске, подвел ему коня. Князь одним махом взлетел в седло и сдернул с головы шапку, что – Даша знала – у туземцев считалось высшим знаком почтительности по отношению к женщине.
Очень довольная собой, она прошла в отцовский кабинет и провела беседу просто блестяще.
Сказала, что спасением жизни, чести и рассудка обязана прежде всего Олегу Львовичу Никитину, который руководил экспедицией и лично вынес пленницу из вражеского логова на своей спине. Прочие участники дела не более, чем помогали ему – кто больше, кто меньше. Ежели батюшке дорога единственная дочь, он должен щедро вознаградить этого достойнейшего из людей.
– Так это всё Никитин? А я думал, твой поручик расстарался. – Александр Фаддеевич выглядел удивленным. – И что ты захочешь отблагодарить Мангарова на свой лад… Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Я уж внутренне и смирился, хоть он тебе ни с какой стороны не партия.
– Насчет моих чувств к Григорию Федоровичу вы, батюшка, ошибаетесь. Там нет ничего кроме дружеской приязни – во всяком случае, с моей стороны. Но дело не в том. По справедливости главная честь должна достаться главному герою. А это без сомнений господин Никитин.
– Хм. Чем же, по-твоему, могу я его отблагодарить, чтоб он не обиделся? Ты ведь знаешь, он не простой унтер, кого можно одарить деньгами.
– Дайте ему то, в чем он более всего нуждается. Офицерский чин, а с ним – свободу. Вы нынче исправляете должность главнокомандующего. Производить нижних чинов в прапорщики – ваше право.
Отец закряхтел.
– Так-то оно так, но, душа моя, ведь он из каторзников. Их без высочайшего соизволения выпускать в офицеры не принято…
– Не принято или запрещено?
– Ну, прямого запрета нет, однако же прежний главнокомандующий на себя такой смелости не брал. А мое положение пока не определено. Ежели министр приедет и сочтет мой поступок дерзостным, меня могут не утвердить…
– А вы ему напомните, что благодаря Никитину российская держава сохранила у себя в залоге сыновей горских князей. Да за это не в прапорщики – в генералы произвести мало!
И не ушла из кабинета до тех пор, пока Александр Фаддеевич не подписал по корпусу приказ о производстве унтер-офицера Олега Львова Никитина за выдающуюся заслугу в пехотные прапорщики.
Список с приказа Даша сама отвезла на Ставропольскую улицу и велела отнести во флигель, приложив цветок гвоздику, символ свободы. Сама не пошла – на то была причина.
Дело в том, что попав к настоящему зеркалу, более безжалостному, чем озерная вода, Даша увидала, что до пристойного вида ей еще очень далеко. Придется потратить несколько дней, чтобы привести в порядок кожу, волосы, руки. На плечах, которыми она пробовала соблазнить Олега Львовича, оказывается, темнели синяки от ударов о камни, ляжки были все в кровоподтеках после скачки, губы растрескались.
Для разработанного Дашей плана всё имело значение, в том числе и ляжки. Поэтому несколько дней показываться Никитину было нельзя. Он увидит ее не иначе как в сиянии прежней – и даже еще более ослепительной – красоты.
План был смелый, даже отчаянный. Еще несколько дней назад Даша ни за что бы не поверила, что подобный прожект может прийти ей в голову. Еще и время подстегивало. В Серноводске ждало письмо от Незнамовой. Та писала из Москвы, что соберется в два дня и со всей возможной скоростью поспешит на Кавказ. Сердечные благодарности, выраженные самым искренним и трогательным образом, Дашу не тронули. Она только прикинула: писано седьмого июня; выехала, стало быть, девятого; если будет щедра на почтовых станциях и помчит без остановок, может оказаться в Серноводске уже тридцатого. То есть через неделю. Четыре-пять дней, не более того, оставалось, чтоб залечить синяки и ссадины. А потом – помолиться Всевышнему о ниспослании победы, и на штурм. (Вот когда сказалась отцовская кровь – Даша и сама не заметила, как перешла на военные термины).
Расчет был на два фактора: необузданную страстность мужской природы и никитинское благородство.
Ведь чем объясняется столь долгая верность Олега Львовича той, кого он не видел шестнадцать с половиной лет? Тем, что он ее, чистую девушку, лишил невинности.
Ну так надо сравняться в этом с Незнамовой. И тогда посмотрим, какой долг благородства перевесит – перед проступком давним или совсем свежим? Для кого, спрашивается, утрата невинности существенней – для юной девушки безупречного положения или для перезрелой дамы, у которой так или иначе всё в прошлом? Пусть Незнамова приедет, и Олег Львович просто возьмет и сравнит их обеих. Как бы чудесно ни сохранилась Алина Сергеевна, тридцать четыре года для женщины – почти старость. Уж, верно, Никитин запомнил ее совсем другой.
Даша неотчетливо представляла себе, что такое – пресловутое «лишение невинности». Барышни ее круга обычно узнавали сведения этого рода накануне свадьбы – от маменьки либо, если девушка, как Даша, сирота, от какой-нибудь старшей родственницы.
Но детали Дашу не тревожили. Мужчины сами знают, как и что нужно делать. На то они и мужчины. Никаких сладострастных картин она себе не рисовала. Довольно было вспомнить вкус его пота, вообразить запах волос, и начинала кружиться голова. Ну, они будут обниматься, целоваться, потом, совсем раздетые, лягут на постель, и случится что-то, одновременно страшное и прекрасное, о чем не пишут в романах, но на что всё время намекают.
Чудесное преимущество женщины перед мужчиной заключается в том, что мужчина никогда не откажется, если ты сама предлагаешь ему это. Отчего так, она не знала. О мужской необузданности Даша знала очень мало, лишь понаслышке. Видно, так уж устроено природой. Мужчина всегда этого хочет, и только от женщины зависит, осчастливит она его сим даром или нет.
На четвертый день она сочла себя готовой и решила далее не медлить. Отправила Никитину записку: «Прошу Вас быть ко мне в полночь. Никто не должен об этом знать, никто не должен Вас видеть. Проберитесь в наш сад. Я оставлю дверь на веранду незапертой. Умоляю, приходите! Это ОЧЕНЬ важно».
Что Олег Львович придет, она нисколько не сомневалась. Он – рыцарь, он не сможет не откликнуться на мольбу дамы. Подумает, что она нуждается в срочной помощи. Пускай. Лишь бы пришел, а там уж она знает, что делать.
Прислуга у Даши была приучена без вызова не являться. В саду после темноты никому кроме генеральской дочери, любившей романтический лунный свет, гулять не разрешалось. Единственным препятствием для ночного гостя могла бы стать высокая каменная стена – но только не для Никитина, которому было нипочем с тяжелой ношей вскарабкаться на отвесную скалу.
Итак, Даша была уверена: он придет. И приготовилась со всей продуманностью: мягкое освещение, чтоб распущенные волосы посверкивали золотыми искорками; легкий архалук алого шелка; вышитые татарские туфельки без каблуков – она казалась в них такой миниатюрной, почти эфемерной.
Ровно в двенадцать, едва последний раз звякнули каминные часы, послышался осторожный стук в стеклянную дверь.
Сердце Даши тоже звонко застучало, но не от девической робости, а от упоения. Она чувствовала себя повелительницей мира, владычицей ночи – всё было ей подвластно.
– Дарья Александровна, что случилось? Верно, что-то особенное, коль вы призвали меня в такой час?
Он был в сюртуке, при сабле. Бороду сбрил – какой же офицер с бородой? – и от этого помолодел лет на десять. «У него очень красивые черты, – подумала Даша. – Я и не замечала. Как идет этому лицу выражение тревоги! Но ему идет любое выражение…»
– Да, случилось нечто особенное… Прошу вас, входите и затворите дверь.
Они остановились посередине комнаты – точно там, где Даша наметила. Два канделябра, слева и справа, подсвечивали ее, создавая сияющую ауру.
– Что такое? Вы меня пугаете. Говорите! Я здесь, чтоб помочь вам.
И она сразу, без прелюдий, сказала главное:
– Да, только вы можете меня спасти. Я пропадаю. Хуже, чем в черкесском плену. Я люблю вас. Безумно люблю. Это чувство сжигает меня. Один вы способны затушить этот огонь. Таким же пламенем!
Хоть текст был выучен наизусть, голос все равно дрожал и срывался. Даша закрыла глаза – теперь он, конечно, заключит ее в объятья.
– Вы очень смелы, – медленно произнес Никитин. – Вы необыкновенная девушка. Но…
– Не надо никаких «но»! И не играйте со мной в Онегина. Я знаю, что делаю. Я хочу стать вашей! Сей же час!
Уж, казалось бы, всё сказано. Проговорить это было нелегко. Почему он не делает шага ей навстречу? Зачем заставляет просить? Должно быть, считает ее порыв блажью, в которой она завтра раскается?
– Мне все равно, что будет потом, – продолжила Даша, читая в его взгляде смятение. Кто бы мог вообразить, что эти голубые, всё на свете повидавшие глаза способны быть растерянными? – Олег Львович, я не потеряла голову – она ясна. Вы – вся моя жизнь. Без вас я погасну, как задутая свеча. Не думайте ни о каких преградах, прошу вас. Забудьте обо всем! Ведь вы не монах, а я не статуя. Ну же!
Она протянула к нему обе руки. Господи, ну что еще нужно сделать, чтобы он шагнул к ней?
– Я не монах. И никогда не жил по-монашески. – Руки пришлось опустить – Никитин не тронулся с места. – Ни в прежней жизни, ни в ссылке…
Даша перебила:
– Зачем вы мне это говорите? Зачем вообще говорить? Просто обнимите меня!
– Постойте… Я должен объяснить. Понимаете, есть одна женщина… Я люблю ее. Давно.
Вот оно, началось! В глубине души она знала, что одним любовным признанием и распростертыми объятьями дело не решится. Надо дать ему выговориться.
– Когда-то она повела себя так же смело, как вы сейчас. – Олег Львович говорил медленно. Слова давались ему с трудом. Смотрел он не на Дашу, а в пол. – Но по-настоящему я научился ценить и любить ее только в разлуке. В Сибири женщины полнокровны и смелы, они не боятся чувств… Повторяю, я вовсе не монах. Но однажды я сказал себе: больше не будет никого, пока я вновь с ней не встречусь. А если нам не суждено встретиться, пусть вообще больше никого не будет. Уж этой-то малостью я могу отблагодарить ее за столько лет верности. Я дал себе слово. И я его не нарушу.
Даша слушала – и не верила.
– Вы от меня отказываетесь? – ошеломленно спросила она. – Разве так бывает? Быть может, вы не поняли? Говорю же – я ваша! Совсем ваша.
И она показала вглубь комнаты, где за раздвинутыми портьерами виднелось ложе. Готовясь, она сняла одеяло, решив, что оно неромантично, и щедро опрыскала простыни духами.
– Простите меня. – Он стоял перед нею, всё так же опустив голову. – Простите…
Но Даша еще не исчерпала всего своего арсенала. У нее оставалось тайное, непобедимое оружие. Причина, по которой это средство считалось всемогущим, была ей не вполне ясна. Однако известно: ни один мужчина перед этой силой не устоит.
Оружие называлось «Нагота». Если женщина, отбросив стыд, откроет свою Наготу, с мужчиной происходит что-то невероятное – обнаженное женское тело притягивает его, словно магнит. Конечно, в том случае, когда Нагота прекрасна.
Накануне Даша, раздевшись, долго рассматривала себя в зеркале, сравнивала со статуями богинь из альбома «Сокровища Эллады». Ей-богу, она была нисколько не хуже наяд иль диан.
Решительный, неотразимый аргумент был припасен именно для такого случая – если Олег Львович окажется чересчур щепетилен.
Даша потянула поясок архалука, под которым ничего не было. Скинула легкий шелк, шагнула из туфель и вновь простерла руки.
На, бери меня! Я твоя!
Средство действительно было сильное. Никитин зажмурился, качнулся от Даши так, что чуть не упал.
Бормоча всё то же («Простите меня, простите…»), он кое-как допятился до двери, спиной толкнул ее, вывалился на террасу.
Она кинулась за ним, но замерла на пороге. После освещенной комнаты разглядеть что-либо в саду было невозможно.
Шел мелкий дождик. Качались ветки, блестя влажными листами, – и всё. Олег Львович исчез.
Капитан Иноземцов
У Платона Платоновича была полезная особенность организма: подобно Наполеону Бонапарту, он обходился всего четырьмя часами сна в сутки, причем эту норму мог распределять по частям. Привычка спать урывками в любое время дня и ночи развилась в нем вследствие морской жизни, когда в любой миг жди всякой неожиданности, и просыпаться нужно в секунду, без раскачиваний. Мало ли что: рифы, внезапный шквал, нападение пиратов или, не приведи Господь, бунт в команде. (Последние две крайности, правда, носили скорей гипотетический характер, поскольку в нынешние просвещенные времена морские разбойники встречались только в китайских морях, а команда у Иноземцова бунтовать никак не могла, ибо не с чего.) Однако хороший капитан должен всё предвидеть и быть ко всему готов. Поэтому большую часть своей жизни Платон Платонович проводил в размышлениях о возможных каверзах судьбы и соответствующих контрмерах. Таковы, собственно, все настоящие капитаны (и, шире, все настоящие начальники, которые чувствуют себя за всё в ответе), но Иноземцов считал свою предусмотрительность чертой маниакальной и немного ее стыдился. Иногда он разглядывал себя в зеркале, выискивая признаки иудейского происхождения, ибо известно, что стремление всюду подстелить соломки более всего характерно для этого осторожного племени. Но лицо было обычное, русское. Приходилось объяснять привычку перестраховываться исключительно боязливостью характера. Ах да: Платон Платонович считал себя человеком трусоватым, хоть не имел для этого совершенно никаких оснований, и все, кто его знал, ужасно удивились бы, если б он вдруг разоткровенничался на эту тему. Но откровенничать с кем-либо было не в обычае капитана. Он вообще предпочитал слушать, а не говорить.
Утром 27 июня, чисто выбритый и аккуратно одетый, попыхивая сигарой, Иноземцов сидел у себя и писал наставление старшему помощнику, оставшемуся командовать клипером «Кладенец». Инструкции эт, чрезвычайно подробные и состоявшие из множества пунктов с подпунктами, Платон Платонович отправлял с каждой почтой. Ночью, отоспав свои немногие положенные часы, он лежал и мысленно составлял перечень, а с первым светом зари садился всё записывать. Не то чтоб капитан не доверял своему заместителю (тот был надежней самого точного секстана), но одна голова хорошо, а две лучше. Старпом был еще большей занудой, чем Платон Платонович, и отвечал отчетами вдвое длинней иноземцовских.
Часа два капитан излагал свои соображения относительно того, как и где разместить мастеров с семьями, прибывающих в Севастополь для дальнейшего перемещения в русскую Калифорнию и Аляску. Особенно его заботило присутствие на корабле женщин, к повседневному общению с которыми экипаж клипера непривычен.
Потом Платон Платонович перешел к параграфу еще более экзотическому: о переоборудовании ромового погреба в детскую комнату (ибо ведь где женщины, там, вероятно, и дети?). Вдруг пришло в голову страшное: что если какая-нибудь из жен окажется брюхата и вздумает рожать посреди океана, да еще в шторм? Очень возможная вещь. И капитан приписал подпункт: лекарю Альфреду Карловичу пройти в береговом госпитале курс акушерского знания, которое из его плешивой головы за ненадобностью наверняка давно выветрилось.
Именно в этом трудном месте письма дверь без стука распахнулась. Платон Платонович с удивлением поднял глаза и увидел перед собой своего приятеля Григория Федоровича Мангарова. Тот был не похож на себя: встрепан, небрит, с дико вращающимися глазами.
– Я вызвал Никитина! – выпалил молодой человек. – А вас прошу быть моим секундантом.
Долгая жизнь в море приучила Иноземцова не терять спокойствия ни при каких неожиданностях. Он лишь застегнул крючки на вороте.
Невозмутимо сказал:
– У вас верно горячка. Надобно выпить воды и лечь. По крайней мере сядьте.
Поручик упал на стул.
– Доктор тоже про горячку… И отказал. Но ему я не могу всю правду, он болтлив, а вам расскажу. Вы – могила, я знаю.
– Покорно благодарю. «Могилой» меня еще никто не обзывал.
Это Платон Платонович нарочно пошутил, чтобы немного разрядить обстановку. А за доктора счел необходимым заступиться:
– Напрасно вы о Прохоре Антоновиче. Он любит поговорить, но чужим лишнего не скажет.
– Ну не скажет, так в дневник себе запишет. Он ведь наверняка какой-нибудь дневник ведет! Поклянитесь, что это останется между нами, и я всё вам расскажу.
– Клясться я не умею. Но вы можете быть совершенно покойны.
Иноземцов уже видел, что это никакая не горячка, и всерьез забеспокоился. Он подумал: ежели отказать, этот сумасброд побежит искать секунданта в другом месте.
– Итак, я вас слушаю.
Мангаров оперся локтями на стол, обхватил голову и полупростонал-полувзрыднул:
– Я люблю Дарью Александровну. Всем это известно… Признаюсь вам в тайной нескромности. По ночам я иногда пробираюсь в сад Фигнеров, стою под ее окнами – и если увижу мелькнувшую на шторе тень, то бываю счастлив. Никаких непристойных устремлений у меня никогда не было… Боже, до чего ж я глуп, до чего смешон и жалок! – Он замычал, но скорей не от горя, а от ярости. Это утробный звук еще больше встревожил Иноземцова. – Минувшей ночью, после полуночи, я тоже оказался у ее окон. Я увидел, что она не спит. По временам мне слышался ее голос. Слов я разобрать не мог, но интонации были взволнованные, даже страстные. Я думал, она сама себе читает вслух какой-нибудь роман. Вдруг… – Лицо Григория Федоровича исказилось. – Вдруг дверь, ведущая на террасу, распахнулась. Из спальни мадемуазель Фигнер воровато выскочил какой-то офицер и, пробежав мимо, скрылся в кустах. Я узнал Никитина! Он был у нее ночью! Это ему адресовались ее страстные речи!
– Погодите, погодите. – Капитан твердо взял молодого человека за руку. – Да мало ли что? Госпожа Фигнер могла вызвать к себе Олега Львовича по какому-нибудь неотложному делу. Она чтит его, видит в нем друга и защитника. А вы уж сразу напридумывали! Пошли бы к Никитину и спросили прямо. Уверен, он бы вас успокоил. Не спросясь, вызывать товарища на дуэль – экая дурость!
– Всего, что я увидел, нельзя сказать даже вам. О, если б я мог вырвать себе глаза! – Мангаров судорожно потер веки, словно, в самом деле, желал себя ослепить. – Никаких сомнений быть не может. Они любовники… Я не помню, что делал и где бродил остаток ночи. Кажется, катался по земле. – Он поглядел на свою запачканную черкеску, на продранный локоть. – Не знаю, как я не сошел с ума. А может, и сошел.
– Похоже на то, – заметил Платон Платонович. – Иначе вы не заподозрили бы Олега Львовича в неблаговидности. Право, уж вам ли его не знать?
– О, я наконец его понял! Понял до конца! – Взгляд поручика засверкал ненавистью. – Лучше, чем все вы! Он – сатана! Он воспользовался невинностью Дарьи Александровны, ее искренней благодарностью. Мне ль не знать, как Никитин умеет располагать к себе, пролезать в душу, очаровывать этим своим показным благородством? Старый коварный сатир! Когда настало утро, я бросился к Даше. Я желал предостеречь ее, открыть глаза на этого страшного человека. Что вы думаете? Мне сказали: она уехала, еще ночью. Обесчещенная, опозоренная, опомнилась – и бежала прочь. И я понял: без возмездия такую гнусность оставлять нельзя. Поруганная честь девы и преданная дружба вопиют о мщении!
– Вы не могли бы изъясняться без театральности? – поморщился моряк. – Что это вы в самом деле: «дева», «вопиют»? Так нормальные люди не говорят.
– Пусть я ненормальный! Как я могу быть нормальным, если у меня расплющен мозг и раздавлено сердце?
– Ну вот опять. Вы как вызвали Олега Львовича – устно или письменно? – спросил Платон Платонович, чтобы оценить размеры «пробоины» (этим термином он называл любые беды, где бы они ни случались – на суше или на море).
– Я хотел послать ему письменный картель. Потому что боялся не подобрать слов при личной встрече. Но по дороге от дома Фигнеров встретил его на бульваре. Он, иуда, протянул мне руку! Тут уж я сдержаться не мог. Я влепил ему пощечину и крикнул, что вызываю его стреляться – безотложно, сегодня же! Он что-то говорил мне вслед, но я не слушал. Больше я не произнесу с этим негодяем ни слова! – Мангаров вытер вспотевший лоб. – Ну вот. Теперь вы всё знаете. Согласны быть моим секундантом или мне искать кого-то другого?
«Пробоина на самой ватерлинии, – подумал Иноземцов. – Дело дрянь».
– Вы ударили Олега Львовича по лицу? Ну так считайте, что вы мертвец. Знаете ли вы, что некогда он был вынужден уехать за границу, потому что застрелил на дуэли человека, который его ударил?
– Наплевать! – прошептал Мангаров. – Если я умру, это еще лучше. Нам двоим нет места на земле! И наплевать, если я говорю, как Грушницкий!
– Кто-кто? – переспросил Платон Платонович, у которого круг чтения был весьма обширен, но совершенно не включал беллетристики. – Впрочем, неважно. Хорошо, я согласен. А доктор, верно, не откажется быть секундантом у Никитина.
«Мы с Прохором Антоновичем уж как-нибудь попробуем это уладить», – мысленно присовокупил он. Хотя пощечина на бульваре, конечно, сильно осложняла дело.
У Григория Федоровича всё уже было продумано.
– Вот мои условия. Менять их я не намерен. Разве что в сторону ужесточения. Мы стреляемся непременно сегодня. На пяти шагах, чтоб после не говорили, будто я воспользовался своей известной всем меткостью. А насчет места – доктор его знает. Я не случайно помянул Грушницкого. На той самой скале он дрался с Печориным. Всё, ничего не желаю слышать! – замахал он рукой, видя, что Иноземцов хочет возражать.
Подхватил саблю и выбежал.
В крайнем волнении, которое, однако, было совсем не заметно со стороны, Платон Платонович пошел во флигель к Никитину, но соседа своего не застал. Остался ждать, однако вместо Олега Львовича пришел Кюхенхельфер.
Полное лицо доктора всё дрожало и прыгало. Он получил от Никитина записку с просьбой быть секундантом и пришел отказываться. Во-первых, потому что дуэли противоречат его принципам, а во-вторых, потому что обоим забиякам надобно поставить пиявок и прописать ледяной душ – тогда они, глядишь, вернутся в рассудок.
– У нас с вами нет выбора, – сказал ему Платон Платонович. – Что тут поделаешь, если один хочет стреляться и другой тоже. Да еще пощечина. Как, вы не знали? – Он рассказал о происшествии на бульваре, но о ночном инциденте в саду умолчал, будучи связан словом. – Так что стреляться они будут и без нас. Привозите Олега Львовича в назначенное место. Попробуйте по дороге его смягчить. А я поговорю с Григорием Федоровичем.
Доктор, как человек эмоциональный, немедленно увлекся этой идеей и о прогрессивных принципах позабыл. Он был очень высокого мнения о своем даре убеждения, намеревался растолковать Олегу Львовичу, человеку умному, что поединки – средневековье и варварство. Кстати вспомнил и о том, что у него есть пара отличных дуэльных пистолетов, подарок излеченного ротмистра. Уж секундантствовать так секундантствовать.
Уговорились встретиться в шесть вечера у скалы, дорогу к которой Прохор Антонович не только объяснил, но и нарисовал. Оказалось, что на этом месте придуманной сочинителем Лермонтовым дуэли (доктор объяснил капитану, кто такие Печорин с Грушницким) за последний год произошло несколько настоящих поединков, притом два с печальным результатом.
В отличие от доктора, Иноземцов был невысокого мнения о своем даре убеждения. По пути к месту дуэли он несколько раз попробовал отговорить молодого человека от убийственного намерения, но Григорий Федорович всякий раз пришпоривал коня и вырывался вперед. Верховая посадка у Платона Платоновича была, как у большинства моряков, неважнецкая, стиля «кошка на заборе», лошадка тоже не из рысистых, поэтому угнаться за офицером не получалось. Мангарову же, видно, не терпелось скорее пролить кровь – неважно, чужую или свою. Он сердито оглядывался, просил поторопиться.
Скверное предчувствие, с утра одолевавшее капитана, делалось всё тягостней. Надежда оставалась только на Кюхенхельфера.
Ужасное впечатление произвело на Иноземцова выбранное место. Это была торчащая наподобие одиночного рифа скала, куда пришлось подниматься по крутой дорожке. Наверху оказалась ровная овальная площадка. В самом узком ее участке от края до края было десять или двенадцать футов.
– Они стреляли по жребию, – сказал Мангаров, очевидно, снова имея в виду произведение Лермонтова, – а мы встанем друг напротив друга и будем палить разом, по команде.
Капитан наклонился, посмотрел вниз, на зазубренные камни.
– Это будет не дуэль, а двойное самоубийство.
Полоумный мальчишка на эти слова только улыбнулся.
Через четверть часа на смирном мерине притрусил Прохор Антонович. На скалу он вскарабкался в два приема и долго не мог отдышаться. В одной руке у него был докторский саквояж, в другом – плоский деревянный ящик.
– Получил записку от Олега Львовича, чтобы не ждать его, а ехать прямо сюда, – пояснил Кюхенхельфер и сделал капитану бровями: что, мол, у вас? Уговорили?
Платон Платонович покачал головой. Он чувствовал себя, как в Тихом океане перед надвигающимся ураганом: на тебя несется черная туча, сулящая кораблю погибель, а деваться некуда.
– Заряжайте пистолеты, – велел Мангаров. – Что зря время терять?
Доктор отказался, пролепетав: «Я не умею». Иноземцов сказал, что уметь-то умеет, но не станет. Тогда поручик, чертыхнувшись, сделал это сам.