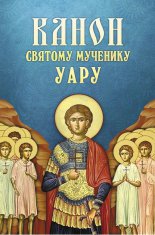Кролик, беги Апдайк Джон
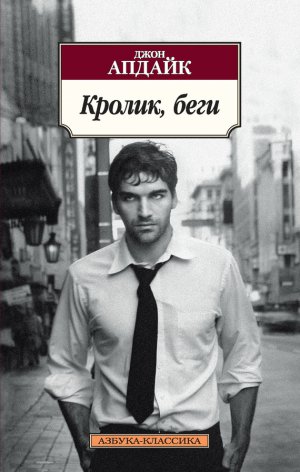
Смеется – кто бы мог подумать? – Маргарет. Кролика от этой девицы прямо-таки оторопь берет.
– Юная леди, вы бросили мне вызов, и теперь я требую вашего внимания. – Тотеро преисполнен важности.
– Чушь, – тихо отвечает Рут, опустив глаза. – Отвяжитесь вы от меня. – Он ее рассердил. Крылья ее носа белеют, грубо накрашенное лицо потемнело.
– Во-первых, голова. Стратегия. Мальчишки большей частью приходят к баскетбольному тренеру с дворовых площадок и не имеют понятия – как бы это получше выразиться – об изяществе игры на площадке с двумя корзинами. Надеюсь, ты меня поддержишь, Гарри?
– Еще бы. Как раз вчера…
– Во-вторых, – я кончу, Гарри, и тогда скажешь ты, – во-вторых, тело. Выработать у мальчиков спортивную форму. Придать их ногам твердость. – Он сжимает в кулак руку на полированном столе. – Твердость. Бегать, бегать, бегать. Пока их ноги стоят на земле, они должны все время бегать. Сколько ни бегай, все будет мало. В-третьих, – большим и указательным пальцами второй руки он смахивает влагу с уголков губ, – в-третьих, сердце. И здесь перед хорошим тренером, каким я, юная леди, безусловно, старался быть и, как утверждает кое-кто, в самом деле был, здесь перед ним открываются самые серьезные возможности. Воспитать у мальчиков волю к совершенству. Я всегда считал, что она важнее воли к победе, ибо совершенство возможно даже в поражении. Заставить их ощутить, да, это слово, пожалуй, подходит, ощутить святость совершенства, понять, что каждый должен дать все, на что способен. – Теперь он позволяет сделать паузу и, поочередно взглядывая на слушателей, заставляет их прикусить языки. – Мальчик, чье сердце сумел облагородить вдохновенный тренер, – заключает он свою речь, – никогда уже – в глубочайшем смысле этого слова, – никогда уже не станет неудачником в более серьезной игре жизни. А теперь очи всех на тебя. Господи, et cetera… – Он поднимает к губам стакан, в котором не осталось почти ничего, кроме кубиков льда. Когда стакан опрокидывается, они со звоном катятся вниз, к его губам.
Обернувшись к Кролику, Рут спокойно, словно желая переменить тему, спрашивает:
– Чем вы занимаетесь?
– Я не уверен, что теперь вообще чем-либо занимаюсь, – смеется он. – Сегодня утром я должен был пойти на работу. Я… это довольно трудно объяснить… я демонстрирую нечто, называемое «чудо-теркой».
– И я уверен, что это получается у него превосходно, – вмешивается Тотеро. – Я уверен, что когда члены совета корпорации «чудо-терок» собираются на свое ежегодное совещание и задают себе вопрос: «Кто более всех способствовал успеху нашего дела среди американской публики?» – имя Гарри Кролика Энгстрома оказывается первым в списке.
– А вы чем занимаетесь? – в свою очередь интересуется Кролик.
– Ничем, – отвечает Рут. – Ничем. – Ее веки сальной голубой занавеской опускаются над бокалом дайкири. На подбородок ложится зеленоватый отсвет жидкости.
Приносят китайские блюда. У Кролика прямо слюнки текут. Он и вправду не пробовал их после Техаса. Он любит эту пищу, в которой не найти следов зарезанных животных – кровавых кусков задней части коровы, жилистого скелета курицы; их призраки мелко изрублены, уничтожены и безболезненно смешаны с неодушевленными овощами, чьи пухлые зеленые тела возбуждают в нем невинный аппетит. Прелесть. Все это лежит на дымящейся грудке риса. Каждый получает такую аккуратную горячую грудку, и Маргарет торопливо перемешивает свою порцию вилкой. Все с удовольствием едят. От овальных тарелок поднимается терпкий запах коричневой свинины, зеленого горошка, цыпленка, густого сладкого соуса, креветок, водяного ореха и невесть чего еще. Лица наливаются здоровым румянцем, разговор оживляется.
– Он был сила, – говорит Кролик про Тотеро. – Он был величайшим тренером округа. Без него я был бы ничто.
– Нет, Гарри, ты не прав. Ты сделал для меня больше, чем я для тебя. Девушки, в первой же игре он набрал двадцать очков.
– Двадцать три, – уточняет Кролик.
– Двадцать три очка! Вы только подумайте! – Девицы продолжают есть. – Гарри, помнишь состязание на первенство штата в Гаррисберге – и шустрого недомерка из Деннистона?
– Да, он был совсем коротышка, – говорит Гарри Рут. – Пять футов два дюйма, уродливый, как обезьяна. И притом подличал.
– Да, но свое дело он знал, – говорит Тотеро, – свое дело он знал. Гарри столкнулся с сильным противником.
– А помните, как он поставил мне подножку?
– Верно, я и забыл, – подтверждает Тотеро.
– Этот коротышка ставит мне подножку, и я лечу кувырком. Если бы стенка не была обита матами, я бы разбился насмерть.
– А что было дальше, Гарри? Ты его отделал? Я совсем забыл про этот случай, – говорит Тотеро с набитым ртом и жаждой мести в груди.
– Да нет, – медленно отвечает Кролик. – Я никогда не нарушал правил. Судья все видел, а так как это было уже в пятый раз, его удалили с поля. И тогда мы их расколошматили.
В лице Тотеро что-то гаснет, оно становится рыхлым и вялым.
– Верно, ты никогда не нарушал правил. Никогда. Гарри всегда был идеалистом.
– Просто не было нужды, – пожимает плечами Кролик.
– И второе удивительное свойство Гарри – с ним никогда ничего не случалось, – сообщает Тотеро девушкам.
– Нет, однажды я растянул запястье, – поправляет Кролик. – Но что мне действительно помогало, как вы сами говорили, так это…
– А что было дальше? Просто ужас, до чего я все забыл.
– Дальше? Дальше был Пенноук. Ничего не было. Они нас побили.
– Они победили? Разве не мы?
– Да нет же, черт возьми. Они здорово играли. У них было пять сильных игроков. А у нас? По правде говоря, только я один. У нас был Гаррисон, он был о'кей, да только после той футбольной травмы он уже больше никогда не оправился.
– Ронни Гаррисон? – спрашивает Рут.
– Вы его знаете? – с тревогой спрашивает Кролик. Гаррисон был знаменитый бабник.
– Я не уверена, – довольно равнодушно отзывается Рут.
– Невысокого роста, курчавый. Чуточку прихрамывает.
– Нет, не знаю, – говорит она. – Пожалуй, нет.
Как ловко она управляется одной рукой с палочками; вторая лежит на коленях ладонью вверх. Он с удовольствием смотрит, как она наклоняет голову, как наивная толстая шея подается вперед, сухожилия на плече напрягаются, губы смыкаются вокруг куска. Палочки точно рассчитанным движением зажимают еду. Просто удивительно, сколько нежности у этих толстух. Маргарет – та, словно лопатой, сгребает еду тусклой изогнутой вилкой.
– Мы проиграли, – повторяет Тотеро, зовет официанта и просит еще раз повторить те же напитки.
– Мне больше не надо, спасибо, – говорит Кролик. – Я уже и так пьян.
– Вы просто большой пай-мальчик, – говорит Маргарет. Она до сих пор не усвоила, как его зовут. Господи, до чего она ему противна.
– О чем я начал говорить и что, по вашим же словам, мне и вправду помогало, так это одна хитрость – держать мяч обеими руками, почти соприкасаясь большими пальцами. Вся штука в том, чтобы держать мяч перед собой, и тогда появляется это славное легкое чувство. Мяч со свистом сам летит вперед. – Он показывает руками, как это делается.
– Ах, Гарри, – грустно замечает Тотеро, – когда ты ко мне пришел, ты уже умел бросать мяч. Я внушил тебе всего лишь волю к победе. Волю к совершенству.
– Знаете, моя лучшая игра была не в тот раз, когда мы набрали сорок очков против Аленвилла, а в предпоследнем классе. Мы в самом начале сезона поехали в дальний конец округа, в маленькую забавную провинциальную школу, там было всего около сотни учеников во всех шести классах. Как она называлась? Что-то птичье… Вы должны помнить.
– Птичье… Нет, – отвечает Тотеро.
– По-моему, это был один-единственный раз, когда мы их включили в программу соревнований. Там был такой смешной малюсенький квадратный спортзал, и зрители сидели на сцене. Какое-то забавное название.
– Птичье, птичье, – повторяет Тотеро. Он озабочен. Он все время потирает ухо.
– Иволга! – вне себя от радости восклицает Кролик. – Средняя школа «Иволга». В Ориоле. Такой маленький разбросанный городишко, дело было в начале спортивного сезона, так что было еще тепло, и на полях торчали копны кукурузы вроде вигвамов. И вся школа пропахла сидром, помню, вы еще насчет этого острили. Вы мне велели не принимать все это близко к сердцу, мы приехали попрактиковаться и вовсе не должны их расколошматить.
– У тебя память лучше, чем у меня, – говорит Тотеро.
Официант возвращается, и Тотеро, не дожидаясь, пока ему подадут, берет стакан прямо с подноса.
– Ну вот, – продолжает Кролик, – мы приходим и начинаем играть, а там эта пятерка фермеров топчется по площадке, и мы с ходу набираем пятнадцать очков, и я ничего не принимаю близко к сердцу. А на сцене сидит всего десятка два зрителей, и игра эта вовсе не зачетная, все это не важно, и у меня появляется такое удивительное чувство, будто я могу все на свете, и мне надо только бегать просто так, пасовать и больше ничего, и вдруг я вижу, понимаете, вижу, что действительно могу все на свете. Во второй половине я делаю всего каких-нибудь десять бросков, и каждый мяч летит прямо в корзину, не то что ударяет в обод, а даже и не задевает, будто я камушки в колодец бросаю. А эта деревенщина носится туда-сюда, они все мокрые, а запасных у них всего только двое, но наша команда не в их лиге, так что им тоже все равно, и единственный судья наклоняется над краем сцены и заговаривает с их тренером. Средняя школа «Иволга». Вот так, а потом их тренер приходит в раздевалку, где переодеваются обе команды, достает из шкафчика кувшин сидра и пускает по кругу. Неужели вы не помните? – Как странно, даже смешно, почему-то они никак не могут понять, что в этом было такого особенного. Он снова принимается за еду. Остальные уже поели и теперь выпивают по второй.
– Да, сэр, Как-вас-там, вы и вправду милый мальчик, – говорит Маргарет.
– Не обращай внимания, Гарри, – замечает Тотеро. – Шлюхи всегда так разговаривают.
Рука Маргарет, оторвавшись от стола, пролетает мимо ее тела и бьет его прямо в зубы.
– Один – ноль, – хладнокровно произносит Рут.
Все происходит так тихо, что китаец, который убирает со стола тарелки, не поднимает головы и явно ничего не слышит.
– Мы уходим, – объявляет Тотеро и пытается встать, но натыкается бедром на край стола, застревает и стоит ссутулясь, как горбун. От удара рот его чуть-чуть скривился, и Кролик отводит глаза от этой двусмысленной болезненной смеси бравады, стыда и, что еще хуже, гордости, скорее тщеславия. С искаженных кривой ухмылкой губ слетают слова:
– Вы идете, дорогая?
– Сукин сын, – отзывается Маргарет; однако ее крепкое, как орешек, тельце выскальзывает из кабинки, и она оглядывается посмотреть, не оставила ли она сигарет или кошелька. – Сукин сын, – повторяет она, и в невозмутимости, с какой она это произносит, есть что-то даже красивое. Вид у них с Тотеро теперь более спокойный, решительный и как бы даже суровый.
Кролик хочет выскочить из-за стола, но Тотеро поспешно кладет ему на плечо руку; твердое прикосновение этой тренерской руки Кролик, сидя на скамейке, частенько ощущал незадолго до того, щепок по спине отправлял его на баскетбольную площадку.
– Нет, нет, Гарри. Оставайся. Не все сразу. Пусть наша грубость тебя не смущает Ты бы не мог дать мне на время машину?
– Что? Мне же без нее никуда не попасть.
– Да, да, ты прав, ты совершенно прав. Прости, пожалуйста.
– Да нет, я хотел сказать, что если она вам нужна… – Ему не хочется одалживать автомобиль, который принадлежит ему лишь наполовину.
Тотеро это понимает.
– Нет, нет. Нелепая идея. Спокойной ночи.
– Обрюзгший старый болван, – говорит ему Маргарет.
Взглянув на нее, Тотеро суетливо опускает глаза. Гарри видит, что она права, Тотеро и вправду обрюзг, лицо его искривилось, как спущенный баллон. Однако этот баллон смотрит на Кролика, словно распираемый какой-то важной мыслью, тяжелой и бесформенной, как вода.
– Куда ты денешься? – спрашивает Тотеро.
– Все будет о'кей. У меня есть деньги. Я возьму номер в гостинице, – отвечает Кролик. Отказав Тотеро, он хочет, чтобы тот поскорее ушел.
– Дверь моей обители открыта, – говорит Тотеро. – Правда, там всего одна койка, но можно сделать матрас…
– Нет, нет, – резко возражает Кролик. – Вы спасли мне жизнь, но я не хочу садиться вам на шею. Все будет хорошо. Я и без того не знаю, как мне вас благодарить.
– Мы еще побеседуем, – обещает Тотеро; рука его дергается и как бы случайно шлепает Маргарет по заду.
– Я готова тебя убить, – говорит ему Маргарет, и они удаляются.
Похожие со спины на отца с дочерью, они минуют стойку, возле которой шепчется с девушкой-американкой официант, и выходят сквозь стеклянную дверь, Маргарет впереди. Словно так и надо, словно они – деревянные фигурки, входящие и выходящие из старинного барометра.
– Господи, в какой же он скверной форме.
– А кто в хорошей? – интересуется Рут.
– Хотя бы вы.
– Вы хотите сказать, что у меня хороший аппетит?
– Послушайте, у вас какой-то комплекс насчет того, что вы такая большая. Вы совсем не толстая. Вы пропорционально сложены.
Она смеется, потом умолкает, смотрит на него, снова смеется, берет его обеими руками за плечо и говорит:
– Кролик, вы истинно христианский джентльмен.
От того, что она назвала его по имени, его обдает волнующим теплом.
– За что она его ударила? – спрашивает он и хихикает, боясь, что ее руки, лежащие у него на плече, игриво ткнут его в бок. Ее крепкая хватка не исключает такой возможности.
– Ей нравится бить людей. Однажды она ударила меня.
– Наверняка вы сами напросились.
Она убирает руки и кладет их обратно на стол.
– Так ведь и он напросился. Ему нравится, когда его бьют.
– Вы его знаете?
– Она мне про него рассказывала.
– Это еще не значит, что вы его знаете. Эта девка глупа.
– Что верно, то верно. Вы даже и представить себе не можете, до чего она глупа.
– Еще как могу. Я женат на ее двойняшке.
– Уу-у! Женат.
– Слушайте, что вы там говорили насчет Ронни Гаррисона? Вы его знаете?
– А что вы там говорили насчет того, что вы женаты?
– Да, я был женат. И до сих пор женат.
Он жалеет, что заговорил об этом. Огромный пузырь, сознание чудовищности его положения теснит ему сердце. Так бывало в детстве, когда, субботним вечером возвращаясь домой, он вдруг осознавал, что все кругом – деревья, мостовая – все это жизнь, единственная, неповторимая действительность.
– Где она?
Этого еще не хватало – попробуй-ка ответить на вопрос: куда могла пойти Дженис?
– Она, наверно, у своих родителей. Я только вчера ее бросил.
– А, так это просто отпуск. Вы ее не бросили.
– Да нет, пожалуй, бросил.
Официант приносит им блюдо кунжутных пирожных. Кролик на пробу берет одну штуку, он думает, что они твердые, и с удовольствием ощущает, как сквозь тонкую оболочку семян проступает мягкое тягучее желе.
– Ушли совсем ваши друзья? – спрашивает официант.
– Не беспокойтесь. Я заплачу, – отвечает Кролик.
Китаец поднимает свои вдавленные брови, морщит в улыбке губы и уходит.
– Вы богатый? – интересуется Рут.
– Нет, бедный.
– Вы и вправду собираетесь ночевать в гостинице?
Оба берут по нескольку пирожных. На блюде их штук двадцать.
– Да. Сейчас я расскажу вам про Дженис. Я не собирался ее бросать до той самой минуты, когда я от нее ушел. Мне вдруг стало ясно, что иначе и быть не может. В ней пять футов шесть дюймов, она смуглая…
– Не желаю про нее слушать. – Голос Рут звучит решительно; когда она, закинув голову, вглядывается в светильники на потолке, ее разноцветные волосы приобретают однородный темный оттенок. Волосам свет льстит больше, чем лицу, – на обращенной к Гарри стороне ее носа из-под пудры проступают какие-то пятна или прыщи.
– Не желаете, – говорит Кролик. Пузырь скатывается с груди. Раз это никого не беспокоит, почему это должно беспокоить его? – О'кей. О чем мы будем говорить? Сколько вы весите?
– Сто пятьдесят.
– Да вы же просто крошка. Второй полусредний вес. Кроме шуток. Кому нужна кожа да кости? Каждому фунту вашего веса просто цены нет.
Он болтает просто так, от радости, но что-то в его словах заставляет ее насторожиться.
– Уж очень вы умный, – замечает она, поднимая к глазам пустой бокал. Это плоская вазочка на коротенькой ножке вроде тех, в каких подают мороженое на пижонских вечеринках по случаю дня рождения. Бледные дуги отраженного света проплывают по ее лицу.
– Про свой вес вы тоже не желаете говорить. Гм. – Отправив в рот еще одно пирожное, он ждет, чтобы прошло первое ощущение острого вкуса желе. – Ладно, переменим пластинку. Что вам требуется, миссис Америка, так это «чудо-терка». Сохраняет витамины. Снимает излишек жиров. Один поворот пластмассового винта – и вы можете натереть морковь или наточить карандаши вашего супруга. Годится на все случаи жизни.
– Бросьте. Бросьте дурака валять.
– Ладно.
– Поговорим о чем-нибудь приятном.
– Ладно. Начинайте вы.
Она откусывает пирожное и смотрит на него, улыбаясь полным ртом и потешно опустив уголки туго надутых губ; когда она жует, на лице ее изображается безмерное удовольствие. Наконец она глотает, широко раскрывает круглые голубые глаза, коротко вздыхает, хочет что-то сказать, но вместо этого смеется прямо ему в лицо.
– Обождите, – говорит она, – сейчас. – Затем заглядывает в свой бокал, сосредоточенно думает, но все, на что она способна, – это заявить: – Не надо жить в гостинице.
– Придется. Скажите, какая лучше.
Интуиция подсказывает ему, что она много чего знает про гостиницы. Там, где ее шея незаметно переходит в плечо, белеет мелкая ложбинка, в которую, свернувшись клубочком, ложится его внимательный взгляд.
– Они все дорогие, – говорит она. – Все дорого. Даже моя маленькая квартирка и та дорогая.
– Где ваша квартира?
– Тут неподалеку. На Летней. Второй этаж, над кабинетом врача.
– Вы там одна живете?
– Да. Моя подруга вышла замуж.
– Как же вы платите за квартиру, если нигде не работаете?
– Что вы хотите этим сказать?
– Ровно ничего. Вы же сами говорили, что нигде не работаете. Какая плата?
Рут смотрит на него с тем настороженным любопытством, которое он заметил с самого начала, еще возле счетчиков на автостоянке.
– За квартиру, – поясняет он.
– Сто десять в месяц. Не считая света и газа.
– И вы нигде не работаете.
Она смотрит в бокал и раскачивает его обеими руками, от чего отраженный свет пробегает по краю стекла.
– О чем вы думаете? – спрашивает Кролик.
– Просто удивляюсь.
– Чему?
– Какой вы умный.
Не поворачивая головы, он чувствует дуновение легкого ветерка. Ага, вот куда она клонит, а он еще сомневался.
– Ну так вот что я вам скажу. Почему бы мне не помочь вам уплатить за квартиру?
– С какой стати?
– По доброте сердечной, – отвечает он. – Десятку?
– Мне нужно пятнадцать.
– За свет и газ. О'кей, о'кей.
Ему не совсем ясно, что делать дальше. Они сидят и смотрят на пустое блюдо, где лежала пирамидка кунжутных пирожных, – они их все съели. Появившийся официант удивленно переводит глаза с блюда на Кролика, с Кролика на Рут – все это в течение секунды. Он подает им чек на 9.60. Кролик кладет на чек десятку и доллар, а рядом еще десятку и пятерку. Он подсчитывает, что остается в бумажнике: три десятки и четыре доллара. Когда он поднимает голову, деньги Рут уже исчезли с полированного стола. Он встает, берет ее мягкое пальтишко, подает ей, и, словно большая зеленая рыба, его добыча тяжело поднимается, выходит из кабинки и безучастно позволяет надеть на себя пальто. По десять центов фунт, подсчитывает он.
И это сверх ресторанного счета. Подойдя со счетом к стойке, он протягивает девушке десятку. Она хмуро отсчитывает сдачу; жуткая пустота ее глаз аккуратно обведена тушью. Простое лиловое кимоно никак не вяжется с пружинистым перманентом и нарумяненным испитым лицом, с типично американской кислой миной. Когда она кладет монеты на розовое блюдце для сдачи, он отмахивается от кучки серебра и, добавив еще доллар, показывает на молодого китайца, который торчит возле девушки, не спуская с них глаз.
– Пасиба, сэр. Бальшое пасиба, – говорит он Кролику. Однако его благодарности не хватает даже на то время, в течение которого они успевают скрыться из виду. Когда они направляются к стеклянной двери, он поворачивается к кассирше и тонким голосом с безупречным произношением и интонациями продолжает свой рассказ: «…и тогда тот второй парень ему говорит…»
Вместе с этой самой Рут Кролик выходит на улицу. Справа, в сторону от горы Джадж, сияет центр города – путаница огней, обведенные неоном контуры: башмак, земляной орех, цилиндр, реклама пива «Подсолнечник» – зеленый неоновый стебель высотой с шестиэтажное здание и желтая, как вторая луна, сердцевина цветка. Кварталом ниже слышатся торопливые монотонные удары колокола, шлагбаум на железнодорожном переезде – два длинных ножа с красными кончиками, – опускаясь, врезается в мягкую массу неона, и движение, постепенно замедляясь, останавливается.
Рут сворачивает налево, в тень горы. Кролик следует за ней; они идут вверх по гулкой мостовой. Покрытый асфальтом склон – точно погребенный голос, нежданное эхо земли, которая была здесь задолго до города. Мостовая кажется Кролику тенью едко-прозрачного дайкири; ему весело, и он подпрыгивает, чтобы попасть в ногу со своей дамой. Ее глаза обращены к небу, в котором яркое созвездие гостиницы «Бельведер» смешивается со звездами над горой Джадж. Они шагают молча, а позади с пыхтением и скрежетом ползет через переезд товарный состав.
Ага, вот в чем дело – сейчас он ей явно не нравится, совсем как той шлюхе в Техасе.
– Слушайте, вы хоть раз поднимались на вершину? – спрашивает он.
– Ну да. В автомобиле.
– Когда я был маленький, – говорит он, – мы часто ходили наверх, только с другой стороны. Там такой густой мрачный лес, и однажды я натолкнулся на развалины старого дома – просто дыра в земле да несколько камней; наверняка ферма какого-нибудь пионера.
– Я была наверху только раз, ездила на машине с одним нахальным типом.
– С чем вас и поздравляю, – отзывается он, раздосадованный той жалостью к самой себе, которая таится под ее резким лицом.
Чувствуя, что он это понял, она огрызается:
– На что он мне сдался, этот ваш пионер?
– Не знаю. Пригодится. Вы ведь американка.
– Подумаешь! С таким же успехом я могла бы родиться мексиканкой.
– Ну нет, для этого надо быть поменьше ростом.
– Знаете, вы просто свинья.
– Брось, детка, – отвечает он, обнимая ее широкую талию. – По-моему, я довольно чистоплотный.
– Как бы не так.
С Уайзер-стрит она сворачивает налево и отстраняет его руку. Теперь они на Летней улице. Кирпичные фасады сливаются в один сплошной темный фасад. Номера домов вставлены в полукруглые цветные оконца над входными дверями. В зеленовато-оранжевом свете маленькой бакалейной лавки видны силуэты болтающихся на углу мальчишек. Супермаркеты вытесняют эти мелкие лавчонки, заставляют торговать до поздней ночи.
Обняв ее, он просит:
– Ну, хватит. Будь паинькой.
Он хочет показать ей, что грубыми речами его не оттолкнешь. Она хочет, чтобы он довольствовался только ее тяжелым телом, тогда как он хочет, чтобы женщина принадлежала ему целиком, легкая, как перышко. К его удивлению, она, повторяя движение его руки, тоже обнимает его за талию. Идти в таком положении неудобно, и у светофора они разъединяются.
– По-моему, в ресторане я тебе понравился. Я ведь старался угодить Тотеро, говорил ему, какой он был замечательный.
– По-моему, ты говорил только о том, какой замечательный был ты.
– А я и был замечательный. Факт. Теперь-то я почти ни на что не годен, а раньше я и вправду здорово играл.
– А знаешь, что я здорово делала?
– Что?
– Стряпала.
– Это как раз то, чего не умеет моя жена. Бедняжка.
– Помнишь, в воскресной школе нам вечно талдычили, что Господь Бог наделил каждого каким-нибудь талантом. Так вот, мой талант – это стряпня. Я мечтала стать замечательной стряпухой.
– Ну и что, стала?
– Не знаю. Я ведь редко обедаю дома.
– Почему?
– В нашем деле иначе нельзя, – отвечает она, и он умолкает. Он не думал о ней так грубо. Ему становится страшно. Если так, то ее любовь сулит слишком уж много.
– Ну вот я и пришла, – говорит она.
Ее дом кирпичный, как и все остальные на западной стороне улицы. Через дорогу, словно серая штора под фонарем, высится большая, выстроенная из известняка церковь. Они входят в подъезд под цветным оконцем. В вестибюле – ряд звонков под медными почтовыми ящиками, лакированная подставка для зонтов, резиновый коврик на мраморном полу и две двери: справа с матовым стеклом, прямо – с небьющимся проволочным стеклом, сквозь которое видна лестница, покрытая резиновыми дорожками. Рут вставляет в эту дверь ключ, а Кролик читает на второй двери позолоченную надпись: «Д-р Ф.-Кс.Пеллигрини».
– Старая лиса, – замечает Рут и ведет его по лестнице наверх.
Она живет этажом выше. Ее дверь в дальнем конце покрытого линолеумом коридора, ближе к улице. Пока Рут скребет ключом в замке, он стоит у нее за спиной. В холодном свете уличного фонаря, проникающем сквозь четыре неровных стекла в окне, возле которого он стоит, – эти синие стекла на вид такие тонкие, что кажется, стоит к ним прикоснуться, как они тотчас же лопнут, – его неожиданно охватывает дрожь: сперва начинают дрожать ноги, потом кожа на боках. Наконец ключ поворачивается в замке, и дверь открывается.
Войдя в квартиру. Рут тянется к выключателю; Кролик, оттолкнув руку, поворачивает ее к себе и целует. Это какое-то безумие; он хочет ее раздавить; моторчик у него под ребрами удваивает и учетверяет это желание – давить, давить что есть силы; это не любовь, что взглядом скользит по коже, ни своей, ни ее кожи он не ощущает, ему хочется только вдавить ее сердце в свое, чтобы раз и навсегда ее утешить. Она вся сжимается. Податливая влажная подушечка губ, охотно принявших его поцелуй, твердеет и высыхает, и как только Рут удается откинуть голову и высвободить руку, она отталкивает ладонью его подбородок, словно желая выбросить его череп обратно в коридор. Пальцы ее скрючиваются, и длинный ноготь впивается в нежную кожу у него под глазом. Он отпускает ее. Чудом уцелевший глаз косит, шея начинает ныть.
– Убирайся, – говорит она. В свете, падающем из коридора, ее пухлое помятое лицо кажется уродливым.
– Перестань, – говорит он. – Я же хотел тебя приласкать.
В темноте он видит, что ей страшно; он чует этот страх в изгибе ее крупного тела, как язык чует кровь в полости из-под вырванного зуба. Самый воздух как бы велит ему стоять недвижимо; его душит беспричинный смех. Ее страх и его внутренняя уверенность очень уж не вяжутся друг с другом – он-то ведь знает, что не причинит ей вреда.
– Приласкать? – говорит она. – Скорее задушить.
– Я так любил тебя весь вечер, – продолжает он. – Мне надо было вытеснить эту любовь из своего организма.
– Знаю я ваши организмы. Пшик – и все.
– Со мной так не будет, – обещает он.
– Пусть лучше будет. Я хочу, чтоб ты поскорее отсюда убрался.
– Неправда.