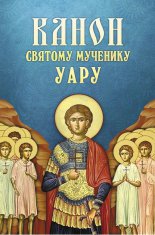Кролик, беги Апдайк Джон
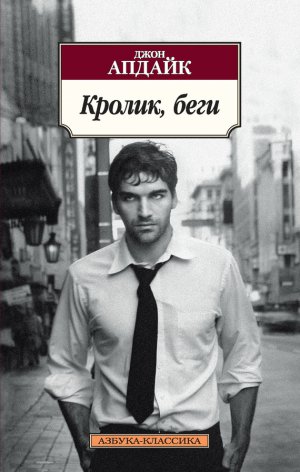
– Я хотел взять бараньи отбивные, но у него были только сосиски, салями и тушенка в банках.
Пока она готовит завтрак, он слоняется по гостиной и находит на полке журнального столика несколько детективов. В Форт-Худе его сосед по койке беспрерывно их читал. Рут открыла окно, и прохладный мартовский воздух при воспоминании о знойном Техасе кажется еще холоднее. Пыльные, в горошек занавески трепещут, кисея полнится ветром, выгибаясь в сторону Кролика, который стоит, парализованный другим, более приятным воспоминанием: детство, он дома, вечерний ветерок задувает в окно и треплет воскресные газеты, на кухне гремит посудой мать, скоро она освободится и поведет их всех – папу, его и малютку Мириам – на прогулку. Мим еще совсем маленькая, и поэтому они пройдут совсем немного, всего несколько кварталов, возможно, до старого гравийного карьера, где зимний лед растаял озерцом в несколько дюймов глубиной. Отражаясь в воде, каменистый берег кажется вдвое выше, чем на самом деле. Но это всего лишь вода; они проходят еще несколько шагов по краю обрыва, и под новым углом зрения пруд отражает солнце, иллюзия перевернутых камней исчезает, и водная гладь кажется твердой, как лед на свету. Кролик крепко держит за руку маленькую Мим.
– Слушай, – кричит он Рут. – У меня колоссальная идея. Давай пойдем гулять.
– Гулять? Я и так все время гуляю.
– Дойдем до вершины Джаджа.
Он не припомнит, чтобы ему приходилось подниматься на гору со стороны Бруэра; и когда он, предвкушая удовольствие, в восторге отворачивается от надутой ветром занавески, раздается звон больших церковных колоколов.
– Пойдем! Пожалуйста! Пойдем! – кричит он в кухню.
Из церкви выходят люди, рассеянно держа в руках зеленые ветки.
Рут подает завтрак, и он видит, что она стряпает лучше, чем Дженис, – ухитрилась подогреть сосиски так, что они не лопнули. У Дженис они всегда подавались на стол изорванные и перекрученные, словно их пытали. Они с Рут едят за маленьким белым столиком на кухне. Прикоснувшись вилкой к тарелке, он вспоминает, какое холодное было лицо у Дженис в приснившемся ему сне, когда оно, растаяв, текло ему в ладони; воспоминание портит ему аппетит, и первый кусок от ужаса не лезет в горло.
– Колоссально, – говорит он, однако, но все же храбро берется за еду и постепенно вновь обретает аппетит.
Гладкая поверхность стола бросает бледный отсвет на лицо сидящей напротив Рут, кожа на широком лбу блестит, а два прыщика возле носа напоминают пятнышки пролитой жидкости. Она чувствует, что стала непривлекательной, и торопливо, как бы украдкой, отщипывает кусочками еду.
– Послушай.
– Что?
– Моя машина все еще стоит там на Вишневой.
– Ну и пусть. По воскресеньям счетчики не работают.
– Да, но завтра они будут работать.
– Продай ее.
– Что?
– Продай машину. Жизнь станет проще. Сразу разбогатеешь.
– Да нет, не в этом дело. Может, тебе нужны деньги? Знаешь, у меня осталось тридцать долларов. Хочешь, я сейчас их тебе отдам? – Он тянется к карману брюк.
– Нет, нет, что ты. Я совсем не то имела в виду. Я вообще ничего не имела в виду. Просто так ляпнула. – Она смутилась, шея пошла пятнами, и ему становится ее жалко – ведь вчера она казалась такой хорошенькой.
– Понимаешь, мой тесть торгует подержанными машинами, и, когда мы поженились, он продал нам эту машину с большой скидкой, – объясняет он. – Машина, в сущности, принадлежит жене, а поскольку малыш остается с ней, я думаю, что и машина тоже должна быть у нее. И потом, ты сама сказала, что у меня грязная рубашка, и мне надо взять кое-что из одежды. Вот я и подумал, что после завтрака съезжу домой, оставлю там машину и заберу свои вещи.
– А вдруг она там?
– Ее там нет. Она у своей матери.
– По-моему, ты очень обрадуешься, если она окажется дома, – говорит Рут.
Может, и правда? Он представляет себе, как открывает дверь и видит, что Дженис, сидя в кресле, смотрит телевизор; возле нее пустой стакан. И словно внутри у него что-то оборвалось, словно застрявший в горле кусок наконец проглочен, он чувствует огромное облегчение от того, что лицо у нее такое же тупое и упрямое, как всегда.
– Нет, – говорит он. – Ничуть не обрадуюсь. Я ее боюсь.
– Еще бы, – замечает Рут.
– В ней есть что-то такое, – настаивает он. – Она опасный человек.
– Эта несчастная, которую ты бросил? Ты сам опасный человек.
– Нет.
– Ах, ну да. Ты воображаешь, что ты кролик. – Слова звучат насмешливо и раздраженно – непонятно почему. – Интересно, что ты собираешься делать со своими вещами? – спрашивает она.
Так вот оно что – она чувствует, что он хочет у нее поселиться.
– Принести их сюда, – признается он.
Она переводит дух, словно хочет что-то сказать, но молчит.
– Только на сегодня, – просительно говорит он. – Ты ведь никуда не пойдешь?
– Может быть… Не знаю. Наверно, нет.
– Прекрасно. Знаешь, я тебя люблю.
Она встает, чтобы убрать посуду, останавливается и глядит на середину белого стола. Медленно покачав годовой, она отвечает:
– Ты – сюрприз неприятный.
Ее широкий таз, обтянутый пупырчатой коричневой юбкой, тяжел и симметричен, как основание мощной колонны. Эта массивная колонна наполняет его сердце восхитительным ощущением вновь пробудившейся любви, однако посмотреть Рут в лицо он не смеет.
– Ничего не поделаешь, – говорит он. – Зато ты – приятный сюрприз.
Он съедает три куска пирога от «Матушки Швейцер», и крошка, застрявшая в уголке его рта, остается на свитере Рут, когда он, прощаясь, целует ее на кухне. Он оставляет ее с грязной посудой. Его машина ждет его на Вишневой улице в прохладном воздухе полудня. При виде ее у него возникает такое чувство, словно одну из комнат его дома прибило течением к краю тротуара, а когда ночной прилив отступил, она в целости и сохранности осталась стоять на песке и теперь загадочно поблескивает, готовая с первым же поворотом ключа отправиться в новое плавание. Тело его под измятой и грязной одеждой кажется чистым, тонким и звонким. Его любят. От машины исходит успокоительный запах резины, пыли и разогретого солнцем окрашенного металла. Она – ножны, а он – нож. Он разрезает оглушенный воскресеньем город – мягкие ряды кирпичных домов, обнесенные перилами безмятежные деревянные веранды. Он объезжает большой бок горы Джадж, ее склон вдоль шоссе припудрен желтовато-зеленой молодой листвой, еще выше вечнозеленые деревья черной линией обводят горизонт. С тех пор, как он последний раз был здесь, пейзаж изменился. Вчера утром небо распирали тонкие полосы предрассветных облаков, а он, измученный усталостью, направлялся в самый центр сети, где, казалось, только и можно отдохнуть. Теперь полдень нового дня сжег облака, небо в ветровом стекле стало пустым и холодным, а впереди нет ничего, ничего, как в голубых глазах Рут; она сказала ему, что ничего не делает, ни во что не верит. Сердце вечно рвется в это пустое небо.
Стоит ему спуститься к знакомым домам Маунт-Джаджа, как его душевное равновесие рассыпается в прах. Он оглядывается, нервничает. Поднимаясь вверх по Джексон-, Поттер– и Уилбер-стрит, он пытается по внешним признакам определить, есть ли кто-нибудь в его квартире. И по свету ничего не угадаешь – день стоит в зените. Перед домом нет никакой машины. Он дважды объезжает квартал и, напрягая шею, пытается разглядеть в окне чье-нибудь лицо. Высокие стекла непроницаемы. Рут была неправа – он вовсе не хочет видеть Дженис.
Даже мысль о такой возможности настолько лишает его сил, что, когда он выходит из машины, яркое солнце чуть не сбивает его с ног. Он поднимается по лестнице, и ступеньки, словно зубцы бегущей в обратную сторону шестерни, тянут вниз обессилившее от страха тело. Готовый обратиться в бегство, он стучит в дверь. На стук никто не отзывается. Он снова стучит, прислушивается и вынимает из кармана ключ.
Квартира пуста, но до сих пор так полна Дженис, что его бросает в дрожь; при виде повернутого к телевизору кресла у него подгибаются колени. От разбросанных по полу ломаных игрушек Нельсона мутится в голове; все содержимое черепа – серое вещество, слуховой и зрительный аппарат – беспорядочно теснится в трубке, какой представляется ему он сам; лобные пазухи забиты, хочется не то чихнуть, не то заплакать. Гостиная насквозь пропылена. Шторы опущены. Дженис днем их всегда опускает, чтобы на экран телевизора не падал свет. Кто-то пытался навести порядок – ее пепельница и пустой бокал убраны. Кролик кладет ключ от квартиры и ключи от машины на телевизор – металлическую коробку, выкрашенную коричневой краской под дерево. Когда он открывает стенной шкаф, ручка дверцы задевает угол телевизора. Нескольких платьев Дженис не хватает.
Вместо того чтобы достать одежду, Кролик поворачивается и плетется в кухню, стараясь разобраться в своих поступках. Сочащийся сквозь шторы солнечный свет падает на просевшую кровать. У них никогда не было хорошей кровати. Эту подарили им родители Дженис. На комоде – ее флакончики, маникюрные ножницы, белая катушка с иголкой, латунные заколки, телефонная книга, будильник со светящимся циферблатом, вырванный из журнала рецепт, которым она ни разу не воспользовалась, ожерелье из яванских резных деревянных бусин – его подарок к Рождеству. К стенке прислонено большое овальное зеркало, которое они взяли, когда ее родители оборудовали себе новую ванную комнату; он все хотел прикрепить его над комодом Дженис, да так и не собрался купить шурупы. На подоконнике стакан, до половины наполненный затхлой пузыристой водой, отбрасывает блеклый солнечный зайчик на пустое место, куда нужно было повесить зеркало. Тут же на стене три длинные параллельные царапины. Чем это? Когда? Из-за застланной постели виднеется белый треугольник пола ванной; Дженис после душа, ее спина розовеет от пара, она радостно тянется к нему с поцелуем, под мышками слипшиеся мокрые волосы. Что за непрошеная радость обуяла ее, а потом и его?
В кухне забытые на сковородке холодные, как смерть, свиные отбивные покоятся в застывшем жире. Сбросив их в бумажный мешок под раковину, он лопаточкой счищает куски пятнистого твердого жира и отправляет их туда же. Мешок, в темно-коричневых пятнах снизу, издает сладкий запах тления. Он тупо смотрит на него. Мусорный ящик внизу, за домом, но он не хочет лишний раз маячить тут. Нечего и думать об этом. Он открывает горячий кран и ставит сковородку в раковину, чтобы ее размочить. Дыхание пара, словно шепот в гробнице.
Объятый страхом, он торопливо берет чистые трусы, майки и носки из одного ящика, три рубашки в затянутой целлофаном голубой картонке из другого, выстиранные коричневые бумажные брюки из третьего, вынимает из стенного шкафа оба костюма, спортивную рубашку и завертывает мелкие вещи в костюмы, чтобы удобнее было нести. От этой работы он прямо вспотел. Зажав сверток между руками и согнутой в колене ногой, он еще раз оглядывает квартиру; мебель, ковры, обои – все, как и его лицо, словно подернуто густою темной пеленой; в комнатах царит беспорядок, и он рад уйти отсюда. Дверь безвозвратно захлопывается. Его ключ остался внутри.
Зубная щетка. Бритва. Запонки. Башмаки. С каждым шагом вниз по лестнице он вспоминает еще какую-нибудь забытую вещь. Он торопится, ноги стучат. Подпрыгнув, чуть не задевает голую лампочку на черном шнуре в вестибюле. Когда он проносится через вестибюль, ему чудится, будто его имя на почтовом ящике зовет его к себе, выведенные синими чернилами буквы немым криком наполняют воздух. Он выскальзывает на солнце и кажется самому себе смешным – ни дать ни взять один из тех таинственных воров, о которых пишут на последних страницах газет, – вместо денег и серебра они уносят фарфоровую полоскательницу, двадцать рулонов обоев и кучу старого тряпья.
– Добрый день, мистер Энгстром.
Это их соседка, мисс Арндт, она в лиловой шляпе для церкви, в руках зажата зеленая ветка.
– А, хелло. Как здоровье?
Она живет через три дома от них, говорят, у нее рак.
– Великолепно, – отзывается она, – просто великолепно.
И стоит на солнце, ошалев от великолепия, на плоских ступнях, инстинктивно кренясь на идущей под уклон мостовой. Мимо подозрительно медленно проезжает зеленая машина. Мисс Арндт загораживает ему дорогу, она приятно смущена, преисполнена благодарности неизвестно за что, наверно, просто за то, что держится на мостовой, словно муха, которая ползла по потолку и остановилась подивиться на самое себя.
– Прекрасная погода, – замечает Кролик.
– Ах, я просто в восторге, просто в восторге. Вербное воскресенье всегда такое голубое. Даже кровь быстрей бежит по жилам, – смеется она.
Кролик тоже смеется. Она словно приросла к горячему асфальту в узорчатой тени двух молодых кленов. Она ничего не знает, это совершенно ясно.
– Да, а я вот решил подумать о весенней чистке, – поясняет он, видя, что она уставилась на его руки, и для наглядности встряхивает сверток.
– Прекрасно, – с неожиданно саркастической ухмылкой отзывается мисс Арндт. – Молодые мужья вечно мчатся закусив удила. – И, повернувшись кругом, восклицает: – Ой, священник!
Зеленая машина еще медленнее прежнего возвращается обратно посередине улицы. В тревоге, которая удваивает вес узла с одеждой. Кролик видит, что попался. Он скатывается с крыльца, пробегает мимо мисс Арндт и в ответ на ее глубокомысленное замечание: «Нет, это не преподобный Круппенбах», – говорит: «Мне пора».
Нет, конечно, это не Круппенбах. Кролик знает, кто это, хотя и не знает, как его зовут. Священник епископальной церкви. Спрингеры ходят в епископальную церковь – еще одна уловка, с помощью которой старый подонок пытается пролезть в высшее общество; раньше они принадлежали к реформатской церкви. Кролик не то чтобы бежит; идущий под уклон тротуар на каждом шагу хватает его за пятки. Сверток заслоняет асфальт. Хотя бы до переулка добраться. Единственная надежда, что священник его не узнает. Он чувствует, что зеленая машина ползет за ним; может, бросить вещи и на самом деле дать деру? Хорошо бы спрятаться на старой фабрике искусственного льда. Но до нее еще целый квартал. Рут, наверно, уже вымыла посуду и ждет его по ту сторону горы. Синева за синевой под синевой.
Подобно акуле, беззвучно рассекающей перед собою воду, зеленое крыло машины поднимает в воздух зыбь, которая ударяет Кролика сзади под коленки. Чем быстрее он шагает, тем сильнее зыбь ударяется в него. Позади тонкий детский голосок гнусавит:
– Простите, вы не Гарри Энгстром?
Чувствуя, как слабеет желание соврать. Кролик оборачивается и полушепотом отвечает:
– Да.
Молодой блондин с какими-то белыми путами на шее сворачивает к левому тротуару, вытягивает ручной тормоз, глушит мотор и, таким образом, ставит машину не на той стороне улицы и к тому же под косым углом. Забавно, как эти священники игнорируют мелкие правила. Кролик вспоминает, как сын Круппенбаха носился по городу на мотоцикле. Это всегда казалось ему богохульством.
– Я Джек Экклз, – говорит священник, совершенно некстати хихикнув. В сочетании с белым воротником приклеенная к губам белая полоска незажженной сигареты производит комический эффект. Он вылезает из автомобиля, оливково-зеленого четырехдверного «бьюика» образца пятьдесят восьмого года, и протягивает Кролику руку. Чтобы пожать ее, тому приходится положить узел с одеждой на газон между мостовой и тротуаром.
Рукопожатие Экклза, энергичное, отработанное и крепкое, очевидно, должно символизировать объятие. На мгновение Кролику кажется, что он его уже никогда не выпустит. Он чувствует, что попался; предвидит объяснения, смущенные недомолвки, мольбы, примирения – все это встает перед ним, как сырые унылые стены; от отчаяния по коже пробегают мурашки. В его преследователе чувствуется упорство.
Священник одних лет с ним, может быть, чуть-чуть постарше, но намного ниже ростом. Однако он не тщедушен; под черным пиджаком играет явно бесполезная мускулатура. Он чем-то раздосадован и стоит слегка выпятив грудь. Длинные рыжеватые брови образуют озабоченную морщинку над переносицей, под ртом торчит маленький, бледный, острый, как шишка, подбородок. Несмотря на сердитый вид, в нем чувствуется что-то дружелюбное и глуповатое.
– Куда вы идете? – спрашивает он.
– Что? Никуда.
Кролика сбивает с толку костюм этого типа. Костюм только притворяется черным, на самом деле он темно-синий, скромный, но элегантный, из облегченной ткани. Манишка, слюнявчик, или как там эта штука называется, напротив, черна, как печка. Экклз хочет улыбнуться, но, стараясь удержать в губах сигарету, вместо этого фыркает. Он хлопает себя по пиджаку.
– У вас случайно нет спички?
– К сожалению, нет. Я бросил курить.
– Значит, вы добродетельнее меня. – Задумавшись, он смотрит на Гарри, испуганно подняв брови. От напряжения его серые глаза становятся круглыми и бледными, как стекло. – Хотите, я вас подвезу?
– Нет, черт возьми. Не беспокойтесь.
– Я хотел бы с вами побеседовать.
– В самом деле?
– Серьезно. Даже очень.
– Ладно. – Кролик подбирает с земли свою одежду, обходит «бьюик» спереди и садится. Внутри стоит острый сладковатый запах пластика – запах новой машины; глубоко вдохнув его, Кролик немного успокаивается. – Это насчет Дженис?
Экклз кивает и, повернув голову и глядя в заднее стекло, отъезжает от тротуара. Его верхняя губа от усердия натягивается на нижнюю, под глазами – усталые фиолетовые впадины. Воскресенье для него тяжелый день.
– Как она? Что делает?
– Сегодня она как будто гораздо нормальнее. Они с отцом утром были в церкви.
Они едут по улице вниз. Экклз молчит и, мигая, смотрит в ветровое стекло. Потом нажимает кнопку прикуривателя на приборном щитке.
– Я так и думал, что она поедет к ним, – говорит Кролик.
Он несколько раздосадован тем, что священник на него не орет; видно, неважно знает свое дело.
Прикуриватель выскакивает обратно. Экклз подносит его к сигарете, затягивается и как будто вновь собирается с мыслями.
– По-видимому, – говорит он, – когда вы через полчаса не вернулись, она позвонила вашим родителям и попросила вашего отца привезти мальчика. Ваш отец, как я понимаю, всячески ее успокаивал и сказал, что вы, наверно, где-нибудь задержались. Тогда она вспомнила, что вы опоздали домой, потому что играли с кем-то на улице, и решила, что вы снова туда вернулись. Мне даже кажется, что ваш отец ходил по городу и смотрел, не играют ли где в баскетбол.
– А где был старик Спрингер?
– Она им не звонила. Бедняжка позвонила им только в два часа ночи, когда потеряла всякую надежду.
«Бедняжка» – единственное слово, которое легко сходит с его уст.
– Только в два часа ночи? – спрашивает Кролик. Ему становится страшно, руки крепко сжимают сверток, словно он хочет утешить Дженис.
– Около того. К этому времени она пришла в такое состояние – от спиртного и от всего прочего, – что ее мать позвонила мне.
– Почему вам?
– Не знаю. Люди всегда мне звонят, – смеется Экклз. – Так оно и должно быть, и это утешительно. По крайней мере, для меня. Я всегда думал, что миссис Спрингер меня ненавидит. Она месяцами не ходит в церковь.
Обернувшись к Кролику, посмотреть, какое впечатление произвела его шутка, он лукаво поднимает брови, и от этого его широкий рот открывается.
– Это было около двух часов ночи?
– Между двумя и тремя.
– Ох, простите, пожалуйста. Я вовсе не хотел поднимать вас с постели.
– Не имеет значения, – с досадой качает головой священник.
– Мне ужасно неловко.
– Да? Это вселяет некоторую надежду. Ну а каковы, в сущности, ваши планы?
– Никаких планов у меня нет. Я, так сказать, играю по слуху.
Смех Экклза удивляет Кролика, но ему приходит в голову, что священник как раз специалист по части разбитых семейств, сбежавших мужей и так далее, и выражение «играю по слуху» внесло в привычную схему что-то новое. Он польщен: Экклз знает, что к чему.
– Ваша матушка придерживается любопытной точки зрения, – говорит Экклз. По ее мнению, мы с вашей женой заблуждаемся, воображая, будто вы ее бросили. Она говорит, что вы слишком хороший мальчик и не можете так поступить.
– Я вижу, вы этим делом занялись всерьез.
– Да, а вчера еще и одним покойником в придачу.
– Ох, простите, пожалуйста.
Они лениво тащатся по знакомым улицам, минуют фабрику искусственного льда, огибают угол, откуда открывается вид на всю долину.
– Знаете что, если вы действительно хотите меня подвезти, то поедемте в Бруэр, – говорит Кролик.
– Вы не хотите, чтобы я отвез вас к жене?
– Нет уж, дудки. То есть я хочу сказать, что никакого толку от этого не будет. А вы как думаете?
Какое-то время священник молчит; его четкий усталый профиль обращен к собеседнику, а взгляд прикован к ветровому стеклу; огромная машина с глухим рокотом неуклонно катится вперед. Гарри уже хочет повторить свой вопрос, но тут Экклз отвечает:
– Конечно, не будет, если вы сами этого не хотите.
Похоже, что тема исчерпана – довольно просто. Они спускаются по Поттер-авеню к шоссе. На солнечных улицах одни только дети, часть еще в костюмах для воскресной школы. Девочки в розовых платьицах, юбочки колоколом, ленты под цвет носков.
– Что она такого сделала, что вы ушли?
– Попросила купить ей пачку сигарет.
Он надеялся, что Экклз засмеется, но тот пропускает его слова мимо ушей как дерзость, несколько переходящую границу. Но ведь так оно и было.
– Правда. Мне надоело быть на побегушках и вечно убирать грязь, которую она повсюду разводила. Понимаете, мне все время казалось, будто я приклеен к ломаным игрушкам, пустым стаканам и к телевизору; никогда невозможно вовремя поесть, и выхода нет. А потом я вдруг понял, как это легко – найти выход: просто взять да уйти; и, черт возьми, так оно и оказалось.
– Меньше чем на два дня и в самом деле просто.
– А… Ведь есть же закон…
– Об этом я еще не думал. Ваша теща сразу об этом подумала, но ваша жена и мистер Спрингер категорически против. Причины, по-моему, разные. Ваша жена в каком-то столбняке, она не хочет, чтоб кто-нибудь вообще что-нибудь предпринимал.
– Бедняга. Она такая идиотка.
– Почему вы здесь?
– Потому что вы меня поймали.
– Я хочу сказать, как вы очутились возле своего дома?
– Вернулся за чистым бельем.
– Разве чистое белье так много для вас значит? К чему цепляться за приличия, если так легко идти по головам?
Кролик чувствует, что разговор становится опасным; его собственные слова возвращаются к нему, вокруг расставлены ловушки и крючки.
– Кроме всего прочего, я вернул ей машину.
– Почему? Разве она вам не нужна, чтобы сбежать?
– Я просто подумал, что автомобиль, в сущности, принадлежит ей. Ее отец уступил нам его по дешевке. Да и пользы мне от него никакой.
– Никакой? – Экклз давит в пепельнице сигарету и тянется к карману пиджака за новой. Они огибают гору по самому высокому отрезку дороги, где склон с одной стороны поднимается вверх, а с другой – обрывается вниз так круто, что здесь не построить ни дома, ни бензоколонки. Внизу смутно поблескивает река. – Если бы я решил бросить жену, – говорит Экклз, – я бы сел в машину и уехал за тысячу миль. – Слова, спокойно раздавшиеся над белым воротником, звучат почти как совет.
– Именно это я и сделал! – восклицает Кролик, в восторге от того, что между ними так много общего. – Я доехал до Западной Вирджинии. Но потом решил послать все к черту и вернулся. – Пора прекратить сквернословить. Почему он все время ругается? Может, чтоб держаться подальше от Экклза – он чувствует, что какая-то опасная сила притягивает его к этому человеку в черном.
– Могу я узнать почему?
– Понятия не имею. Комбинация причин. В знакомых местах надежнее.
– Может, вы приехали помочь своей жене?
На это Кролик не находит, что ответить.
– Вы толкуете, что вас угнетает неразбериха. А как, по-вашему, чувствуют себя другие молодые пары? Почему вы считаете себя исключением?
– Вы думаете, я не смогу вам на это ответить, но я отвечу. Я когда-то здорово играл в баскетбол. По-настоящему здорово. А после того как человек был первый сорт – неважно в чем, – ему уже неинтересно быть вторым. А то, что у нас было с Дженис, иначе как вторым сортом не назовешь.
Выскакивает прикуриватель. Закурив, Экклз снова поднимает глаза на дорогу. Они спустились в предместья Бруэра.
– Вы верите в Бога, – спрашивает он.
Отрепетировав ответ сегодня утром. Кролик без всяких колебаний отвечает:
– Верю.
От удивления Экклз моргает. Пушистое веко в одноглазом профиле захлопывается, но лицо не оборачивается.
– Значит, по-вашему. Господь хочет, чтобы вы заставляли вашу жену страдать?
– Позвольте вас спросить. По-вашему, Господь хочет, чтобы водопад стал деревом? – Кролику ясно, что этот вопрос Джимми Мышкетера звучит нелепо; его раздражает, что Экклз просто-напросто проглатывает его, печально затянувшись дымом. Ему ясно, что любые его высказывания Экклз проглотит с той же усталой затяжкой; его профессия – слушать. Большая светловолосая голова имеет такой вид, словно она набита серой кашицей из драгоценных тайн и отчаянных вопросов каждого встречного и поперечного, и, несмотря на всю его молодость, ничто не может окрасить эту кашицу в какой-нибудь иной цвет. Кролик в первый раз чувствует к нему антипатию.
– Нет, – подумав, отвечает Экклз. – Но, по-моему, Он хочет, чтобы маленькое дерево стало большим.
– Если это значит, что я не созрел, так я из-за этого плакать не стану, потому что, насколько я понимаю, созреть – все равно что умереть.
– Я и сам тоже незрелый, – как бы в виде подарка бросает Экклз.
Не бог весть какой подарок. Кролик его отвергает.
– Ну так вот, жалко вам эту кретинку или нет, а я к ней возвращаться не намерен. Что она чувствует, я не знаю. Уже много лет не знаю. Я знаю только то, что чувствую я. Это все, что у меня есть. Известно ли вам, чем я занимался, чтобы содержать всю эту шайку? Демонстрировал в магазинах дешевых товаров грошовую жестянку под названием «чудо-терка»!
Экклз смотрит на него и смеется, с изумлением подняв брови.
– Так вот откуда ваш ораторский талант, – говорит он.
В этой аристократической насмешке, по крайней мере, есть смысл – она ставит их обоих на место. Кролик чувствует себя увереннее.
– Высадите меня, пожалуйста, – просит он.
Они уже на Уайзер-стрит и едут к большому подсолнечнику. Днем он мертв.
– Может, я отвезу вас туда, где вы поселились?
– Я нигде не поселился.
– Как хотите. – С мальчишеской досадой Экклз подъезжает к тротуару и останавливается перед пожарным гидрантом. От резкого торможения в багажнике раздается бренчание.
– У вас что-то сломалось, – сообщает ему Кролик.
– Это клюшки для гольфа.
– Вы играете в гольф?
– Плохо. А вы? – Экклз оживляется, забытая сигарета дымится у него в руке.
– Таскал когда-то клюшки.
– Разрешите мне пригласить вас на игру. – Ага, вот она, ловушка.
Кролик выходит и стоит на тротуаре, прижимая к себе сверток с одеждой и приплясывая от радости, что вырвался на свободу.
– У меня нет клюшек.
– Их ничего не стоит взять напрокат. Пожалуйста, очень вас прошу. – Экклз перегибается через правое сиденье, ближе к открытой дверце. – Мне очень трудно найти партнеров. Все, кроме меня, работают, – смеется он.
Кролику ясно, что надо бежать, но мысль об игре и уверенность, что не выпускать охотника из виду безопаснее, удерживают его на месте.
– Давайте не будем откладывать, а то вы снова начнете демонстрировать свои терки, – настаивает Экклз. – Во вторник? В два часа? Заехать за вами?
– Нет, я приду к вам домой.
– Обещаете?
– Да. Однако не верьте моим обещаниям.
– Приходится верить. – Экклз называет свой адрес в Маунт-Джадже, и они наконец прощаются.
По тротуару вдоль закрытых, по-воскресному оцепенелых витрин, глубокомысленно поглядывая вокруг, шагает старый полисмен. Он, наверно, думает, что этот священник прощается с руководителем своей молодежной группы, который несет узел для бедных. Гарри улыбается полисмену и весело уходит по искрящемуся тротуару. Забавно, что никто на свете не может тебя и пальцем тронуть.
Рут открывает ему дверь. В руке у нее детектив, глаза сонные от чтения. Она надела другой свитер. Волосы как будто потемнели. Он швыряет одежду на кровать.
– У тебя есть плечики?
– Ты что, воображаешь, будто эта квартира уже твоя?
– Это ты моя, – отвечает он. – Ты моя, и солнце мое, и звезды тоже мои.
Когда он сжимает ее в объятиях, ему и в самом деле кажется, будто так оно и есть. Она теплая, плотная, нельзя сказать, чтобы податливая, нельзя сказать, чтоб нет. Тонкий запах мыла поднимается к его ноздрям, и подбородок ощущает влагу. Она вымыла голову. Темные пряди аккуратно зачесаны назад. Чистая, она такая чистая, большая чистая женщина. Прижавшись носом к ее голове, он упивается благопристойным терпким запахом. Он представляет, как она стоит голая под душем, подставив наклоненную голову с мокрыми от пены волосами под хлещущие струи.
– Я заставил тебя расцвести, – добавляет он.
– Ты просто чудо, – говорит она, отталкиваясь от его груди, и, глядя, как он аккуратно вешает свои костюмы, интересуется: – Отдал жене машину?
– Там никого не было. Я незаметно вошел и вышел. Ключ оставил внутри.
– Неужели тебя никто не поймал?
– По правде говоря, поймали. Священник епископальной церкви подвез меня обратно в Бруэр.
– Слушай, ты и вправду религиозный?
– Я его не просил.
– Что он сказал?
– Ничего особенного.
– Какой он из себя?
– Довольно въедливый. Все время смеется.
– Может, это ты его насмешил?
– Он пригласил меня во вторник сыграть с ним в гольф.
– Ты шутишь.
– Нет, серьезно. Я ему сказал, что не умею.
Она смеется, смеется долго, как обычно смеются женщины, которых ты волнуешь, но им стыдно в этом признаться.
– Ах ты мой милый Кроличек! – в порыве нежности восклицает она наконец. – Ты ведь просто так бродишь по белу свету, правда?