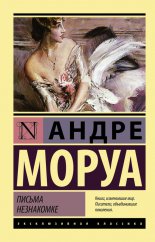Франция в свое удовольствие. В поисках утраченных вкусов Бакстер Джон
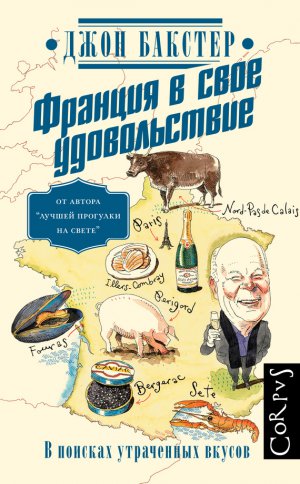
Вместо этого на площади высится обелиск в память о павших в войне 1914–1918 годов. На вершине его сидит бронзовый галльский петух, coq gaulois, символизирующий боевой задор французов. Молчаливая расстановка приоритетов: литература – это очень хорошо, но национальная гордость, то, что французы зовут la gloire (слава), – на первом месте.
Мемориал опоясывали тяжелые цепи, прикованные к снарядным гильзам. На одной из них спиной к нам восседал серый голубь, единственное живое существо в поле зрения. Мы приблизились, но он не улетел. Наоборот, он как будто бы сосредоточенно рассматривал петуха на обелиске.
– Может, он что-нибудь потерял, – предположила Луиза. – Вдруг это почтовый голубь.
Единственная трехполосная дорога, отходившая от площади, должна была вести в город, и мы пошли по ней. Я обернулся: голубь сохранял неподвижность.
Через полчаса мы сидели за столиком на безлюдной центральной площади, Луиза потягивала мятную воду, я пил пиво. Мы уже решили, что в городе больше нет приезжих, пока соседний столик не оккупировало английское семейство. Заказав один кофе, мать, отец и двое детей нырнули друг за другом в полумрак помещения.
– Должно быть, этот туалет – самое популярное место в городе, – сказал я.
– По крайней мере он открыт.
Илье определенно не конкурировал с Диснейлендом. Закрыто было абсолютно все, кроме кафе и церкви. Еще работали информационный центр, в единственной комнатке которого бесстрастная дама вручила нам карту, и бывший дом двоюродной бабки Пруста, а ныне музей.
Мы пришли туда в полдень, и одинокая смотрительница сообщила, что музей вот-вот закроется на обед.
– Когда вы открываетесь?
– В два тридцать, – ответила она, всем своим видом показывая, что я задал глупый вопрос.
Два с половиной часа на обед? Это было чересчур и выдавало ту самую расстановку приоритетов. Народ, Марсель Пруст был всего лишь писатель! Не слишком-то важная персона. Булочная напротив рекламировала себя как та самая, “где тетя Леония покупала мадленки”. Она тоже была заперта, жалюзи опущены, и ничто не обещало, что когда-нибудь они поднимутся снова.
“Жить в Комбре было невесело”, – писал Пруст. Я мог его понять. Как печально говорил Люк Скайуокер в “Звездных войнах”, “если существует сверкающий центр Вселенной, моя планета от него дальше всех”.
Но у нас в любом случае было два часа, чтобы исследовать городок. Некогда Илье знал скромный расцвет, но те дни давно в прошлом. Уже десятилетия не открывались общественные бани, где жители мылись раз в неделю до того, как в домах провели водопровод. Женщины перестали ходить в общественную прачечную, где хозяйки и домработницы когда-то сплетничали, стоя на коленях вокруг коммунального пруда и выколачивая белье.
Ровно в два тридцать смотрительница дома тети Леонии, повеселевшая после обеда, отперла чугунные ворота.
Маленький дом едва ли изменился с конца 1870-х годов, когда в нем жил Пруст с шести до девяти лет. На кухонном столе стояли простые деревенские горшки и сковородки. Поднявшись по деревянной винтовой лестнице, мы нагнули головы, чтобы пройти под низкими притолоками, с улыбкой осмотрели узкие кровати, цветастые обои, поблекшую живопись – все, как описывал Пруст. Изменился только мезонин. Теперь здесь расположилась галерея фотографий семьи Марселя и их друзей – выставка пышных бород и экстравагантных шляпок. Мужчины в тугих воротничках серьезно смотрели в объектив. В эпоху длинной выдержки улыбка выходила на фото жутким оскалом.
Наконец мы вошли в спальню тети Леонии. На столике у кровати, под стеклянным колпаком, как реликвия, помещались: белый керамический чайник, чашка, блюдце, ложка, тарелка сушеных липовых сережек, бутылка минеральной воды “Виши-Селестен” и аккуратная рифленая мадленка.
Я застыл в почтительном созерцании, а Луиза указала на минеральную воду.
– “Виши-Селестен”. Как бабушка любит.
Это правда. Моя теща Клодин разделяла пристрастие дамы из прошлого века к газированной минералке. И обе спали на почти одинаковых кроватях в стиле Второй империи с деревянными изогнутыми спинками.
Я удивился тому, с каким неподдельным интересом Луиза осматривала дом. Уверенный в том, что все самое важное о Прусте я знаю, я отверг пачку буклетов, предложенную смотрительницей, но Луиза взяла один. Пока мы ходили по дому, она сверялась с буклетом, зачитывая, что писал Пруст о картинах, обоях или об оранжерее размером не больше спальни, устроенной в глубине маленького сада. Луиза выросла на романах Пруста и “прошла” его в школе. Как часть её культурного наследия, он заслуживал почитания вместе с Бальзаком, Золя, Жидом.
Моё отношение к Прусту совсем другое. Я фанат. Для меня визит был священным, как паломничество к роднику Лурда. Мне было достаточно вдыхать этот воздух и запах пыли, стоять в саду и видеть окна, из которых смотрел он полтора века назад. Он здесь был.
Как только мы вышли на улицу, жалюзи на окне булочной с шуршанием поползло вверх, и девушка перевернула табличку на двери надписью “Открыто” наружу.
Там продавали мадленки, не так, как их покупала тетя Леония, а в полиэтиленовых упаковках. Мы купили с полдюжины – сувенир, подарок родственникам. Я терпел, пока мы не сели в поезд, и тогда вскрыл одну и вынул печенье. Если я ждал откровения, как у Пруста, то был разочарован. Неплохо, но суховато. И, подозреваю, из одной муки, без молотого миндаля. Возможно, с добавлением отвара липового цвета…
Я протянул упаковку Луизе, которая снова завернулась в куртку и уже засыпала.
– Хочешь попробовать?
Луиза открыла один глаз.
– Нет, спасибо. Я на диете.
Она опять начала клевать носом, но внезапно кое-что вспомнила.
– Кстати, ты знал, что изначально он размачивал в чае не мадленку?
– Как не мадленку? Конечно, мадленку! – Я потянулся за киндлом, чтобы предъявить доказательство.
– Он придумал мадленку в книге, – сказала Луиза, – но в сборнике “Против Сент-Бёва” он пишет, как было на самом деле.
Она пролистала музейный буклет и зачитала отрывок из ранней книги Пруста, которую считают репетицией перед созданием шедевра.
Однажды зимним вечером, продрогнув на морозе, я вернулся домой и устроился у себя в спальне под лампой с книгой в руках, но все не мог согреться; старая моя кухарка предложила мне чаю, хотя обычно я чай не пью. И случись же так, что к чаю она подала гренки. Я обмакнул гренок в чай, положил его на язык, и в тот миг, когда ощутил его вкус – вкус размоченного в чае черствого хлеба, со мной что-то произошло: я услышал запах герани и апельсиновых деревьев, меня затопил поток чего-то ослепительного, поток счастья…[24]
– Гренок? Мадленка Пруста была… кусочком жареного хлеба?
– Очевидно, да. – Луиза увидела, как я разочарован. – Но идея та же.
– Да. Конечно.
Однако огонек погас. Как всегда Пруст оказался прав. Ничто не вечно. Время можно ненадолго вернуть в памяти, но оно неизбежно проходит. И если миг озарения может изменить чью-то жизнь, другой миг может изменить её снова.
В конце романа “По направлению к Свану” повествователь пытается оживить воспоминания о Сване и его жене, пройдя по улицам, где они жили. Но хотя здания и люди выглядят более или менее по-прежнему, время изменило тех и других и повзрослевшего Пруста, который за ними наблюдает.
Того мира, который я знал, больше не существовало. Если бы г-жа Сван появилась здесь хотя бы чуть-чуть не такой, какою она была, и в другое время, то изменилась бы и аллея. Знакомые места – это всего лишь пространство, на котором мы располагаем их, как нам удобнее. Это всего лишь тонкий слой связанных между собой впечатлений, из которых складывалось наше прошедшее; воспоминание о некоем образе есть лишь сожаление о некоем миге. Дома, дороги, аллеи столь же – увы! – недолговечны, как и года.
Ну что ж. Как могла бы сказать Мария-Антуанетта – “Пусть едят гренки”.
Глава 7
Сначала найдите гриб
Официантка сказала:
– У нас есть замечательный сэндвич с портабелла-гриль и сыром азиаго на деревенском хлебе под оливковым маслом extra virgin, подается с жюльеном[25] из хикамы и красного апельсина.
– Что такое портабелла? – спросила меня Ширли.
– Большой гриб.
Она посмотрела на официантку и нахмурилась.
– Сэндвич с грибами?
Роберт Б. Паркер “Шанс”
В мучительных поисках продуктов для званого обеда я все время возвращался к одному, самому главному: банкет нельзя считать идеальным без неповторимого вкуса трюфеля.
В 2004–2005 годах я много бывал в Италии по заданию американской телекомпании. Я должен был создать сюжеты, типажи, общий фон и поучаствовать в сценарии для сериала о великом творческом прорыве XIV века – Ренессансе. Хотя проект был обречен с самого начала, моя хлопотная задача меня воодушевила. Встречаться с потомками тех, кто нанимал Леонардо и Рафаэля, держать в руках подлинные письма Лоренцо Медичи, бродить после закрытия по опустевшим залам палаццо Питти, наедине с полотнами Боттичелли и Тьеполо, – все это стоило гораздо больше моего гонорара, когда его вообще платили.
Я никогда не понимал современных аристократов, которые зачастую ничего не знают и не стремятся знать о своем наследии или берегут его от посторонних глаз. Одна семья обнаружила у себя историю рода в богатом переплете: напечатали её давно, но явно никто не открывал, за исключением детей: супруги в смущении увидели на последних страницах карандашные каракули. А некий герцог с раздражением вопрошал: “Откуда столько шума вокруг этого Макиавелли? Он был всего-навсего секретарем одного из моих предков”.
Но временами хороший вкус и образованность одерживают верх. Хозяйка одного палаццо, провожая нас, остановилась у стеклянных полок, уставленных статуэтками и прочими драгоценными вещицами.
– Кое-что из фамильных сокровищ, – сказала она (как будто весь её дом не заслуживал этого определения). Открыв дверцу, она вынула хрупкий предмет.
– Поскольку вы любите готовить, Джон, вам это может быть интересно.
Я узнал терку-мандолину. Повара на таких шинкуют овощи и сыр. Металлическая подпорка, от которой под углом в сорок пять градусов идет полоска дерева или пластмассы с приподнятым лезвием посередине. Аккуратные кусочки падают на тарелку через прорезь. Большинство мандолин крепкие и устойчивые, им и надо быть такими, но эта была такой маленькой, что умещалась на ладони хозяйки. Подпорка с тонкой филигранью поддерживала пластину из какого-то желтоватого материала, не дерева.
– Серебро и слоновая кость. Начало XIX века.
– Это игрушка? – спросил наш режиссер. – Для кукольного дома?
Встретившись со мной взглядом, графиня чуть поджала губы: “Как вы можете работать с такими людьми?”
– Нет, – ответил я за неё. – Полагаю, это для трюфелей.
Когда на вечеринке с коктейлями я завожу разговор о грибах, мало кто соглашается его поддержать. Стоит мне спросить собеседника, какие он предпочитает лисички – французские или более крупные, но, с моей точки зрения, менее вкусные румынские, – он тут же высматривает в другом конце комнаты приятеля, с которым просто необходимо поговорить.
Шотландский путешественник Джон Лодер, посетивший Францию в 1665 году, ужасался при одной мысли о поедании грибов. “Я изумлен тем, что французы находят их такими вкусными. Грибы собирают ночью в самых грязных и сырых местах. Их запекают с маслом, уксусом, солью и приправами. Жареные грибы похожи на нежнейшее мясо. Но я не смог побороть предубеждение и не попробовал их”.
Много лет я был согласен с ним. В моей части Австралии известен только один вид грибов. Широкие, плоские, грязно-белые сверху и розовые с испода, после дождя они вырастали в лужах, там, где землю удобрил скот. Я не слишком брезглив, но не решался взять в рот кушанье, находящееся в столь близком родстве с коровьим навозом.
Но даже если бы меня не смущало это обстоятельство, то смутил бы способ приготовления. Все до единого шинковали их и жарили в сливочном масле. В процессе грибы истекали соком и приобретали цвет вареной газеты. Консервированные грибы выглядели точно так же, но ещё и плавали в мутной слизи, которой польстили названием “масляный соус”. Кухарок поколения моих родителей это убедило, что они нашли идеальный рецепт. Выросшие на консервированной еде, они считали фабричный продукт мерилом совершенства. Величайшим кулинарным достижением было сотворить блюдо, неотличимое от того, что выпускалось под маркой Crosse and Blackwell или Sara Lee. “Вкусно, как покупное”, – удовлетворенно говорили они, радуясь, что их разбухшие, переваренные спагетти выглядят так же, как в консервах Heinz.
Тушеные грибы традиционно подавались к стейку. Жутковатое серое месиво образовывало исключительно неприятное сочетание с мясным соком. Это блюдо стояло первым в моем списке кулинарных уродов, пока я не познакомился с любимцем австралийцев carpetbag steak – “стейком-сумкой”. Для него берут толстый кусок огузка, прорезают в нем карман и наполняют сырыми устрицами. Когда вы режете мясо, устрицы вываливаются наружу. Ничего не видел противнее, пока не посмотрел фильм “Чужой”.
Британия преуспела в изучении возможностей грибов не больше, чем Австралия. Хотя в тамошних лесах и полях грибов видимо-невидимо, британцы, как Джон Лодер, с подозрением относились к тому, что растет в грязи и сырости. Они нашли решение – вывели шампиньон двуспоровый. Белый, гладкий и слегка резиновый внутри шампиньон культивируют в промышленных масштабах. К сожалению, он почти безвкусен. Зато вы знаете, где он рос.
Во Франции шампиньон тоже выращивают и в пику британскому и всем прочим называют champignon de Paris – “парижский гриб”. На кухне у каждого француза среди банок с кукурузой стоят и консервированные шампиньоны. Возьмите по банке кукурузы и грибов и упаковку кочанного латука, добавьте ломтики ветчины и грюйера и получите салат к ужину. Вылейте туда яйца – и получите киш. Подходит и для пасты, и для пиццы, и для куриного рагу. В общем, на все случаи жизни.
Гораздо больше мне нравятся лесные грибы, которые продают на рынке в течение нескольких недель начиная с августа: золотые рифленые лисички, черные вороночники, мелкие мертвенно-бледные рядовки, у основания ножки синеватые, светлые упругие вешенки и самые вкусные – ароматные и мясистые белые грибы. Все они пахнут дикой природой. Корявые, обсыпанные землей и травой, а иногда – особенно в случае белых – поеденные насекомыми, эти неотесанные деревенские родственники как будто насмехаются над благовоспитанными шампиньонами. Впустив их к себе в дом, вы сами отвечаете за свою безопасность. Неудивительно, что испанцы зовут их la burla de la naturaleza – “дурная шутка природы”.
Немногие грибы отличаются насыщенным вкусом. Однажды на выходных в Дордони я целый день пробегал по лесам, а потом понес свои находки местному аптекарю. Осмотрев каждый гриб, он отложил три.
– Значит, эти несъедобны, – сказал я, осторожно ткнув пальцем один из них.
– Нет, – сказал аптекарь, – эти как раз съедобны.
– Тогда ядовиты все прочие? – Я кивнул на полную корзину грибов.
– Нет, они безвредны. Вы можете их есть. Просто у них нет никакого вкуса.
Это относится ко многим грибам. Задача повара в том, чтобы усилить их слабый вкус. Лучший рецепт блюда с грибами я нашел случайно. Пытаясь повторить ragout forestier, “рагу лесника”, которое мы ели в деревенском ресторане, я поджарил на сливочном масле лисички и белые грибы, приправив их солью, перцем и давленым чесноком. Сначала результат меня разочаровал. Соки ингредиентов смешались, и получилась та самая вязкая жижа, которую я так ненавидел в австралийских грибах. К счастью, меня отвлек телефонный звонок. Я убавил огонь и пошел отвечать. Когда я вернулся, соус почти выкипел, благодаря чему впитанное грибами масло вытекло обратно на сковородку, а сами грибы покрылись соблазнительной глазурью, в которой сосредоточился их природный вкус. Горсть петрушки и щепотка свежемолотого черного перца превратили блюдо в отличный гарнир к жареному мясу. Можно завернуть грибы в омлет, тоже получится потрясающе вкусно. Если же использовать только лисички, они удачно оттенят вкус рыбы, приготовленной на пару или на гриле.
Я бы не изменил отношения к дикому братству лесных грибов, если бы не мои поездки в Италию для подготовки сериала.
Я приехал во Флоренцию ночным поездом. Меня встретили менеджер проекта и его ассистентка. В десять утра завтракать было поздно, а обедать рано, но в Италии это рано и для работы.
– Вы любите tartufo? – спросила ассистентка.
Единственным известным мне tartufo был десерт: шарик ванильного мороженого, посыпанный шоколадной крошкой. Неужели у итальянцев вместо утреннего чая мороженое? Что ж, согласно латинской поговорке, в Риме (или во Флоренции) живи по римскому обычаю.
– Конечно, – соврал я.
Но “Прокаччи”, закусочная на улице Торнабуони, куда они меня привели, на кафе-мороженое не походила. Какое-то кафе и дорогая кондитерская подпирали её с боков. Внутри было сплошное лакированное дерево, мозаичный пол и круглые витрины. Когда мы сели за маленький столик, ассистентка принесла нам тарелку булочек.
– Panini tartufati, – объявила она.
Tartufo оказался трюфелем. Мороженое в шоколаде – всего лишь неуклюжая попытка скопировать внешний вид черного трюфеля.
Я откусил от мягкого белого хлебца, промазанного пастой из белых трюфелей и сливочного масла, и пленился в тот же миг. Когда ко мне приехала Мари-Доминик, “Прокаччи” стало нашим любимым местом. В ночной поезд, увозивший нас в Париж, мы брали один и тот же приятный ужин – дюжину panini tartufati и бутылку шампанского. В конце трапезы мы каждый раз чувствовали легкую неудовлетворенность и обещали себе, что в следующий раз купим лишних полдюжины и объедимся по-настоящему. Мы разделяли кредо Колетт: “Если нельзя съесть сразу много трюфелей, – говорила она, – лучше не есть их вообще”.
Даже лучшие повара экономят трюфели, в основном из-за высокой цены. И белые, и черные продаются примерно по 100 долларов за 30 грамм. На стоимость трюфелей влияет тот факт, что в отличие от большинства грибов их не выращивают. Они растут в природе и только у корней дубов, а дуб во Франции распространен меньше, чем в Британии. В последнее время французские фермеры делают попытки разводить трюфели: сажают дубовые рощи, сеют у корней споры и год с надеждой ждут урожая. Тем не менее большинство поставщиков трюфелей по-прежнему добывают их с помощью животных.
Наше слабое обоняние не может обнаружить под землей трюфели, но у барсуков, кабанов, некоторых собак и определенных видов мух такой проблемы нет. Искатели трюфелей натаскивают собак на запах и стараются прибежать быстрее, чем собака выроет гриб и вопьется в него сама. Пытались натаскивать и свиней, но после того, как несколько человек лишились пальцев в борьбе с прожорливыми созданиями, собаки стали более популярны.
Одну осень у самого дорогого зеленщика на рынке Сен-Жермен, рядом с кассой, несколько недель стояла банка: внутри на слое риса, насыпанного для поглощения влаги, сидело три черных трюфеля.
– Сколько? – спросил я, сглатывая слюну.
– Триста пятьдесят евро за килограмм, – ответил продавец.
Я решил подумать.
Так совпало, что на следующих выходных мы оказались в Перигоре, в небольшом городке недалеко от Карпентра – трюфельной столицы Франции. Раз в неделю там работает фермерский рынок, по которому мы и прогулялись, изучая ассортимент последних овощей и летних фруктов, обедневший с осенними холодами.
В провинциальных городах Австралии на здании вокзала часто можно увидеть дату “1888”. Построить что-нибудь новенькое в год пятидесятилетия правления королевы Виктории значило для австралийцев напомнить себе, что они все ещё британцы.
Но мои бабушка и дедушка по материнской линии были выходцами из Германии и Швеции, так что мои культурные корни частично уходят в континентальную Европу, а не в Британию. Приехав в Европу, я впервые почувствовал, что не только люди, но и ландшафты, и здания говорят на моем языке. Над культурной пропастью, лежащей между Австралией и остальным миром, я угадал невидимый мост, связавший меня с неким знанием, европейцу данным от рождения.
Оставаясь чужаком даже после двадцати лет жизни во Франции, я осторожно иду по этому мосту, стараясь не смотреть вниз, в глубины своего невежества. Легче всего мне в сельской местности, в деревнях, и особенно в церквях. Средневековая часовенка на мысу над Атлантикой, с одной стороны виноградник, с другой – кладбище, больше говорит о моем месте в мире, чем самый пышный собор из красного песчаника, пропеченный австралийским солнцем.
Сначала я объяснял эту близость не только тем, что воспитывался в католической вере, но и сходством её субстрата – более древних обрядов магии земли, жертвоприношений, гаданий – с ритуалами австралийских аборигенов. Боги никогда не были так далеки друг от друга, как мы бываем далеки от них.
Все это пронеслось в моей голове там, на рынке. Последний в ряду продавец предлагал самый скромный выбор. Его лоток был невелик и почти пуст: старинные медные весы с железными гирьками и несколько металлических тарелочек. Почему этот человек показался мне таким знакомым – одинокий, прямой, величавый? Ну конечно: карта таро Le Bateleur – Маг. Изображается стоящим за столом с символами трех мастей таро – чашками, ножами и монетами; в руке держит жезл, символизирующий четвертую масть, – прототип волшебной палочки фокусника.
На каждой тарелочке лежал шишковатый черный самородок. Трюфель.
Я показал на один гриб размером с шарик для гольфа и спросил о цене. Продавец торжественно взвесил трюфель на весах.
– Шестнадцать евро.
Шестнадцать? До смешного дешево. Я полез в карман, сознавая, что при мне совершился старинный обряд.
Трюфель – это плутоний растительного мира, источник своего рода радиации. Положите его рядом со сливочным маслом, или в бутылку постного, или в миску с яйцами, и все эти продукты пропахнут трюфелем, а их собственный вкус станет богаче.
Моего трюфеля хватило на несколько месяцев. Один кусок был надрезан и опущен в бутылку с маслом – не оливковым, чей насыщенный вкус может заглушить трюфельный, а менее агрессивным виноградным. Второй кусок я поместил в горшочек с несоленым маслом, а горшочек надежно запечатал, чтобы запах не расползался по всему холодильнику. Остальное ушло на десяток яиц в банке с завинчивающейся крышкой. Трудно представить завтрак вкуснее, чем два яйца в мешочек со вкусом трюфеля и тост, намазанный трюфельным маслом.
Трюфель прекрасно сочетается с говядиной. Я приготовил блюдо по рецепту “Ля Птит Кур”, одного из моих любимых ресторанчиков в округе. Толстый кусок говядины глубоко протыкают в четырех местах, и в каждую ямку закладывают сырое фуа-гра, после чего жарят мясо на гриле. Подают с маленькими вареными картофелинами в мундире и салатом, политым трюфельным маслом. А чтобы приготовить карпаччо – самое вкусное кушанье из сырой говядины, я опускаю кусок филе в кипящее растительное масло, оставляю на одну минуту, затем вынимаю. Мясо обжаривается, но внутри остается сырым. Дав ему полчаса отдохнуть, я тонко его нарезаю, выкладываю на листья салата рокет (рукколы), сдабриваю свежемолотым черным перцем и fleur de sel[26], украшаю тертым пармезаном и спрыскиваю трюфельным маслом.
Используя трюфели в кулинарии, я ещё больше оценил их уникальные качества, в особенности их весьма отчетливый, почти химический аромат, который имеет свойство усиливать вкус многих продуктов, не перебивая его. Ценители веками тщились описать этот дух, но не отступили и не доверились ученым. Последние сделали удивительное открытие, чтобы не сказать пугающее.
Судя по всему, для собак и свиней трюфель пахнет спермой, что их возбуждает. Собаки изначально чуют трюфели не по запаху растущих грибов, а по застарелому запаху переваренных грибов в собственных экскрементах (или в экскрементах других собак), оставленных в прошлые годы рядом с теми деревьями, где они сожрали запретные трюфели. Запах такой сильный, что выдерживает солнце, дождь, снег и даже собачью пищеварительную систему.
Однажды кто-то назвал меня “трюфельной ищейкой” за искусство выискивать старинные книги. Теперь это прозвище не кажется мне таким уж лестным.
Глава 8
Сначала добудьте миногу
Привет, сосунки!
Тексас Гинен
Я покупал соцветия цуккини на рынке, что на улице Сены, и француженка, стоявшая рядом в очереди, к моему удивлению, спросила: “Как вы их готовите?” Их сезон так короток и они так редко появляются в Париже, что ей никогда не попадались. Однако на середине моего объяснения – окуните соцветия в темпуру с тертым пармезаном, затем обжарьте до хруста – она потеряла к ним интерес. Если бы я сказал, что их кладут сырыми в салат, ей бы, возможно, понравилось, но японский кляр и итальянский сыр… Я почти видел, как морщится её нос. Очередная иностранная муть…
Как так получилось, что, прожив двадцать лет во Франции с её консерватизмом по отношению к еде, я ни разу не пробовал миног? Эта угреподобная рыба когда-то считалась большим деликатесом. В средние века один римский папа якобы заплатил двадцать золотых монет за упитанный экземпляр. Тем не менее, проведя во Франции два десятка лет, я не съел ни одной миноги и даже не встречал их в меню. Это блюдо явно заслуживает пометки “утрачено”. А где может лучше смотреться такое экзотическое, хоть и глубоко традиционное, хоть и забытое кушанье, чем на моем идеальном банкете?
– Ты когда-нибудь ела миног? – спросил я Мари-Доминик.
– А что это?
– Такая рыба. Вроде угря.
– А, lamproie. – Она скривилась. – Нет! Они отвратные. Они же пьют кровь.
Это правда: минога – вампир. Она умеет присасываться к более крупной рыбе и пьет её соки. Слюна миноги, как и летучей мыши-вампира, содержит вещество, препятствующее свертыванию крови жертвы. Во времена римлян миног держали в прудах и, по легенде, откармливали человеческой кровью: скажем, раба, разбившего ценную тарелку, могли скормить миногам. Подозреваю, эта байка льстит аппетиту миног. Но и желания проверить их способности она не вызывает.
Рецепты блюд из миног часто попадаются в старинных кулинарных книгах. Один особенно изощренный средневековый способ состоял в том, что каждой рыбине затыкали рот гвоздикой, а самым крупным доставался целый мускатный орех – все равно что запекать цыпленка, сунув по трюфелю в каждое отверстие тушки. Итальянцы готовили ризотто с миногами, французы подавали их в соусе из красного вина, загущенном миножьей кровью. В 1135 году английский король Генрих I, гостя в Нормандии, поглотил столько миног, что помер “от излишеств”. Любовь к миногам, правда “консервированным” (запеченным в горшочке и залитым маслом), питал и поэт Александр Поуп.
Считалось, что миноги распаляют в женщинах похоть; так случилось с нимфой Каллисто, спутницей богини охоты Дианы. Съеденные миноги сделали нимфу такой пылкой, что Зевс, желая завлечь её в лес и соблазнить, принял обличье богини. Позднее он очень не по-джентльменски превратил Каллисто в медведицу. Английский поэт начала XVIII века Джон Гей резюмировал, что ей стоило бы придерживаться вегетарианской диеты.
- Когда на зелень дева налегает,
- Легко сердечным пылом управляет.
- И если б нимфы отвергали строго
- И жениха, и жирную миногу,
- То и теперь на всех лесных полянах
- Резвились бы наперсницы Дианы.
Король Генрих I любил подслащенные миноги, запеченные в тесте. Верхнюю корку пирога вскрывали, зачерпывали кусками хлеба сироп, смешанный с вином и специями, а сверху клали кружок мяса миноги.
К счастью, когда я уже собирался прекратить поиски этого неуловимого создания, мне попался на YouTube короткий фильм о том, как миноги производят рассеянную атаку на пловцов в озере Шамплейн, в его канадской части, и узнал голос рассказчика – актера Билла Хуткинса, моего старого знакомого. Билл, уроженец Техаса, говорил вкрадчивым баритональным басом, поэтому его часто приглашали для подобной работы и для записи аудиокниг. Его чтение всего “Моби Дика” стало классикой. Хотя он сыграл десятки маленьких ролей, в кино его обессмертили несколько минут в образе пилота Поркинса из “Звездных войн”, чему он сам не переставал удивляться.
Своим наивысшим успехом он считал роль Альфреда Хичкока в пьесе “Хичкоковская блондинка”. Билл был идеальной кандидатурой на эту роль: как и великий режиссер, он любил поесть. В конце семидесятых, живя в Лондоне, я слушал его курс по китайской кухне. “Курс” состоял в том, что раз в неделю мы собирались на ужин, каждый раз в новом ресторане. Слушателю надо было всего лишь раздобыть себе стул. Весь вечер Билл метался между кухней и залом, шумно сопровождая каждое блюдо речью на мандаринском диалекте.
Увы, Билл рано умер, и у меня не было случая спросить, доводилось ли ему в поисках новых вкусов пробовать миног. Но соблазнительная мысль о том, что я мог бы превзойти корифея, заставила меня принять вызов.
– Допустим, мне захотелось миног. Как их найти, с чего начать? – спросил я у Мари-Доминик.
– Николь может знать.
Мне самому следовало подумать о Николь. Это доктор из Бордо. Они с мужем держат ферму недалеко от Бержерака. В саду созревали персики, груши и мелкие зеленые яблочки, не больше сливы и такие же сочные – мы ели их прямо с дерева, они ещё хранили тепло солнца.
Как известно, бордоская кухня очень жирная. Когда я приехал к Николь в первый раз, она откупорила литровую банку мутных белых грибов в утином жиру – по её словам, подарок от благодарного пациента. В последующие приезды нас угощали содержимым подобных же банок, и, как правило, оно заслуживало черной метки в любой таблице калорий. Неудивительно поэтому, что в ответ на мой вопрос Николь сказала: “Вообще-то одна из моих пациенток готовит миног. Я подумаю, что можно сделать”.
Несколько месяцев спустя мы ехали по долине Дордони. По сторонам узкой извилистой дороги то выныривали, то пропадали виноградники. Пару километров мы ползли позади телеги, груженной виноградными корягами, очевидно, отжившими свое. Было такое чувство, словно мы провалились в прошлое на век, а то и на два. Если бы перед нами пронесся и скрылся в лесах всадник в алом бархатном камзоле и шляпе с перьями, мы бы и бровью не повели.
По дороге мы заехали на субботний рынок в Бержераке. Над рыночной площадью возвышалась церковь. Её башенка была вычищена, а до стен ещё не добрались, и они остались почернелыми от возраста, как будто только что вышли из земли, как тот товар, что продавался под их сенью.
Во Франции, чем дальше вы заехали, тем цвет продуктов темнее. На побережье они хранят глянцевый отблеск моря и солнца. Даже на востоке, на границе с Германией, где моря нет, эльзасцы квасят белую капусту в белом вине (по-французски это choucroute, по-немецки – sauerkraut). Но стоит продвинуться вглубь страны, и краски становятся темнее, а запахи резче. Вспомните сыр из Рокфора, сливы из Ажана, гусиную печень из Бордо и черные трюфели из Перигора.
Вокруг Бержерака много ореховых рощ, почти столько же, сколько виноградников. Однажды я пропьянствовал целый вечер во дворе близлежащего замка, хозяин которого потчевал меня дижестивами собственного приготовления, в том числе итальянским ночино – ликером, настоянным на грецких орехах. На рынке никто не предлагал этого напитка траурного цвета, но многие продавали масло собственного производства, разлитое во что попало. Мы купили золотое масло фундука в пузатой бутылке из-под лимонада “Оранжина”. Складывая наши покупки в пакет, жена фермера добавила к ним несколько совочков грецких орехов без скорлупы. Мы гуляли и грызли их – мягкие, почти сочные; ничего общего с сухими орехами из супермаркета, скупо расфасованными в упаковки из кальки.
Устав от парижских рыночных овощей и фруктов, которые выбираются больше по внешнему виду, чем по вкусу, мы нагрузились шишковатыми помидорами, лопнувшими от спелости, и влажным инжиром, связками лука и чеснока в мелкой шелухе. Не надо было брать ищейку, чтобы проследить наш маршрут от рынка в Бержераке до фермы Николь, стоящей на вершине холма: воздух на нашем пути наполнялся ароматами инжира, чеснока и орехового масла.
Николь встретила наши покупки со смирением на лице. Мы явно были не первые гости, притащившие больше продуктов, чем способны съесть.
– Я подумала начать с миног, – сказала она, – а потом перейти к шашлычкам из утки.
Тут она разглядела инжир.
– Это отлично подойдет к утке.
– Можно я посмотрю на… э-э…
– Конечно.
Литровая банка с миногами была из той же серии, что банка белых грибов, которых я отведал несколько лет назад. Но содержимое было ещё мутнее и напоминало органы, замаринованные в формальдегиде, которые в больничных лабораториях держат в качестве иллюстраций особо гнусных болезней.
– Она тушит их в красном вине с кусками порея, – объяснила Николь, – и загущает соус…
– Кровью. Да. Я запомнил.
Я не смог скрыть отвращение.
– Если хочешь, будем есть что-нибудь другое.
– Нет, ни в коем случае.
Аппетит тут был ни при чем. Я счел это делом чести.
За час или два до ужина мы уселись под огромным деревом, осенявшим лужайку перед домом. Николь пустила по кругу блюдо тартинок с кусочками фуагра под самодельным чатни из зеленых помидоров. Её муж подливал нам в бокалы охлажденный монбазийяк, которым славится Бержерак. Почему холодное сладкое вино – гевюрцтраминер, рислинг из плесневелого винограда, монбазийяк, а лучше всего сотерн – так великолепно сочетается с гусиной печенью? Вот такие нюансы и заставляют восхищаться французской кухней.
Но когда была допита последняя капля вина и съедена последняя тартинка, а солнце опустилось за холмы, мы всей толпой вошли в дом, чтобы встретиться лицом к лицу с рыбой, убившей короля.
Тот памятный ужин продлился до полуночи. К утиным шашлычкам Николь подала наш инжир, разрезанный на четвертинки и обжаренный в сливочном масле со специями. Десерт был ещё лучше – вариант тирамису: слой бисквитных крошек, слой свежих ягод, далее смесь маскарпоне, йогурта и сметаны, взбитая с сахаром, лимонным соком и тертой цедрой.
А что же миноги?
Темный бархатистый соус был так соблазнителен, что все скоро забыли о его кровавой основе. Рыбье мясо имело бледно-розовый цвет и напоминало лососину, только более нежной текстуры, ближе к сардинам. Было понятно, почему средневековые повара готовили его с сахаром и специями, как датчане – селедку. Его надо чем-то оттенять.
Но могло ли оно уморить короля? Вряд ли. Если бы я расследовал обстоятельства кончины Генриха I, я с пристрастием допросил бы придворного аптекаря.
Что же касается моего банкета… Я подумал, что можно выбрать блюдо поинтереснее.
Глава 9
Сначала раздобудьте короля
Подавать на золоте красиво, – печально сказала графиня, – но еда, к несчастью, на нем быстро стынет. У себя я никогда не подаю на золоте, за исключением тех дней, когда принимаю Его Величество. Поскольку так делают почти во всех домах, я сомневаюсь, что Его Величеству вообще удается поесть горячего.
С. С. Форестер “Командор”
Вернувшись в Париж, я поведал Борису о своих успехах. Он был не слишком впечатлен.
– Значит, за это время вы выбрали аперитив…
– Да.
– … и к нему печенье мадлен. Так?
– Я нашел человека, который умеет готовить миног.
Я не признался, что миноги не настолько мне понравились, чтобы включать их в меню пиршества.
– Не так уж много, не правда ли? – сказал Борис.
– У меня полно времени, – возразил я.
– Вам кажется. Нельзя оставлять все на последнюю минуту. Вспомните, что случилось с Вателем.
Я ушел из кафе в ещё более мрачном расположении духа, чем раньше. Борис был прав. Чтобы мой банкет, пусть и вымышленный, имел успех, надо тщательнее разработать план. Никто не хотел бы разделить ужасную судьбу несчастного Франсуа Вателя…
В лондонском соборе Святого Павла, прямо под куполом, в полу выложен круг из черного мрамора. В нем латинская надпись:
SUBTUS CONDITUR HUIUS ECCLESI?
ET VRBIS CONDITOR CHRISTOPHORUS
WREN, QUI VIXIT ANNOS ULTRA
NONAGINTA, NON SIBI SED BONO
PUBLICO. LECTOR SI MONUMENTUM
REQUIRIS CIRCUMSPICE Obijt
XXV Feb: An?: MDCCXXIII ?t: XCI.
Для тех, кого в детстве не заставляли учить латынь, переведу: “Здесь погребен архитектор этого храма и города Кристофер Рен, который более девяноста лет жил не ради личной выгоды, но ради общего блага. Читатель, если ты ищешь памятник ему – оглянись вокруг. Умер 25 фев. 1723 в возрасте 91 года”.
“Если ты ищешь памятник ему – оглянись вокруг” – эти слова хотело бы начертать на своем надгробии большинство из нас. Покинуть мир более совершенный, чем получил, – возможно ли желать лучшего? Но бывает так, что этот тезис означает не победу, а поражение. Римский историк Тацит клеймил военачальников, хваставшихся тем, что “восстановили мир” в Британии: “Они оставляют за собой пустыню и называют это миром”.
Такова была судьба одного из самых прославленных поваров XVII века – он остался в истории благодаря громкому кухонному скандалу и его трагикомическому исходу. Об этом событии я вспоминаю постоянно, поскольку живу в его центре. Если вы ищете памятник Франсуа Вателю, советую начать с нашей улицы.
Фриц Карл Ватель родился в 1631 году в Париже, в бедной швейцарской семье. Родители переделали его имя на французский лад: Франсуа Ватель. Это все, что мы знаем о его личной жизни. На единственном сохранившемся портрете изображен молодой человек с худым и невыразительным лицом и вьющимися черными волосами до плеч. Его профессиональные данные известны лучше. Лет в тридцать он стал дворецким Николя Фуке, министра финансов при Людовике XIV, а позднее сделался controleur general de la bouche (букв. “генеральный контролер рта”) одного из самых могущественных людей во Франции – принца Конде.
Конде, кузена Людовика XIV и принца крови, полагалось называть Monsieur le Prince (господин принц), но он предпочитал обращение Le Grand Conde (Великий Конде). В своем замке в Шантийи, что в пятидесяти километрах от Парижа, он жил чересчур расточительно даже по меркам XVII столетия. В ту пору одним из показателей благополучия служило число придворных, которых содержал хозяин. В Шантийи их обреталось более тысячи, и всех надо было кормить. В этом и состояла работа Вателя и Жана де Гурвиля, друга и управляющего принца.
Половина слуг такого замка, как Шантийи, должна была заниматься приготовлением и подачей еды. Сотни людей резали, мололи, крошили и толкли орехи, зерно и специи, собирали и чистили овощи, забивали, свежевали и разделывали животных. Другие ухаживали за цветами, плодовыми деревьями и домашней скотиной, следили за прудами и протоками, где водилась рыба, за числом кроликов, зайцев, оленей и фазанов в лесу: Его Величество любил поохотиться.
Приготовление пищи для знати было чревато множеством трудностей. Аристократы полагали, что одни вещества благороднее других и что благородство можно принять внутрь. Доктора эпохи Возрождения лечили раны сильных мира сего драгоценными камнями, измельченными в пыль. Лоренцо Медичи перед смертью давали молотый жемчуг, а папе Юлию II – жидкое золото. Это убеждение распространялось и на еду. Благородный дворянин должен питаться столь же благородными, редкими и изысканными яствами. Аристократия избегала овощей, растущих в земле, таких как морковь и репа, и мяса животных, которые едят подножный корм. Основу трапезы составляли фрукты, цветы и те из животных, кто летает и плавает, как можно более редкие. В случае крайней необходимости шла в пищу домашняя птица – куры и утки, но предпочтение отдавалось дичи – фазанам, куропаткам и перепелам или необычным птицам, например жаворонкам, чье пение делало их ещё более желанными. Иногда повара оставляли только языки жаворонков, выбрасывая все остальное, и готовили их в меду. На королевских трапезах часто подавали павлинов и лебедей, обычно в уборе из собственных перьев, искусно укрепленных на жареной птице.
Но ни одна птица не могла сравниться по необычности с одним крохотным представителем семейства овсянковых – ортоланом. Он слишком мал, чтобы на него охотиться, – размером с большой палец, поэтому его ловили специальными силками. Ортоланов до последней минуты держали живыми, потом топили в арманьяке, ощипывали, обжаривали и подавали в кастрюльках – cassolette, вмещавших не более одной-двух птичек. Ели их целиком, с лапками, костями и внутренностями (хотя голову самые разборчивые оставляли). Аромат от них исходил такой чудесный, что едоки, прежде чем открыть кастрюльку, накрывали голову салфеткой, чтобы не улетучилась ни одна его струйка.
Культ ортоланов жив по сей день, хотя они и считаются охраняемым видом. Бывший президент Франции Франсуа Миттеран, долго болевший раком, заказал ортоланов на прощальном обеде, который провел в компании сорока друзей незадолго до смерти. Обед напоминал о тех временах, когда редкость блюда была не только лучшей приправой, но и лучшим лекарством. Для Миттерана, всегда отличавшегося почти царственной важностью и достоинством, эта прощальная трапеза стала магической: каждое блюдо таило в себе стремление прожить ещё несколько месяцев. Один из гостей вспоминал:
Он ел устриц, фуа-гра и каплуна – все в приличном количестве. Сочные, нежные, сладкие кушанья наполняли его высохший рот. Наконец появилось последнее блюдо – маленькая желтогорлая певчая птичка, есть которую запрещено. Ортолан, создание редкостное и соблазнительное, по всеобщему мнению, персонифицирует французскую душу. И этот старик, этот ненасытный президент, поглотил его целиком, включая крылья, лапки, сердце и печень. Съел с костями и всем прочим. Уничтожил под белой салфеткой, чтобы и Господь не видел этого варварства.
Ватель отдавал все силы обширному поместью принца Конде и готовить уже не успевал. Хотя ему приписывается изобретение creme Chantilly – сливок, взбитых с ванилью и сахаром, на самом деле этот десерт появился раньше. Ватель был главным образом распорядителем пиршеств: договаривался с торговцами, организовывал развлечения, продумывал, как рассадить гостей, чтобы за столом не встретились враги, а любовницы, получившие отставку, не оказались рядом с действующими. Он должен был следить и за тем, чтобы гости сидели строго в иерархическом порядке: чем знатнее, тем ближе к королю. Это правило сохранилось до XX века и было нарушено только королем Эдуардом VII, который посадил младшего сына герцога выше, чем Артура Балфура, члена палаты общин, а заодно – премьер-министра.
Мы привыкли, что все обедающие получают равные порции одних и тех же блюд одновременно, но вплоть до начала XIX века эта система, известная как сервировка по-русски, существовала только при царском дворе, где было неограниченное число слуг. На царском обеде и двести лакеев не в диковину – по одному на каждого гостя. В других странах бытовала менее трудозатратная французская система. Обедающим подавали еду “лавинами”: сначала десяток супов, далее десяток мясных блюд, потом десяток десертов. Блюда каждой подачи выносили все сразу. Гости сами наполняли тарелки, а когда съедали достаточно, мажордом объявлял перемену. Слуги убирали со стола и ставили следующий десяток блюд. Все, что не доели гости, поглощала кухонная прислуга и прочая челядь. Система определенно не была экономной, но в этом вся соль: хозяин показывал, что богат и может не экономить.
В XIV веке бокалы были слишком редкой и хрупкой вещью, чтобы ставить их перед каждым обедающим. Если гость хотел пить, он подзывал слугу, и тот приносил бокал вина. Опустевший бокал слуга забирал обратно, споласкивал и ждал следующего вызова. Столовыми приборами едоки тоже не пользовались. В пьесе Жана Ануя “Бекет” есть сцена, где Томас Бекет представляет своему другу Генриху II новое итальянское изобретение – вилку. “На вилку накалывают мясо и кладут его в рот, – объясняет Бекет, – и пальцы остаются чистыми”. – “Зато пачкаются вилки!” – говорит король. “Да. Но их можно вымыть”. – “И пальцы тоже. Не вижу смысла”[27].
Поначалу людям было некомфортно пользоваться вилками: они напоминали вилы, которыми черти на средневековых росписях пытают осужденных на муки. Небольшое число вилок служило для того, чтобы перенести кусок на тарелку. После этого работали руками, что требовало постоянной смены салфеток. В домашнем хозяйстве XVII века стандартный обеденный набор включал всего 18 вилок, но целых 600 салфеток. Аристократический обычай есть руками отражен во французской манере ломать хлеб, вместо того чтобы резать, и кусочками вытирать соус.
С этим связана одна ошибка, которую подметил писатель Джулиан Феллоуз, сценарист сериала “Аббатство Даунтон”, действие которого происходит в английском поместье во времена Первой мировой войны. Продюсер сериала вспоминал: “У нас есть сцена, где леди Сибил в первый раз печет пирог, чтобы сделать матери сюрприз. Мы сняли стол, на котором стоят пирог, тарелки, разложены вилки и салфетки. Джулиан был очень недоволен. По его словам, аристократы стали бы есть руками. И он был прав”. Но следующий дубль, хотя и соответствует исторической правде, смотрелся бы сейчас настолько нелепо, что его так и не показали.
В 1671 году Конде полностью реконструировал Шантийи. Чтобы отпраздновать окончание работ, он пригласил 33-летнего короля Людовика XIV осмотреть и утвердить результат. Это была уловка. Конде входил в число главных генералов королевской армии и много давал на государственные расходы, и все же Людовик испытывал неприязнь к своему кузену: когда в возрасте пяти лет он вступил на престол, Конде участвовал в заговоре, целью которого было свержение малолетнего короля. Принц надеялся, что посещение Шантийи вернет ему милость Людовика: король любил, чтобы перед ним раболепствовали. Герцог Сен-Симон вспоминал: “Ничто не любил он так сильно, как лесть, или, говоря прямо, низкопоклонство. Чем грубее и неуклюжее оно было, тем более ему нравилось”. Людовик заглотил наживку; один из придворных поспешил в Шантийи, чтобы закончить приготовления к его визиту.
– Его Величество не хочет суеты, – сказал придворный принцу Конде. – Он желает провести несколько дней в покое, на лоне природы, среди самых давних и близких друзей.
Конде хорошо знал короля.
– Полагаю, это значит, Его Величество предвкушает увеселения и яства, которые соперничали бы роскошью с пирами римских кесарей.
– Именно так.
– И сколько же “давних и близких друзей” нам следует ждать?
– Всего ничего – не более пяти или шести сотен.
По меркам Людовика это действительно было скромно. Версальский двор насчитывал три тысячи человек, из них шестьсот куртизанок (вежливое именование любовниц и женщин легкого поведения).
Конде известил Вателя, что предстоит организовать по очереди три королевских обеда, а за ними – пышные зрелища. Ни одно пиршество не могло обойтись без двухчасового спектакля с музыкой, танцами, выступлениями актеров и фейерверком. Людовик придавал спектаклям особое значение, ибо мнил себя ловким танцором. Он танцевал на маскарадах в Версале и окружал себя представителями искусства, такими как драматург Мольер и композитор Люлли. Именно в Версале Люлли, отбивая такт тяжелой тростью, поранил себе ногу и умер от заражения крови – редкий случай, когда дирижер погибает на своем посту.
Королевский визит стоил Конде 50 тысяч экю – несколько миллионов современных долларов. Но деньги были потрачены не зря: уезжая, Людовик дал принцу некоторые функции в управлении финансами страны, а вместе с ними все возможности для воровства.
Король со свитой прибыли в четверг. Принц приветствовал их и провел по усадьбе. После пикника среди нарциссов (посаженных специально для этого случая) гости оседлали лошадей и поскакали на охоту. Поиски дичи продолжались и после заката; король преследовал оленя при свете луны. Затем гости возвратились в замок и отведали черепахового супа, курятины в сливках, жареной форели и фазана. За ужином последовал спектакль, завершившийся фейерверком.
Но Вателя тот вечер привел в отчаяние. К ужину вернулось больше народу, чем ожидалось. На все двадцать пять столов не хватило фазанов. За одним столом пожаловались, что вместо фазана им подсунули курицу. Потом испортилась погода. Фейерверки, которые должны были стать кульминацией вечера, отсырели. “У меня голова идет кругом, – говорил Гурвилю Ватель, близкий к истерике. – Я не спал двенадцать ночей. А теперь этот провал. Я обесчещен”.
Но худшее было впереди. По пятницам католики не едят мяса, поэтому для второго банкета готовили рыбу и овощи. Вероятно, о меню можно отчасти судить по перечню блюд, поданных в 1757 году Людовику XV:
Первая подача. Чечевичный суп-пюре и суп из латука. Восемь закусок: заливное из щавеля; белые бобы по-бретонски; сельдь, простая и соленая, в горчичном соусе; жареная макрель в пряном сливочном масле; омлет с гренками; соленая треска в сливочном соусе; лапша.