По ступеням «Божьего трона» Грум-Гржимайло Григорий
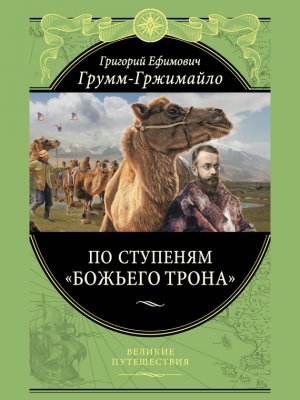
– Так мы сюда, может быть, и днем бы заехали… Разве, хозяин, в этой трущобе может существовать какая-нибудь дорога?.. Река бежит – вот дорога, и где почище, там тоже дорога…
«Резонно», – подумал я; но мне сейчас же стало понятно, почему мы то и дело натыкаемся то на скалы, то на бурелом, то на сплошные заросли ели… Мы, очевидно, шли не дорогой, а руслом потока, где до нас, вероятно, ходили только самые первобытные обитатели этих гор, какие-нибудь дикие гаогюйцы или тукиесцы, оставившие несомненные следы своего здесь пребывания.
Между тем стало светать, и по мере того, как все явственнее и явственнее становились предметы, мороз крепчал и ветер усиливался. Но мы почувствовали себя все же лучше, в особенности когда Сарымсак торжественно объявил, что самая худшая часть дороги осталась у нас позади… Я думаю! Теперь мы и сами уж видим, что ущелье р. Бай-ян-хэ совсем не такая трущоба, какой она нам казалась сначала: ущелье, как всякое лесное ущелье. И поезжай мы тропинкой, а не сбейся с пути в самую глушь, вероятно, наши бока и бока наших лошадей потерпели бы меньше.
Наш слух неожиданно поразили совсем для этих мест странные звуки, сперва слышавшиеся издали, потом все ближе и ближе… Точно благовест?!
– Сарымсак, ты слышишь?.. Что бы это было такое?!
– Ишакчи![77]
Мы были сконфужены. Сколько раз, в продолжение частых странствий своих по дорогам Внутренней Азии, мне приходилось прислушиваться к этому «благовесту в пустыне», и теперь я его вдруг не узнал! Но, странное дело, мне почему-то казалось нелепою мысль, что «нашей дорогой» может идти караван… а между тем он действительно шел, и вскоре мы даже поравнялись с турфанцами, подгонявшими длинную вереницу ослов, очень послушно несших свою громоздкую клажу. Но как уныло гудели их несоразмерно большие колокола, и как беспомощно выглядели теперь и эти милые твари, то и дело тонувшие в рыхлом снегу, и сами турфанцы, одетые в рубище и совсем изнемогавшие от трудностей пройденного пути!
Что же станется с ними на перевале?.. И мы с сожалением всматривались в эти изможденные лица и от всего сердца приветствовали их мусульманским «аман».
– Аман, аман, таксыр [господин]! – дружно отвечали нам и погонщики, точно обрадовавшись, что не они одни попали в разряд «самых отчаянных».
Бедные! Они еще не предчувствовали тогда, какую страшную участь одному из них готовит судьба… А мы, мы тоже в то время не думали, что в их лице та же судьба шлет нам своих избавителей!
Лес кончился; впереди – царство снега и скал. Но как далеко в настоящее время ширятся пределы его – никому неизвестно.
Сарымсак провел буйную молодость: он был воин и барантач[78]. Был случай – он неожиданно разбогател и поселился в Хами. Родственник старшей жены Башир-хана, он пользовался там чрезвычайным почетом, но праздная жизнь была ему не по сердцу. Прельстившись ролью странствующего купца, он снарядил свой караван и стал разъезжать по поселкам и городам; однако скоро заметил, что и эта роль ему не к лицу. Он бросил торговлю, роздал вырученные деньги в долги и бежал на Алтай к киргизам-киреям. Много лет прожил он их вольною жизнью, не раз гонял их стада на продажу в Гучэн, в качестве главного пастуха, зимовал в глухих ущельях Тянь-Шаня, но в конце концов бросил киргизов, перебрался снова в Гучэн и тут жил в качестве простого джигита у богатого ходжентского выходца, когда вдруг узнал, что в окрестности города прибыли русские. Сарымсак угадал в нас именно тех людей, каким и он был всю свою жизнь, – вечных странников! – и тотчас же решился… С тех пор он не покидал нашего каравана и служил нам верой и правдой. Так вот что за человек был Сарымсак!
Но и он озирался теперь с удивлением и беспокойством при виде необъятных масс снега кругом. Его беспокойство передалось тотчас же и нам.
– А что, Сарымсак, никак ты сбился с дороги?
– Н-нет… но я не могу найти каменных исписанных плит, о которых я тебе, таксыр, только что говорил… А! Вот они! Поезжай вон на тот бугор, а мы с Глаголевым пока потихоньку станем взбираться на перевал… – Он что-то добавил еще, но последних его слов я уже не слыхал.
Я лез на указанный мне бугор и внимательно осматривал каждый встречный мне камень. Наконец я наткнулся на два стоймя поставленных крупных осколка филлита, которым искусственно придана была сверху округлая форма. На них были отчетливо выбиты усатые лица монголов.
Это были знаменитые «бабы», каких не мало разбросано на всем обширном пространстве юга России, от границ старой Польши до пределов Саян и Алтая; так далеко на юго-востоке их, однако, еще вовсе не находили, и в этом мы должны, без сомнения, видеть весь интерес нашей находки.
Кроме каменных баб, никаких «исписанных непонятными» буквами плит я не видал: все прикрыл здесь предательский снег! И точно его еще мало навалило кругом! Он снова пошел, и на этот раз точно сговорившийся с ним заранее ветер подхватывал массы его и нес нам прямо навстречу. Начинался настоящий буран.
Я быстро скатился с бугра, но нигде – ни впереди, ни внизу – спутников своих уже не нашел. Я пробовал крикнуть, но что в такое время мог значить крик человека? К счастью, я набрел на их след, который не успело еще вполне замести. Из всех сил устремился я по этому следу, хватаясь за него, как, вероятно, только утопающий хватается за соломинку. Рыхлый снег, в котором я утопал то и дело, до крайности измучил меня, когда вдруг, впереди я увидал нечто черное… «Не они ли?» – мелькнуло в уме. Но я тотчас же решил, что ошибся. Действительно, это был пологий выступ скалы, прикрытый мерзлой землей и черною, мелкой галькой. Здесь проходила тропинка, на которой явственно отпечатались свежие следы лошадей. Я вскочил на свою и несколько мгновений спустя находился уже снова рядом с Глаголевым и Сарымсаком.
Мы начали свой трудный подъем на Буйлук.
Не вовремя налетевшая туча прошла. Небо очистилось, и солнце ослепительно заблистало на белой поверхности гор. И в природе и у нас на душе стало вдруг как-то радостно: чувствовалось, что беда миновала. Мы стали даже шутить и тут только уже спохватились, что сильно продрогли. Я на ходу посмотрел на термометр – 11° ниже нуля!
– До перевала еще далеко?
– Нет, близехонько…
Но мы шли еще целый час. Снегу здесь уже не было. Гора смерзшейся желтой и черной гальки, прорванной только в двух-трех местах выходами метаморфических сланцев, – вот что такое Буйлук.
С перевала хотя и открывается обширнейший горизонт, но смотреть было решительно не на что: в непосредственной близи только снег, да из-под него торчащие скалы, а на краях горизонта фиолетовые гребни хребтов и отрогов.
Спускаться было легко. Мы и не заметили, как вышли в узкую котловину, обставленную всюду горами, кольцо которых прерывалось только в одном месте рекой. Сперва мы было и направились в эту сторону, но вдруг Сарымсак спохватился:
– Нет, не сюда…
Мы повернули назад, завернули за какую-то щель и остановились: громадные массы снега загораживали дорогу.
Сарымсак сдал заводных лошадей казаку и поскакал назад в котловину. Полчаса спустя мы заметили его на скале: он усиленно махал нам руками.
– Вот что, таксыр, – говорил он, силясь казаться покойным, – сколько раз ни ходил я этой дорогой, но такого снега в боковых ущельях совсем не припомню. А между тем сворот на Кичик-даван приходится именно на одно из этих ущелий… Рассмотрите же их: все как один! Снег не только замел все следы нашей дороги, но и скрыл все приметы, по которым только и возможно было угадать направление.
– И ты решительно отказываешься вести нас вперед?
– Я боюсь ошибиться…
– Тогда надо назад…
Но Сарымсак указал мне на небо: солнце успело уже сделать более половины своего дневного пути и теперь ежеминутно готовилось погрузиться в надвигавшиеся с запада густые черные тучи.
– Поздно!.. Буран…
– Да, но ведь и эта яма нас от бурана не спасет, а там, на перевале, все-таки снега поменьше… Если же доберемся до Бай-ян-хэ, то там хоть в лесу приютимся!..
С этим последним доводом спутники мои согласились, и мы повернули назад своих лошадей.
– Чу?!.. Благовест! Неужели ишакчи?
– Ишакчи! Ишакчи!..
Мы обрадовались им, как своим избавителям. Сразу воскресла надежда, и не напрасно: турфанцы указали нам Кичик-даванскую щель.
– Аман! Аман! – Мы расстались вторично и, как нам теперь думалось, навсегда. Но судьба сулила иначе. Три недели спустя ишакчи нас разыскали и просили помочь умиравшему их товарищу. Но ему могла теперь помочь одна только смерть… Это был почти уже труп с совсем обезображенными конечностями…
– Что это?! Что случилось? Как дошел он до такого ужасного состояния?
– А ты помнишь, господин, как мы тогда с вами расстались? Его осел не пошел, он остался там ночевать и замерз…
Опять снега. Опять буран. Опять подъем и, наконец, спуск в ущелье, которое должно было вывести нас сначала в долину р. Керичин, а потом и к турфанскому поселку Кок-яф.
Солнце садилось. Но, к счастью, мы успели далеко за собой оставить снега, а тут уже нас гостеприимно приветствовал теплый воздух низин. Мы вздохнули свободнее.
– А далеко ли, Сарымсак, до Кок-яра?
– Да километров тридцать осталось…
– Как тридцать километров? Да ведь солнце уже закатилось!
– Закатилось…
Положение наше становилось трагическим.
– Послушай, Сарымсак! Да нельзя ли где-нибудь остановиться поближе… Ведь мы часов пятнадцать не ели…
– А что будем есть?
Я вспомнил, что с нами, действительно, не было решительно ничего, кроме чая и сахара, так как рассчитывали ночевать не в степи, а в селении.
– Ну, чай вскипятим, по куску хлеба найдется, а лошади, по крайней мере, отдохнут и пощиплют травы.
– Здесь «харюза»[79]. И травы, годной для корма скота, не растет. Здесь все сеяное, все покупное. Первое же селение и будет Кок-яр…
Мы спускались все ниже. Ночь. На небе ни облачка, и луна прекрасно освещает наш путь. Густые тени; неверное, фантастическое освещение скал, непомерно высокими и зубчатыми стенами стоящих по обе стороны от дороги; наконец, мягкий грунт этой дороги и, главное, необыкновенная тишь в воздухе – все это на время мирит нас с перспективой еще тридцатикилометровой езды… Желая, однако, сократить время, мы гоним лошадей рысью и то ныряем в густую тень, то снова выскакиваем на освещенную луною площадку. Ущелье становится уже. Мы объезжаем какой-то каменный вал. «Морена!» – мелькнуло у меня в голове, но Сарымсак сообщает, что это остатки китайского укрепления. Мы минуем его. Ущелье снова расширяется, и горы мельчают. Впереди ясно обозначилась необъятная даль. Но мы почему-то сворачиваем на запад.
– Это куда?
– К Керичину.
Но Керичин не показывается. Ущелье опять то ширится, то снова суживается, и так без конца.
– Сарымсак, далеко ли еще?
– Не далеко.
Еще прибавили ходу, но впереди все те же картины.
– Далеко ли?
– Не знаю…
Наконец, мы въехали, как нам показалось, в ворота. Это точно природный туннель. Совершенная темень… И вдруг в этой темени мелькнули огни, послышались голоса, зашумела вода…
– Кок-яр?
– Керичин…
– А кто эти люди?
– Такие же проезжие, как и мы.
Сарымсак подъехал к этим проезжим.
– У них, таксыр, с собой нет ничего: ни хлеба, ни фуража. Надо ехать вперед. Кок-яр уже близко. Нет пяти километров.
Мы переехали реку, миновали рощу туграков и полезли на какую-то гору.
– Сарымсак, куда же мы лезем?
– Кок-яр за этой горой.
Луна светит по-прежнему. Легко догадаться, что мы едем грядой, отличной от осевого Тянь-Шаня, но ему параллельной: там метаморфические породы, здесь же глина, конгломераты, песчаники; но как там, так и здесь совершенное бесплодие, даже больше: там хоть изредка мелькала полынь, чий, кусты караганы, может быть, другие растения; здесь же, кроме Eurotia ceratoides, ничего. Лошади тянулись к этому полукустарнику, но потом отворачивались гадливо. Становилось их до невозможности жаль.
Но зачем-нибудь горы эти да посещались людьми, и, вероятно, вовсе нередко, судя по значительному количеству колесных путей и конных тропинок. Сарымсак вспомнил, что встречал здесь не раз ишакчей, везших каменный уголь. Но теперь нам было решительно не до угля. Мы уже сбились с дороги и меняем одну тропу на другую.
Мы спустились с горы: перед нами безграничная каменистая степь – «харюза». Мы твердо верим, что стоит нам ею проехать всего каких-нибудь километра два и перед нами блеснут в овраге воды Кок-яра. Но взамен оврага мы наткнулись на горы.
– Мы взяли слишком направо, надо левее… Эта гора примыкает к Кок-яру…
– Слышите, ваше благородие, никак это петух?..
И Глаголев, в полном убеждении, что не ослышался, взбирается на соседний бугор… Горы, горы и горы… Так на западе, а на юге безграничная каменистая степь… И на всем этом пространстве никакого следа жилья человеческого.
Сарымсак опустил голову:
– Я заблудился!..
Был первый час ночи. Почти целые сутки и мы, и лошади были совсем без еды. Но есть не хотелось. Всех мучила теперь только жажда… воды! Но где было взять эту воду?..
Мы связали своих лошадей и уселись на берегу сухой водомоины дожидаться утра…
А при первых проблесках света Сарымсак подвел мне коня и, указывая на запад, сказал с какой-то особенною грустью в голосе:
– Посмотри, господин, вон башня. Это «Бадаулет-курган», под ним поселок Кок-яр-аягэ. Мы не заблудились, но не доехали…
И потом вдруг добавил:
– Да, стар становлюсь! Пора уже думать мне и о смерти…
Когда я осмотрелся, то мне представилась такая картина.
Далеко вперед, в бесконечную даль, уходила каменистая пустыня, изрезанная кое-где обросшими хвойником неглубокими и плоскими водомоинами, имевшими общее направление на юго-восток. Там общий характер местности изменялся: виднелся яр р. Керичин и большие массы зелени – поля ак-джугары, принадлежащие поселку Чиктым. На западе местность выглядела пустыннее, и только одна желтая масса Бадаулет-кургана подсказывала нам близость человеческого жилья.
Обрыв р. Кок-яр стал обозначаться на пятом километре, но мы ехали еще целый час, прежде чем добрались до выселка Кок-яр-аягэ, расположенного на дне глубокой и широкой долины этой реки. Выселок состоял из трех-четырех хозяйств, неизвестно чем здесь существующих, так как галечная почва речного русла была малопригодна для земледелия. На убогих клочках, по соседству, впрочем, все же высевалась пшеница и разводились бахчи, но какого громадного труда должны они были стоить поселившимся тут земледельцам!
За час до полудня мы распростились со стариком-турфанцем, суетливо хлопотавшим около нас, переехали широкий, поросший карагачевым кустарником сай Кок-яра, с трудом взобрались на правый крутой его берег, осмотрели развалины Бадаулет-кургана, выслушали рассказ о чрезвычайной глубине находящегося там колодца и снова пустились в дорогу.
Перед нами опять харюза – каменистая степь, покрытая черной галькой, которая нестерпимо отсвечивает солнечные лучи. Ни одной былинки, куда ни взгляли! Даже Ephedra здесь не растет.
Мы в пустыне, но горизонт наш сужен миражем, который стелется впереди либо гладкой поверхностью озера, либо волнующимся туманом, принимающим самые чудные очертания. Чем ниже опускается солнце, чем резче становится разница в температуре и плотности между различными слоями атмосферы, тем ближе и ближе надвигается и на нас этот туман. Наконец, нам самим уже начинает казаться, что мы точно взвешены в воздухе и вместе с тем уголком степи, по которому бегут наши кони, плаваем в волнах эфира… Странное впечатление! Временами из этого оптического тумана выплывают какие-то гигантские фигуры людей, которые в следующее мгновение оказываются проезжими турфанлыками. «Аман, аман!» – приветствуем мы друг друга и, разминувшись, продолжаем свой путь в том же тумане.
Но вот, наконец, мы распрощались с каменистой пустыней! Мы съехали в какую-то впадину, туман перед нами рассеялся, и впереди во всю свою ширь раскинулся богатейший оазис Ханду.
Ханду окружен с севера концентрически сходящимися рядами круглых насыпей с четвероугольными, обделанными деревом, отверстиями посередине. Это – карыси, колодцы, вернее системы колодцев, соединенных между собой трубами, по которым подпочвенная вода и выводится на поверхность. Об этих замечательных гидротехнических сооружениях я буду иметь еще случай говорить ниже; здесь же заечу, что, так как карыси обеспечивают существование оазисов Турфана, то местное население относится с особенным уважением к лицам, знакомым с сооружением сих последних; в тех же исключительных случаях, когда ремонт или сооружение таких карысей обходится не без человеческой жертвы, то погибших хоронят на общественный счет и к могилам их относятся с таким же почтением, как к могилам святых.
После стольких километров бесплодной пустыни Ханду своими садами, тенистыми аллеями и по всем направлениям струящимися ручьями прозрачной воды производит чарующее впечатление. Впрочем, и при других условиях он не может не произвести подобного же впечатления на заезжего человека. Это настоящая «жемчужина» среди оазисов Востока и по своему благоустройству и богатству не имеет соперников в Центральной Азии. Побывав в Ханду, невольно уносишь оттуда такое впечатление, что в нем нет бедных и что вся община, как один человек, посвящает все свободные силы свои заботам о красоте общего обиталища.
Только центр оазиса застроен сплошным рядом домов; но даже и тут, впереди и позади их, подымают свои вершины вековые туты, ясени, («чарын» по-туземному), айланты (чулюк) и карагачи, которые в течение всего почти дня удерживают на улице тень. А от этой улицы, сходящейся с несколькими другими у центрального пруда, через который перекинут красивый, китайской архитектуры, мост, во все стороны идет сплошной лес, в котором персики, абрикосы, «нашпута»[80], айва (джуджиль), гранаты (анар) и груши (альмуруд) теснятся под тень таких гигантов, как волошская орешина, карагач, платан и серебристый тополь. Вдобавок и жилища, и глинобитные стены оград местами густо оплетены здесь «сарыготом» или красиво убраны виноградом. Но не сады, не местные опрятные постройки и не всюду бегущие ручейки привлекают здесь главное внимание путника, а поля, которые распланированы в Ханду с замечательным искусством и содержатся так, как, вероятно, нигде в другом месте; а между тем они ничем не ограждены и только линии тутовых посадок разбивают их на участки. Все улицы в Ханду также обсажены тутом, карагачем или пирамидальным тополем и отличаются поразительной чистотой, чему в значительной мере содействуют как сухость климата, так и обычаи утилизировать всякие отбросы, которые в других местечках и городах выбрасываются на улицу: часть идет на топливо, а часть на изготовление компостов.
Мы прибыли в Ханду вечером, когда уже на улицах толпился народ, возвратившийся с пашен, и среди этой толпы мы не заметили ни одного оборванца: чисто вымытая рубашка (кунпэк) виднелась на богатом и бедном, которые если и различались между собой, то только большей или меньшею ценностью своего головного убора – допы или материей на джаймэке; у большинства джаимэк был крыт местной цветной бязью, а у богатеев и местных франтов – русским тиком. Хотя несомненно, что Ханду в гостях у себя видел европейцев впервые, но толпа, при нашем появлении, не обнаружила ни малейшего любопытства. Она даже как будто нас сторонилась и безучастно отнеслась к нашим расспросам: где бы мы могли пристроиться на ночь? Нам указывали то на один дом, то на другой, но там или не оказывалось хозяина, или хозяин бесцеремонно нас выпроваживал, заявляя, что принять нас у себя он не может из боязни китайских властей, которые, придравшись к случаю, выжмут из него последние соки. «Если бы, – добавлял он, – турфанский амбань уведомил нашего доргу[81] о вашем прибытии, то любой дом мог бы служить вам пристанищем; а теперь, помимо дорги, едва ли кто решится вас принять у себя».
– Ну, в таком случае, покажите нам дорогу к дорге!
Дорга сказался отсутствующим. Но его заместитель оказался любезнее и тотчас же отвел нам приличное помещение. «Видите ли, – говорил он дорогой, – если бы вы ближе знали, в какой кабале нас держат китайцы, то не стали бы сетовать и на наше негостеприимство – своя шкура, конечно, каждому ближе».
– Да ведь вот нашлось же у тебя для нас помещение…
– Нашлось потому, что мы не знаем, что вы за люди. Боимся пересолить. А вдруг как окажется, что вы с китайского ведома здесь разъезжаете? Тогда опять ведь беда!
В удостоверение того, что так оно и есть в действительности, я показал аксакалу наш паспорт. Этого было достаточно, чтобы сразу же расположить в нашу пользу туземные власти. Хандуйцы нас тотчас же окружили, и в болтовне с ними мы незаметно провели время до ужина.
Еще подъезжая к Ханду, мы заметили на юге невысокую гряду гор; но только на следующий день, при выезде из помянутого оазиса, нам удалось разглядеть ее подробнее. Ее нам называли различно: Туз-тау и горой Иеты-кыз. Последнее название, означающее «Семь дев», приурочивалось, впрочем, как кажется, к тому только участку гряды, который возвышался на юг от Лемджина. Странным названием этим гряда обязана семи глыбам выветрившегося песчаника, венчающим вершину горы и имеющим, если смотреть на них из долины, действительно некоторое сходство с человеческими фигурами.
Местное население чтит эту гору, связав с ней одно из многочисленных преданий своих; но надо иметь, действительно, не в меру пылкое воображение, чтобы в изображенных на прилагаемой фототипии глыбах песчаника видеть окаменелых по воле Аллаха девиц. Впрочем, как истые мусульмане, турфанцы и не приближаются никогда к этим причудливым скалам, будучи твердо убеждены, что смельчаку, который рискнул бы на это, грозит половое бессилие. И уж на что Сарымсак или мой джигит Ташбалта, но и те отказались сопровождать нас с братом на эту гору, когда мы снова, неделю спустя, съехались с нашим отрядом в Лемджине. Если не считать этих вершин, то гряда Туз-тау с севера представляется высоким валом, поражающим монотонностью в окраске и однообразием в контурах. Иною представляется она в поперечных долинах своих, но об этом будет сказано в своем месте.
Ханду отделяется от Лемджина неширокой полоской глинистой пустыни, частью лишенной вовсе растительности, частью поросшей верблюжьей колючкой, солодкой и некоторыми солянками. Это обычное место остановки верблюжьих караванов, идущих из Лян-чжоу-фу в Карашар и далее в города Джиттышара. Один из таких караванов располагался здесь и сегодня в тот самый момент, когда мы с рассветом покидали Ханду.
Лемджин занимает обширную площадь, вытянутую километра на четыре вдоль подошвы Туз-тау; благодаря, однако, широким рукавам гальки, разбивающим ее на участки, в ней сравнительно немного земли, годной под обработку. Зато ключи и карыси дают здесь столько воды, что ее хватает даже на рисовые поля. Центр Лемджина составляет базар – несколько чистеньких китайских и дунганских лавчонок, приютившихся под сенью громадных деревьев. Здесь проходит главный тракт и сюда же сходятся все дорожки и тропы, ведущие к отдельным группам домов и хозяйств, на которые естественно распадается Лемджинская община. Но с большой дороги этих хозяйств в большинстве случаев вовсе не видно, – так густы здесь повсеместно древесные насаждения!
Западная окраина Лемджина, называемая Лемджин-кыр, ныне заброшена: постройки развалились, бывшие поля заросли верблюжьей колючкой (джантак) и другими сорными травами. Местные карыси здесь иссякли вследствие выборки подпочвенной воды слишком развившимися соседними карысными системами Су-баш и Лемджина.
За Лемджин-кыром расстилается пологая, глинистая, совсем бесплодная впадина, сохранившая все следы бывшего озера. Несколько в стороне от дороги здесь производят ломку соли. Слегка горьковатую, с значительными цветными примесями, соль выбирают на глубину 600–900 см из подпочвенных пустот, которые она и выстилает друзами довольно крупных кристаллов.
Следующее селение, расположенное в семи километрах от Лемджин-кыра и насчитывающее не менее 50 дворов, было Су-баш, названное так потому, что ключи его и обширная карысная система питают значительный оазис Туёк, расположенный по южную сторону кряжа Туз-тау. Су-баш в настоящее время слился с Сынгимом, обширным оазисом, насчитывающим до 450 дворов. Он так же, как и Лемджин, тянется узкой полоской вдоль гор и на западе отграничивается крутым обрывом отрога Туз-тау, под которым струится ключик Уртанг.
Спускаясь вниз по текущей среди высоких камышей речке Уртанг, мы втянулись в ущелье, рассекающее горы Туз-тау, и вскоре затем вышли на более многоводную речку Мултук, истоки которой находятся в ключах и карысях выше довольно значительного селения с тем же названием, расположенного по северную сторону Туз-тау и западнее вышеупомянутого отрога.
Долина р. Мултук, поросшая облепихой и лозняком, замечательна теми остатками старины, которые сохранились здесь еще с уйгурских времен: в долине заметны следы укрепления, в горах левого берега выбиты капища и монастырские кельи, в которых превосходно разрисованная штукатурка до сих пор еще не осыпалась и сохранила необыкновенную яркость красок; по выходе же из гор, где речка получает название Кара-ходжа, вдоль нее всюду виднеются развалины городов, надгробные памятники и глинобитные постройки менее определенного типа.
При выходе речки Кара-ходжа из гор расположен небольшой выселок Сынгим-аузе. Дорога здесь разветвляется: юго-восточная ветвь сворачивает в селение Кара-ходжа; юго-западная, прямо через каменистую пустыню, поросшую в изобилии Capparis spinosa («каппа»), Alhagi kirghisorum и Zollikoferia acanthoides, идет на Турфан. Мы свернули на эту последнюю, но проехали ею не более двух километров. Было уж поздно; к тому же, сделав сегодня не менее 40 км, мы имели право подумать об отдыхе. С этой целью мы оставили большую дорогу и прямиком направились к выселку Ауат, в котором, после некоторых колебаний, нам, наконец, и отвели приличное помещение.
Ауат – это небольшой, полузасыпанный песками и весьма бедный поселок, в котором мы еле-еле могли собрать достаточное количество фуража для лошадей и кое-какой провизии дли себя: несчастные ауатцы, без разрешения своих хозяев, лишены были права продавать что бы то ни было в посторонние руки! И то, по просьбе продавцов, мы должны были разыграть роль каких-то бандитов, силой отымавших все то, в чем нуждались.
Проснувшись чуть свет, мы тронулись мимо развалин, приписываемых Абдулла-беку, потомку турфанских князей, полузасыпанных также песками. Пески эти местного происхождения. Некогда вся местность между Кара-ходжа и Турфаном была покрыта тростниковыми займищами, питавшимися отчасти подпочвенной водой, а отчасти и водой карысей и ключей, спускавшейся сюда в осеннее и зимнее время. С развитием, однако, подземного дренажа и образованием целого ряда выселков на линии Чиль-булак – Кара-ходжа-карысь камыши исчезли. Тогда турфанцы набросились на выкорчевывание тростниковых корневищ – «чаткала», служащих им и поныне топливом. Беспощадный кетмень разрыхлил и без того уже безмерно сухую и песчаную почву турфанской долины, а ветер собрал ее в длинные, темно-серые гривы, загоняя их все дальше и дальше на запад, к Турфану, где пески уже засыпали немало культурной земли.
Дорога по этим пескам утомительна. Воды нет, несмотря на то, что мы целые километры едем над подземными трубами с проточной водой; растительности никакой; из животных – одни только ящерицы, принадлежащие к распространенным в Центральной Азии родам – Eremias и Phrynocephalus; зной до такой степени сильный, что в летнее время сообщение по этой дороге прекращается, и путники направляются из Турфана в Люкчун кружным путем через Турфан-керэ, Кош-карысь, Спюль-аксакал-карысь, Чаткал и Ходжа-Абдулла-бек-карысь.
При сходе ауатской и сынгимской дорог выстроена харчевня. Здесь же проходит и граница Турфанского оазиса – на восточной окраине пустынного, лишенного почти вовсе древесных насаждений, но зато интересного своими развалинами, относимыми к уйгурскому времени. Так, между рукавами речки Булурюк-баур, из коих восточный пробегает в шести километрах к западу от схода дорог, находятся развалины уйгурского укрепления, поражающего не размерами, но необычайной толщиной своих стен. Стены эти выведены почти в квадрат, снабжены фланкирующими башнями по углам и внутри не содержат ничего, кроме безобразных груд мусора и бесформенных возвышений. Бывшее укрепление это дает ныне приют одному только бедному турфанскому семейству, члены коего пробили себе в старых стенах ряд келий и умудрились провести сюда небольшой рукав из ближнего арыка для орошения бахчей и огорода, разведенных среди помянутых выше мусорных куч.
Проехав мимо обширного кладбища и красивой мечети, переделанной, по словам местных жителей, из христианского (несторианского) храма, мы увидали, наконец, впереди Гуан-ань-чэн – китайский Турфан. Города этого мне не пришлось посетить, но, по словам туземцев, внутренняя его распланировка, а затем и архитектура частных и казенных зданий имеют вполне шаблонный характер. Китайский базар его беден, хотя и занимает всю главную улицу от западных к восточным воротам; последние остаются постоянно закрытыми. Он выстроен в виде прямоугольника, вытянутого вдоль большой дороги, обнесен новыми, высокими стенами с двойной защитой и башнями по углам и имеет, кроме вышеупомянутых двух главных ворот, еще ворота на юг, где одной длинной и частью крытой улицей расположилось городское предместье, населенное дунганами, китайцами и таранчами. Через это предместье, огибая городскую стену, и проходит арбяная дорога из Люкчуна в Турфан. Здесь же находится и та таможня, на обязанности коей лежит взимание акцизного сбора; она тотчас же бросается в глаза своей окраской – кирпично-красными кругами на белом фоне простенков.
Против китайского города, в километре расстояния, расположен старый тарачинский Турфан, называемый иногда, в отличие от Уч-Турфана, Куня-Турфаном. Широкая грунтовая дорога, ведущая к нему, окаймлена арыками, за которыми, по обе ее стороны, виднеются пашни, засеянные ак-джугарой и кунжутом. Самый город не велик и окружен тонкими, от времени совсем растрескавшимися, зубчатыми стенами. Зато он полон жизни, и внутри, благодаря пестрый толпе, производит приятное впечатление. Вдоль главной улицы, идущей от ворот до ворот, т. е. от востока к западу, тянутся ряды ларей и лавок; это – главный базар, центральное место которого занято высокой и красиво выстроенной китайской кумирней. Близ нее начинаются ряды с русским товаром: мануфактурой, железными изделиями, писчебумажными принадлежностями, сахаром, свечами, спичками и т. п. предметами; тут же находится и обширный караван-сарай русских купцов, которые встретили нас с почетом и отвели прекрасное помещение.
Турфанская область славится своей зеленой коринкой [изюмом], хлопчатобумажными грубыми тканями (даба), фруктами и дынями, которые и служат главнейшими статьями вывоза в соседние области, а частью и далее – в застенный Китай. Но этим экспортом не занимаются турфанлыки. Они точно боятся значительных операций и давно уже передали всю оптовую, а частью и розничную, торговлю в посторонние руки. Оттого-то Турфан и пестрит самыми разнообразными лицами и костюмами, в которых турфанский национальный джаймэк играет весьма малозаметную роль. И действительно, в Турфане считается постоянных жителей всего около 5 тысяч душ: из них 10 % выпадает на долю китайцев, 20 % на долю дунган и 20 % на долю выходцев из других округов Восточного Туркестана; пришлых же, в особенности в осеннее время, так много, что какие-нибудь полторы-две тысячи взрослых турфанцев совсем исчезают в этой толпе, которая к тому же, как наиболее деятельная часть населения, всегда на виду: на базаре или на большой дороге в окрестные города.
Турфан как город ничем не замечателен. Он выстроен по типу всех остальных крупных городов Туркестана и, за исключением упомянутой выше кумирни, не имеет красивых построек.
О времени его основания нам ничего неизвестно; в истории же имя это впервые упоминается в 1377 г.[82] К половине XV в. Турфан, пользуясь слабостью смежных владений – Могулистана (Беши-балыка) и Хотана, стал усиливаться и, овладев Люкчуном и Кара-ходжа (Хо-чжоу), приобрел первенствующее положение среди мелких владений, на которые в то время распадались земли Восточного Туркестана. С 1469 г. княжество это стало называться султанством; несколько же лет спустя уже владело Хами, власть над которым упрочилась, однако, вполне не ранее 1513 г. С усилением в соседней Джунгарии союза ойратских родов значение Турфана стало падать, и уже в 1646 г. турфанский владетель вынужден был искать покровительства маньчжурского дома, что не спасло, однако, его владений от калмыцкого ига: к исходу XVII столетня, после того, как Куку-нор и Тибет уже давно находились в их власти, калмыки овладели не только Турфаном, но и всеми остальными землями Восточного Туркестана. С тем вместе существование этого княжества, как самостоятельного владения, прекратилось[83].
Глава тринадцатая. По Турфанской области
Сделав все необходимые закупки, 6 октября мы выступили в обратный путь на Люкчун и Пичан, где должны были, наконец, вновь соединиться со своим караваном. Это был пренеприятный день, и для Турфана крайне редкое, почти случайное, явление: в течение почти целого дня шел мелкий дождь, а к ночи термометр показывал уже ниже 0°.
До последнего рукава речки Булурюк-баур мы ехали прежней дорогой; здесь же свернули вправо и, минуя пески, направились несколько более кружной, летней, дорогой в Кара-ходжа, через селения и выселки: Турфан-керэ, Кош-карысь, Спюль-аксакал-карысь, Чаткал, Чиль-булак, Туру-карысь, Кара-ходжа-карысь, Ходжа-Абдулла-бек-карысь и множество других, оставшихся к югу от нас и составляющих один сплошной пояс богатейшей растительности, протянувшийся отсюда далеко на восток. От поселка Абдулла-бек-карысь мы свернули на Ауат и, миновав его, остановились в базарном селении Астына, занимающем центральное положение в общине Кара-ходжа. Ночевали в двухэтажном доме, отданном за ничтожную плату внаем двум выходцам из Русского Туркестана, торгующим русской мануфактурой и другими изделиями вот уже свыше шести лет в одной только этой общине. Купцы уже были предупреждены о нашем прибытии и теперь поджидали нас с дастарханом, состоявшим из нескольких подносов с лепешками и сухими фруктами, подноса с тонкими лепестками нарезанной дыни, из плова и чая.
Едва на следующий день выехали мы из селения, окруженного, как и все почти остальные селения Турфанского округа, широким поясом садов, как уже завидели впереди развалины знаменитой резиденции идикотов Уйгурии, т. е. древнего Хо-чжоу. Сводчатые, изнутри оштукатуренные постройки, мощные стены, в которых, как в скалах, местные жители высекли себе сакли, круглые башни, в одном фасе трое ворот, защищенных выдвинутыми вперед стенками, – все это носило в себе не только отпечаток седой старины, но и характер, чуждый современной туркестанской или китайской архитектуре.
У Хо-чжоу дорога разветвляется; оставив туёкскую ветвь влево, мы обогнули помянутые развалины и вышли на глинистую степь, только в начале поросшую Alhagi kirghisorum, дальше же совершенно пустынную и местами усыпанную черной галькой. Но как раз здесь стали мелькать перед нами одни развалины за другими, что, конечно, свидетельствует, что некогда и тут царствовало оживление, что и сюда проводилась вода…
Прежде всего, к северу от дороги, мы увидали остатки стен недостроенной крепости времен Якуб-бека и тут же еще одно древнее укрепление. Затем, почти до полуразрушенного дунганского поселка Ян-хэ, перед нами постоянно мелькали и справа и слева остатки стен, древние кладбища, отдельные стоящие пирамидообразные массивные надгробные памятники (ступы?) и кучи красноватой глины и кирпича, успевшие принять уже совсем бесформенные очертания. Километрах в пятнадцати мы встретили развалины кишлака и через четыре километра прибыли в селение Ян-хэ-шар, давшее название целой общине, цветущие поселения коей виднелись на юг от дороги.
Ян-хэ-шар оставляет странное впечатление. Это довольно узкая улица, обставленная аккуратно выстроенными и прекрасно оштукатуренными домиками, окруженная отовсюду поясом каменистой пустыни; ни былинки кругом, ни былинки внутри – пусто и мертво. Ян-хэ-шар был покинут дунганами после того, как со взятием Турфана Якуб-бек овладел всей областью. Из прежних его жителей, переживших события шестидесятых и семидесятых годов, остались всего одна-две семьи, да и те непонятно чем поддерживают здесь свое существование. Нас встретили здесь два дунганина и апатично проводили глазами.
– Да откуда берут они воду?
– Из колодцев.
– А чем живут?
– Дунганин с голоду не помрет…
Но ответ этот, конечно, не разъяснил нам ничего.
Между Ян-хэ и Люкчуном дорога пересекает совсем бесплодную пустыню, которую прерывает один только поселок Лянгэ; взамен того, и справа и слева виднеется непрерывный пояс зелени, который обозначает собою оазисы: на юге Ян-хэ-карысь, на севере – упоминавшийся выше Туёк.
Люкчинский оазис с запада не начинается, как большинство других мест оседлости в Турфанской области, густейшими насаждениями, а группой частью заброшенных хозяйств с жидкой древесной растительностью, среди которой бросаются в глаза особенно джигда и айлант. Этой беднейшей частью оазиса, получающей воду из особой системы карысей, мы ехали, впрочем, недолго и с километр дальше были уже в виду невысоких стен города.
Люкчун окружен старой, полуразвалившейся скорее оградой, чем крепостной стеной, без валганга [насыпи у стены] и башен; ворота, сколоченные из довольно толстых досок, не имеют защиты. Вообще же город этот едва ли может оказать какое-либо сопротивление даже партизанскому отряду, не говоря уже о сколько-нибудь организованном враге. Внутри он тесен и грязен, и все постройки его, его базар и постоялые дворы носят следы крайней бедности. Впрочем, я видел теперь только ту его часть, которая населена ремесленниками, торговцами и извозчиками; знать же, дворянство («ак-суек» – белокостные) и служилое сословие теснятся в другом его конце, ближе к дворцу князя, и тут, действительно, город выглядит наряднее, хотя в этом отношении он и значительно уступает предместью, правильнее, остальной части оазиса, поражающей богатством своей растительности, скрашивающей убожество крестьянских построек и оттеняющей азиатское, конечно, великолепие княжеских и дворянских загородных домов.
В Люкчуне мы не могли отыскать себе помещения. Постоялый двор, указанный нам, был положительно невозможен по своей грязи; частные же лица, подобно хандуйцам, из боязни перед своими властями, отказывали нам в приюте. Не зная, как быть, мы выбрались из города и направились по большой дороге, ведшей мимо обширного княжеского сада. Близ ворот этого сада, выстроенных в китайском стиле, мы повстречали двух старцев, к которым и обратились с просьбой помочь нам указанием – где искать помещения для ночлега. Узнав, что мы русские и что я чиновник, один из двух стариков, оказавшийся Богры-алям-ахуном, воскликнул: «Так, так! Таковы наши порядки в Люкчуне! Негоднейшего китайца принимают там с почетом, русскому же чиновнику не находится хотя бы только сносного помещения! Ну, да пожалуйте ко мне – мне китайские прихвостни не страшны…» И старец повел нас на обширный двор, обставленный яслями, а оттуда, через ворота с нишами для прислуги, на внутренний маленький дворик, упирающийся в высокое двухэтажное здание.
«Здесь вы развьючите лошадей, а вещи сложите вот в эту кладовку» – и он открыл одну из дверей флигеля, который с трех сторон окружал дворик. «А вы, – обратился он ко мне, – пожалуйте за мной».
Через небольшую дверь мы вступили в громадной высоты зал, с окнами, находившимися на высоте восьми метров от земли, отчего в нем всегда царствовал полумрак; стены этого зала не были выбелены, пол был глиняный и неровный, мебели никакой… Пройдя зал, мы приблизились к ступеням лестницы, сбитой из глины и прислоненной к стене. Поднявшись по ней, мы очутились в роскошном павильоне с окнами, выходившими в запущенный сад. Окна эти, высокие и забранные узорчатой решеткой, запирались изнутри ставнями. Стены оштукатуренные и раскрашенные пестрым с позолотой рисунком; цветной потолок, набранный из тонких и ровных жердей и палочек, наконец, паласы и кошмы, разостланные по глинобитному полу, дополняли внешний вид и убранство этого покоя, напоминавшего мне лучшие приемные комнаты богатых горожан Русского Туркестана и Бухары.
«Вот здесь вы можете устроиться. Сюда вам сейчас принесут фрукты и чай, а я посещу вас вечером; теперь же, простите, мне недосуг». С этими словами почтенный старик удалился.
Дом, в котором мы теперь находились, был выстроен покойным ваном. Павильон служил ему приемной, мрачная зала внизу – комнатой для просителей; наконец, целый ряд комнат, находящихся под павильоном с окнами и дверьми в сад, – внутренними покоями. Ныне здесь помещается медресе. Но здание к нему не приспособлено, и алям-ахун справедливо жаловался на скупость люкчунских властей, не желающих делать грошовых затрат на необходимые переделки. Ныне покои жены вана служат для хранения груш, павильон пустует, громадный зал настолько мрачен, что заниматься в нем можно только в редкие часы дня, и вот ученики поневоле слоняются где придется, по прежним службам и кладовым.
Вечер мы провели в беседе с муллами, которые вели ее в сдержанном тоне и обходя вопросы, непосредственно касавшиеся внутренней жизни Люкчуна. «Наша жизнь, – сказал мне в заключение Богры-алям-ахун, – вам непонятна, и то, что мы могли бы вам сказать о ней, не удовлетворило бы вашего любопытства. Хорошего, конечно, в ней мало, хвастаться нечем; но не пристало и жаловаться чужестранцам. А поживете – и сами узнаете, что здесь творится».
Еще подъезжая к Люкчуну, мы встретили таранчей, объявивших нам, что какие-то русские стоят под Пичаном; поэтому решено было, вместо того, чтобы повернуть на Лемджин, ехать в Пичан.
Мы ехали самой лучшей частью Люкчунского оазиса. Громадные деревья погружали в глубокую тень дорогу и во всех направлениях струившиеся ручьи свежей прозрачной воды. Кое-где виднелись жилые постройки, но большая часть земли все же отведена была под сады, принадлежавшие «белокостным» фамилиям. За высоким двухэтажным зданием – колоссальной сушильней винограда – древесные насаждения стали реже, появились поля джугары, которые и составили восточную окраину оазиса. Переехав окрайний арык с построенной на нем мельницей, мы, наконец, оставили его позади и очутились в каменистой пустыне, которая вдавалась острым клином между горами Кум– и Туз-тау.
Пески Кум-тау представляют явление замечательное. Они совсем бесплодны и одновременно неподвижны. Местные жители не запомнят, чтобы пески эти, передвигаясь когда-нибудь, поглощали клочки культурной земли; они даже не замечают, чтобы гребень Кум-тау изменялся заметно за последние десять лет. И хотя последнее сомнительно, тем не менее факт общей неподвижности песчаных гряд – неоспоримое явление. Было время, однако, когда Кум-тау не вдавался так далеко в долину Люкчуна: Пичанская река, исчезающая ныне под горою песку, когда-то свободно бежала между Ян-булаком и Дга и впадала в другую, по-видимому еще более крупную, но тоже давно уже пересохшую р. Асса. Относительная высота Кум-тау очень значительна и на глаз определяется в 450–500 футов (135–150 м). Эта громадная масса песку на крайнем северо-востоке перекидывается через Туз-тау, на юго-западе упирается в горы Чоль-тау, составляющие южную окраину Турфанской котловины. Как далеко пески эти идут на восток, в глубь страны, никому неизвестно, но, считая их древними дюнами Турфанского озера-моря, можно думать, что полоса их, вообще говоря, не особенно широка.
Не доходя до того места, где помянутая выше Пичанская река скрывается под песками Кум-тау, мы встретили развалины хутора Иски-лянгэ. Здесь дорога подходит к Туз-тау, каменистая почва пустыни сменяется глинистой и появляются первые признаки жалкой растительности: какая-то колючая трава, Nitraria Schoberi (по-местному «бртекен»), Karelinia caspia и Zollikoferia acanthoides.
От Иски-лянгэ виднелась уже впереди сплошная масса садов, но до них все же оставалось еще не менее пяти километров. Дорога еще теснее приблизилась к подошве Туз-тау и стала пересекать одну за другой вымоины, образованные временными потоками. Наконец, впереди показалась и первая струйка воды – окрайний арык небольшого поселка Лянгэ или Шуга, расположенного при устье ущелья Пичанской реки. Это ущелье настолько просторно, что сады и поля не прерывались и в нем, а затем мы проехали и целый ряд хуторов, которые, вместе со своими пашнями и садами, подымаясь террасами над широким и усыпанным галькой плёсом реки, занимали всю западную половину ущелья. Это – селение Икиришты-хана, иначе Ёргун. В то же время противоположный скат ущелья представлял высокие наметы песку: это гряда Туз-тау, занесенная с востока песками, – в своем роде единственная и в высшей степени оригинальная картина! Почти при северном устье ущелья дорога пересекает Пичанскую реку и, идя среди садов и хуторов левого ее берега, выводит на относительно довольно значительное плато, в центре которого мы, наконец, и увидали невысокие и почти уже совсем развалившиеся стены Пичана.
Пичан – город старый, небольшой и в высшей степени грязный; население его смешанное и в общем не превышает двух тысяч душ обоего пола; базар невелик и убог. Управляется город китайским чиновником V класса, совместно с аксакалом из коренных пичанцев. Гарнизон состоит из двух десятков солдат, обязанных нести одновременно и полицейскую службу.
В Пичане своего каравана мы не застали. Брат, не дождавшись нас в этом городе, ушел в Лемджин с тем, чтобы поджидать нас там или в Люкчуне. Итак, нам ничего другого не оставалось, как, переночевав в Пичане, возвращаться назад в Люкчун или, может быть, даже в Лемджин.
Уже вчера, когда мы собирались в путь из Люкчуна, мы были неприятно поражены холодным утренником: лужи покрылись ледяной корой; кое-где, на более сырых местах, виднелся пятнами иней. Но здесь, в Пичане, хватил уже настоящий мороз 13°С! Все арыки и широкие разливы речки замерзли, листья потемнели, и вся местность получила зимнюю физиономию. Пришлось из тюков вынуть шубы и снарядиться совсем по-зимнему.
Не доезжая люкчунской мельницы, мы узнали, что караван наш дожидается нас в Лемджине; поэтому здесь мы свернули вправо и, миновав туз-тауские каменноугольные копи, въехали в ущелье Лемджинской реки. Ущелье это в общем сильно напоминает параллельное ему Сынгимское (Кара-ходжа), но замечательно тем, что местами стены его сложены из пестрых, вероятно юрских, глинистых песчаников – бурых, красно-бурых и голубых, которые, чередуясь между собою, образуют необыкновенно красивые ленты. Другая достопримечательность этой щели – встречающиеся вдоль дороги глыбы песчаника с высеченными на них медальонами. Рельеф этих медальонов в настоящее время до такой степени уже стерся, что о содержании их трудно составить себе ясное представление; всего вероятнее, что некоторые из этих барельефов служили изображениями групп буддийских святых.
Горы Туз-тау, которые я пересекал уже в третий раз, имеют направление, совершенно параллельное главной оси Тянь-Шаня. Наибольшей ширины Туз-тау достигает к западу от р. Кара-ходжа, но этот участок гор нами исследован не был, а д-р Регель сообщает о нем слишком мало (он пересек горы Туз-тау к северу от Турфана)[84]. Таким образом, западная оконечность Туз-тау нам почти совсем неизвестна. Еще менее знаем мы о восточном конце этих гор. За Пичанской рекой гряда исчезает под песками Кум-тау, но как далеко идет она в сказанном направлении – сказать трудно. Такой же загадкой остается отношение к ней и гор, подымающихся к востоку от Пичан-Чиктымской дороги. Таким образом, о гряде Туз-тау мы можем получить некоторое представление только по тому сравнительно, вероятно, очень незначительному участку, который находится между турфанским и пичанским меридианами.
На этом протяжении Туз-тау рассекается пятью поперечными щелями; Пичанской, Лемджинской, Туёкской, Сынгимской и Булурюк-баурской. Имея в виду, что речки, пробегающие ныне по этим ущельям, получают свое начало в карысях и ключах, мы должны отнести прорыв горы Туз-тау к той отдаленной эпохе, когда стекающие с Тянь-Шаня реки еще не пропадали в камнях, а несли свои воды в Люкчунскую впадину. В настоящее время мы можем еще проследить русла трех рек, сбегавших к Туз-тау. Это Керичин, Кок-яр и Утын-аузе. Русло Керичина, проходящее к югу от Чиктыма, ныне почти заметено уже песками; руслом Кок-яра, сухим на протяжении многих километров, пичанцы воспользовались для отвода своих карысных вод; так же поступили и лемджинцы с руслом Утын-аузе. Связь Туёкской реки, прорывающей Туз-тау и собирающей свои воды, как это было уже выше объяснено, на северных склонах этой горы, в многочисленных здесь карысях и ключах, с какой-либо рекой Тянь-Шаня мне не удалось проследить. Что же касается до рек Кара-ходжа и Булурюк-баур, то вершины их нам еще мало известны.
Лучший разрез Туз-тау я наблюдал именно здесь, в Лемджинской щели. Я упоминал уже о пестрых глинах, как бы скомканных в середину, к оси хребта. На них несогласно-напластованно налегают глинистые песчаники красноватого цвета с прослойками гипса и рыхлые конгломераты, состоящие из серой и черной гальки, кварцитов и кремнистых сланцев, сцементированных красной глиной. Местами каменные глыбы Туз-тау покрыты выцветом соли, и всего вероятнее, что именно этому последнему обстоятельству гора эта обязана своим названием[85].
Кряж Туз-тау совершенно оголен. Растительность встречается только вдоль русел вышеупомянутых речек, да и то она не отличается ни особенным разнообразием, ни пышным развитием форм. Исключение представляют только камыши р. Упранг, достигающие значительной высоты.
Дорога по Лемджинскому ущелью бежит то правым, то левым берегом речки и не раз взбирается на крутизну. Впрочем, даже для колесного движения она не представила бы существенных затруднений. Хуже всего участок дороги, примыкающий к северному устью ущелья. Здесь всюду сады, пашни и жилые постройки, заставляющие дорогу делать крутые изгибы и часто оттесняющие ее чуть ли не в самое ложе реки. Но по выходе на простор она опять расширяется и уже без всяких зигзагов идет прямо к центру Лемджина – его крошечному базару.
В километре отсюда стоит бивуаком мой брат. После десяти дней отсутствия, в течение коих я проехал около 370 км, мы наконец свиделись… Какая радостная минута! Сколько впечатлений для передачи, сколько расспросов!..
С места нашей стоянки в урочище Джан-булак брат выступил 2 октября и вот как описывает свой путь через Тянь-шаньское нагорье в Пичан и Лемджин.
Первый переход наш был короток, всего километров шестнадцать. Мы шли вдоль ручья, среди невысоких холмов, усыпанных щебнем и скрывавших от нас горные массы на западе; на юге же и востоке особенно выдающихся вершин не было. Только уже на восьмом километре стали показываться впереди остроконечные сопки. Здесь же арбяная дорога пересекла ручеек и пошла по откосам правого его берега вплоть до развалин постоялого двора, или пикета, близ которых мы и решились дневать. Торопиться нам было некуда; между тем ближе ознакомиться с этой частью тянь-шаньских гор казалось мне делом вовсе нелишним.
К югу от места нашей стоянки возвышались ряды горных складок, имевших простирание с запада на восток. Туда-то на следующий день я и направился. Я поднялся по пологим склонам сперва на один хребтик, потом на другой. Отсюда горизонт был уже довольно обширен, но все же я увидел здесь совсем не то, что хотел. Отсюда открылся вид на обширную группу снеговых пиков, среди которых не было никакой возможности различить упомянутые выше вершины. В то же время прямо на юге, у меня под ногами, торчали высокие скалы слюдяного и хлоритово-слюдяного сланца с такими крутыми боками, что они казались иглами; между ними виднелись узкие щели, имевшие крутой наклон к югу и дно, усыпанное мелкой галькой и щебнем. На востоке уходила вдаль низкая плоская возвышенность с мягкими склонами; это поднятие я видел уже и с «калмыцкой» дороги. Взобравшись на следующую гряду, я очутился на краю глубокой долины, отделявшей меня от остроконечных сланцевых скал, и вместе с тем на водоразделе бассейнов – Турфанского и Джунгарского. Гряда эта, однако, не служит продолжением оси Тянь-Шаня; последняя, как кажется, проходит южнее. По крайней мере туда переместилась вся масса хребта, и там же находятся все высшие точки этой части Тянь-Шаня.
4 октября мы выступили дальше. За отсутствием проводника, не имея никакого понятия о длине предстоявшего нам перехода, мы решились идти до первой воды и травы. Но увы! Травы мы вовсе не нашли на южных склонах Тянь-Шаня, а вода встретилась нам не скоро.
От места нашей стоянки дорога пошла открытой долиной с едва приметным подъемом; он стал, однако, несколько круче под самым перевалом, высота которого, определенная гипсотермометром, оказалась равной 7582 футам (2311 м).
На перевале, который представляет из себя неглубокую седловину, выстроена маленькая китайская кумирня. Отсюда дорога спускается круто и вскоре втягивается в узкое глубокое и дикое ущелье, которым и бежит с километр. Восточный склон этого ущелья представляет сплошную скалистую стену, наоборот – западный, при большей относительной высоте, изрезан глубокими расщелинами, придающими ему подчас самые дикие и странные очертания.
В километре от перевала восточная стена обрывается, и перед путником развертывается картина безбрежной каменистой пустыни с торчащими там и сям вершинками, усыпанными черным, блестевшим на солнце как-то особенно, точно кучи его облиты были жиром или нефтяным дождем. В то же время на западе все выше и выше подымали свои остроконечные вершины отвесные слюдяно-сланцевые скалы, служа разительным контрастом сходящей на восток плоской пустыне с повсюду обнажающимися последними остатками когда-то бывших здесь гор. Оригинальное место, подобного которому нам не приходилось уже встречать в Центральной Азии!
Километров на пять гигантской щеткой растянулись эти скалы, а там и они отошли в сторону, сменившись холмами с более мягкими очертаниями. Но и эти холмы тянулись недолго. Наклон дороги перестал ощущаться, почва стала вязкой, и мы мало-помалу выбрались на простор. Перед нами была харюза, уже описанная в предыдущей главе.
Здесь от нашей дороги отделилась колея, уходившая на восток (как мы потом убедились, к станции Янь-чи Хами-Турфанской дороги); здесь же впервые появилась и кое-какая растительность – эфедра и Horaninovia ulicina.
Прошло еще томительных полчаса… Наконец, впереди мы заметили двух турфанцев, вьючивших нескольких ослов, как оказалось потом, мешками с пшеницей. Тут и было урочище Таш-булак – небольшой ключик, сочившийся среди зеленой лужайки в несколько квадратных метров, уже давно вытравленной и загаженной скотом.
– Далеко ли до Чиктыма?
– Иолов восемьдесят, а то и больше.
На нашу меру это составляло около 37 км. И хотя у Таш-булака кормить лошадей было нечем, но мы решились, закупив у турфанцев пшеницы, остановиться здесь на несколько часов с тем, чтобы после полуночи выступить дальше к Чиктыму. Сварив скромный ужин (при больших переходах нам редко приходилось обедать) и напившись чаю, мы улеглись кто куда, согреваемые теплым дыханием турфанской ночи. Спать пришлось, однако, недолго. Ровно в двенадцать я поднял людей, и мы, наскоро закусив, при слабом свете луны стали вьючиться. Еле-еле различали предметы…
– А как идти будем? Колея-то чуть видна…
– Правь вон на эту звезду…
– Это что правее Челпана?[86] Ладно.
И вьюки тронулись, а я остался позади с Матвеем Жиляевым, на обязанности коего лежало освещать буссоль при съемке. Съемка ночью крайне затруднительна, и при слабом освещении приходится зачастую вести ее, руководствуясь звездами, что, однако, требует и большого внимания, и возможной неподвижности инструмента; последнее достигалось при помощи палки, на которую устанавливалась буссоль. В момент, когда бралось направление, Матвей зажигал спичку, и я прочитывал азимут.
Утренний холодок давал себя чувствовать. Люди кутались в полушубки, а лошади по собственному почину ускорили шаг. К тому же дорога была ровная и хотя и малозаметно, но все же спускалась на юг. С восходом солнца мы увидали впереди золотистую полоску, в которой опытный глаз казака тотчас же признал камыши.
– Чиктым!
Действительно, нам оставалось не более восьми километров до этого поселения. Вот показались линии карысей, а вот, наконец, и дунганские фанзы. Наконец-то мы снова среди людей и в местности, где покупка фуража для наших, не в меру отощавших, животных не может представить никаких затруднений!
Чиктымский оазис занимает довольно обширную площадь, на которой разбросанно расположено до 35 дунганских и 5 чантуских хозяйств. По-видимому, воды ключевой и карысной здесь очень много. Под укреплением, расположенным на восточной окраине оазиса, находится даже значительное пространство стоячей воды, собирающейся из тут же бьющих ключей. А такое обилие воды, конечно, не могло не вызвать увеличения запашек, которые здесь, действительно, более значительны, чем где бы то ни было в другом месте Турфанской области. В Чиктыме возделывают те же хлеба, что и во всей стране, но хлопчатник и Sesamum indicum высеваются в малом количестве, хотя, казалось бы, последнее растение и должно было бы давать здесь завидные урожаи.
В Чиктыме мои брат дневал, затем выступил в Пичан по дороге, описание коей помещено будет ниже. Не дождавшись меня в этом городе, он двинулся мне навстречу и, не заходя в Ханду, оставшееся у него вправо, 8 октября прибыл в Лемджин. Последнюю станцию он прошел без всяких приключении по местности, которая не представляла никаких достопримечательностей: дорога шла каменистой пустыней, упиравшейся в Туз-тау и на всем этом протяжении почти лишенной растительности.
13 октября мы выступили из Лемджина по направлению к Люкчуну, в ближайших окрестностях которого и решились остановиться на поправку наших лошадей. Мы прошли населеннейшую часть Люкчуна, после чего вышли на каменистую плешь, с трех сторон окруженную садами, а на востоке примыкавшую к песчаным барханам Кум-тау. Впереди рисовалась длинная цепь гор, на западе терявшаяся вдали. Еще раньше видел я эти горы, но теперь они выступали яснее. Это Чоль-таг, что значит «пустынные горы», северный уступ обширного вздутия горной страны, протянувшейся от изгиба Тарима к Ала-шаню и восточнее Хами связавшей три горные системы: Алтай, Тянь-Шань и Нань-Шань.
Через эти горы, как нам говорили теперь, проходит торный путь к Лоб-нору, которым пользуются преимущественно китайские гонцы и торговцы, выменивающие там всевозможный товар на бараньи гурты. По этому же пути много развалин, в которых и до настоящего времени отыскивают различные изделия из меди и золота и роговые и глиняные футляры с исписанными непонятными буквами бумажными свертками. Но и помимо этого пути Чоль-таг изрезан тропинками, хорошо известными местным охотникам. Там встречаются высокие горы, дикие ущелья, леса, обширные тростниковые займища, и водится всякий зверь: медведи, волки, лисицы, дикие кошки (малунь), кабаны, дикие верблюды, архары, антилопы каракуйрюки (джейраны) и, наконец, зайцы.
Все эти подробности о Чоль-таге мы узнали в селении Ян-булак, сады которого ограничивали с юга помянутую выше пустынную площадку с частью глинистой, частью галечной почвой. Нам хотели даже представить гонца, только что прибывшего с Лоб-нора, но, как впоследствии оказалось, его задержали в Люкчуне.
Итак, перед нами лежала теперь новая площадь исследования – горы Чоль-таг. Но лошади, выведенные нами из Семиречья, для подобной поездки уже не годились, и мы решились взять туда свежих, только что приведенных мной из Турфана. Во всяком случае подобная экскурсия могла затянуться на две, даже на три недели. Вот почему решено было покинуть Ян-булак и перебраться на четыре километра к западу, в урочище Люкчун-кыр, где хотя травы были и скудные, но все же их было достаточно для прокорма наших баранов.
14 октября я отправился в Дга, окрайнее к Чоль-тагу селение, где мы могли подыскать проводника и разузнать подробнее об условиях путешествия в этих горах. Путь туда шел сначала среди полей, засеянных ак-джугарой, кунжутом и хлопчатником, а затем по глинисто-песчаной местности, изрытой глубокими промоинами и поросшей джантаком и камышом; кое-где попадались карыси и виднелись хутора, окруженные садами и пашнями и носившие в большинстве случаев имена своих владельцев. На пятнадцатом километре от Люкчун-кыра дорога вступила в пески, постелью которым местами служил кремень, настолько уже выбитый песком, что он получил вид скорее пористой, чем плотной горной породы; пески эти имели более темную окраску, чем барханы Кум-тау, к которым мы теперь заметно приблизились, и поросли тамариском, джантаком и другими солянками. На двадцатом километре мелькнули, наконец, впереди темно-зеленые массы садов, а четверть часа спустя мы уже въезжали в небольшое селение Дга, в котором нас хотя и приняли очень радушно, но в проводнике отказали, ссылаясь на отсутствие каких-либо на сей счет распоряжений со стороны люкчунских властей. Это вызвало мою поездку в Люкчун на свидание с таджиями, в отсутствие вана управлявшими княжествами.
Свидание это могло состояться не ближе 18-го числа. Меня приняли в большой приемной княжеского дворца, внутреннее убранство коей было китайское. Да и внешний вид двухэтажного здания, а также обширного двора, с присущими всем правительственным учреждениям в Китае парадными воротами «да-тан» посередине, представлял смешение стиля китайского с туркестанским. У этих ворот я сошел с коня и тотчас же был окружен бородачами в китайских костюмах, которые и ввели меня в упомянутую приемную, где был уже сервирован чай и обычный десерт: сахар, печенье, свежие и сухие плоды. Едва я заикнулся о причине, приведшей меня в Люкчун, как тотчас же получил разрешение брать проводников куда хочу и сколько хочу. Добившись, таким образом, главного, я, ради приличия, пробыл еще минут с пять, после чего, поблагодарив за радушный прием, удалился тем же порядком, как прибыл. На этот раз, впрочем, несколько таджи верхом проводили меня до городского предместья.
На следующий день все уже было готово, и брат, в сопровождении Ташбалты и Ивана Комарова, имея одну запасную лошадь и верблюда, нагруженного необходимейшей утварью и запасами провианта и фуража, выступил в Дга, а оттуда в пустынное нагорье Чоль-таг.
Мы распрощались надолго, может быть на две, на три недели, в течение коих на мою долю выпадала малоблагодарная работа – собирание по возможности разнообразных сведений о населении Турфанской области. Сведения эти я помещаю ниже; здесь же считаю уместным, изложив описание своей поездки к развалинам Асса-шара, сказать несколько слов как о фауне позвоночных Турфана, так и об его климатических особенностях за октябрь и ноябрь месяцы, чем и закончить настоящую главу.
Это было уже в ноябре. Холода стояли большие, и мы не особенно охотно предпринимали какие-либо поездки в окрестности. Но тут я случайно узнал о существовании километрах в пятнадцати от нашего бивуака развалин «города» Асса-шар и решился съездить их осмотреть.
Слово «шар» ввело меня в заблуждение. Предполагая встретить здесь нечто подобное развалинам, каких так много в Турфанской области, я не захватил с собой фотографического аппарата, и хотя этот промах я и постарался впоследствии загладить изготовлением приложенных здесь рисунков, но, конечно, последние не могут претендовать на особую точность и полноту.
Из Люкчун-кыра я направился к югу и, проехав первые пять километров культурной полосой, за селением Чон-бостан вступил в область бугристых песков, поросших гребенщиком, бортекеном, джантаком, чамеком, шапом и другими солянками. На одиннадцатом километре мы наткнулись на небольшую постройку, от которой остались одни только стены, а вскоре затем я увидел и высокую башню Асса-шара.
Асса-шар расположен на берегу сухого русла значительной речки и ныне уже наполовину засыпан песками. Высокие и толстые стены его не имеют бойниц и с внешней стороны не представляют ничего замечательного; зато изнутри в них проделаны ниши, расположенные в два яруса. Ниши эти не одинаковой величины, но все тщательно оштукатурены алебастром и выкрашены в бледно-розовый цвет; наименьшая из них все же могла бы служить спальней одному или даже двум человекам. Потолок в них выведен сводом, причем только посередине такого помещения человек среднего роста мог бы стоять, не касаясь потолка головой. Наибольшая из этих ниш находится в южной стене и имеет узкий круговой ход; без сомнения, это была небольшая кумирня, к которой приделана была и лестница – единственная лестница на всем обширном дворе Асса-шара, если не считать другой такой же лестницы, ведшей в центральное здание. Последнее значительно возвышается над стеной и, вероятно, в свое время имело несколько этажей. Верхний кончался куполом, от которого теперь остались только следы. Башня должна была быть довольно мрачной внутри, так как освещалась при помощи всего только шести небольших окон, по три на верхний и средний этаж.
Впрочем, я не уверен, существовал ли еще и нижний этаж: в середине все здание завалено было мусором, снаружи к нему примыкали высокие кучи песку и обломков. Внутренние стены башни были оштукатурены алебастром, который местами сохранил еще замечательную белизну; никаких красок здесь не было видно, и единственным архитектурным украшением верхнего этажа был красивый карниз, от которого теперь остались одни только куски. В эту залу проникали снаружи через высокую и узкую дверь. От лестницы уцелело всего несколько ступеней, но и по ним нетрудно составить себе понятие о былой ее неуклюжести. Внутри двора не существовало, по-видимому, никаких построек; только в юго-западном углу его стоял жертвенник курений с сохранившимся на нем пеплом курительных свечей, да тут же помещалась кузница, в которой мы докопались до обломков чугуна и железной накипи. В Асса-шар вели одни только ворота, выведенные сводом и расположенные близ башни; они могли пропустить две телеги рядом.
По типу постройка Асса-шара не имеет себе подобных во всем Туркестане; всего же больше напоминает развалины Таш-рабат, находящиеся в горах к северу от озера Чатыр-куль, у подошвы перевала с тем же названием Таш-рабат.
Нет другого более знойного уголка в Центральной Азии, как Турфанская область; зависит же это от орографических особенностей этой страны. Турфан находится в котловине, глубочайшая часть которой лежит ниже уровня океана. В Притяньшанье господствуют два ветра: северо-западный, дующий преимущественно весной и летом, и северо-восточный – осенью и зимой. От первого Турфан защищен снеговым массивом Богдо-ола, второй перекатывается свободно через пониженную часть Тянь-Шаня. Оттого климат Турфана очень сух и зимой сравнительно очень суров, а летом очень зноен. Крайности континентального климата здесь увеличиваются. Солнечные лучи всей своей силой накаляют горы Туз– и Кум-тау, бесплодные каменистые пространства харюзы и того пояса пустыни, который тянется вдоль южных склонов Туз-тау, и, отражаясь, значительно возвышают летнюю температуру, которая и без того высока, благодаря вечно безоблачному небу, чрезвычайной сухости воздуха и отрицательной высоте места.
Из вышесказанного ясно, что осень в Турфане, в смысле быстрых и частых переходов от зноя к холоду и обратно, не может быть постоянной. Действительно, стоит только подуть восточному ветру, и теплые дни сменяются в Турфане тотчас же сильной стужей, которая только до некоторой степени умеряется яркими солнечными лучами. Ветер стихает – и тотчас же восстановляется прежнее тепло, которое и продолжается до первого восточного ветра. Такая быстрая смена холода и тепла замечается и зимой. Снежный покров здесь отсутствует, почва нагревается быстро и, при безветрии, столь же быстро нагревает и воздух; так, в ноябре, например, после сильных морозов наступили вдруг такие теплые дни, что термометр даже по утрам не опускался ниже 0°. Это да отсутствие снежного покрова влияют здесь и на значительность суточных амплитуд, нередко достигающих 25°.
Глава четырнадцатая. Турфан
В Центральной Азии, без сомнения, очень много земель, богато одаренных природой, но весьма мало таких, которые возбуждали бы столь значительный интерес, как Турфан. Земли Турфана, как мы это уже видели, действительно представляют из себя не более, как песчано-глинистую или даже каменистую степь, на которой вне воды вовсе нет жизни; а воды здесь немного: всего каких-нибудь три, много уж если четыре убогих ручья, и это – на громадную площадь, равную чуть не 10 тыс. кв. верстам (11380 кв. км)! Есть от чего прйти в уныние и невзыскательному номаду [кочевнику]! А между тем именно здесь, в этой пустыне, жило и живет немалое население и стояли некогда цветущие города – ядро столь впоследствии знаменитой богатством своим Уйгурской державы. Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что, «когда монгольские императоры нуждались в деньгах, то уйгуры им служили банкирами; так, например, при одном Угэдэе заплачено было им в счет долга 76 тысяч серебряных слитков; равным образом, когда князья и вообще сильные люди той эпохи нуждались в жемчуге и драгоценных камнях, в Уйгурию же посылали они людей своих за всем этим, как в другие места за соколами и кречетами…»[87]
В чем же кроется здесь секрет и кто те чародеи, поборовшие природу и сумевшие обратить пустыню, при посредстве сооружений, нехитрых по выполнению, но гениальных по замыслу, в цветущий оазис? Увы, мы их вовсе не знаем! История застает здесь каких-то чешысцев, без сомнения – испорченное китайцами название нам вовсе неведомого народа.






