По ступеням «Божьего трона» Грум-Гржимайло Григорий
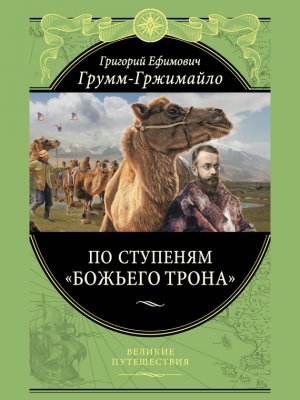
Тысячи километров, пройденных по отдалённым от цивилизации уголкам планеты, месяцы и годы, проведенные вне дома и семьи, лишения и опасности, неизбежно подстерегающие путешественника… Ради чего все это? Ради славы и денег? Но времена, когда географические открытия «автоматически» означали богатство и известность, давно прошли. Тогда что? Наука – вот ответ. Наука, прогресс, стремление идти вперед и приносить пользу человечеству, и ни с чем не сравнимое чувство первооткрытия…
Политические, экономические и еще бог весть какие условия сложились так, что во второй половине XIX столетия у России, во-первых, появилась возможность исследовать ранее закрытые огромные пространства в Средней и Центральной Азии и, во-вторых, сформировалась целая плеяда путешественников и исследователей, к которым, без каких-либо оговорок, можно применить эпитет «великие» – Семенов-Тян-Шанский, Пржевальский, Потанин, Мушкетов, Обручев. Свой вклад – и немалый – в «большой российский географический прорыв» внёс и Григорий Грумм-Гржимайло.
«Путешественником, в сущности, нужно родиться», – сказал однажды Н. М. Пржевальский. Действительно так! Ведь трудно себе представить «благоприобретение» стольких необходимых качеств – приходится быть и организатором, и просителем, и дипломатом, и психологом, обладать незаурядным литературным талантом. И самое главное, без чего путешественник не может быть путешественником, – надо быть одержимым наукой и желанием исследовать и открывать новое.
Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло всеми этими качествами обладал сполна. Ученый-энциклопедист, прекрасный рассказчик, человек, умевший располагать к себе людей, – он был готов на всё (вплоть до распродажи собственных вещей), чтобы отправиться в дальние страны. За свою жизнь он совершил полтора десятка экспедиций – в Памир и Алай, в Тянь-Шань и Нань-Шань, в Западный Китай и Монголию. И все эти путешествия по праву входят в «золотой фонд» российской и мировой географической науки…
Предисловие Издательства
Его имя не то чтобы совсем затерялось с течением времени – статьи о Григории Ефимовиче есть в любой энциклопедии, результаты его исследований по-прежнему упоминаются в статьях и книгах, посвященных самым разным областям науки. Наконец, эту непривычно звучащую для русского уха фамилию – Грумм-Гржимайло – можно найти на карте мира: его именем назван перевал в горном массиве Сихотэ-Алинь, открытый им же ледник в Памире и один из ледников в массиве Богдо-Ола. А монгольские сказители, как свидетельствовал еще один известный путешественник Б. Я. Владимирцов, даже слагали песни «о русском с длинной бородой, который знает, как вырастают горы и какие тайны они в себе хранят».
И все же, все же… Мы не будем начинать традиционный разговор о «падении нравов», о том, что имена людей, прославлявших российскую науку, забываются, уступая место другим героям. Кто-то назовет этот процесс закономерным – и, в общем-то, будет прав: прогресс неумолим и стремителен, и знания, ради получения которых люди столетие назад совершали трудные и опасные экспедиции, ныне становятся доступны простым нажатием клавиши компьютерной мыши.
Но у таких людей, как Григорий Грумм-Гржимайло, было одно преимущество, ни с чем не сравнимое по ощущениям и неподвластное времени и переменам, – чувство первооткрывателя. Перед тобой нечто – природный ли объект, памятник истории, о котором долгое время никто ничего не знал, или что-то еще – и ты видишь это нечто первым из людей. И описания «первооткрытия» – уникальны и неповторимы, особенно если они подкреплены литературным талантом.
Как бы это ни банально звучало, но книга по-прежнему является источником знаний (пусть даже в наше время это понятие постепенно трансформируется в несколько аморфное определение «электронная публикация»). И вот тут с сожалением приходится констатировать тот факт, что книги Г. Е. Грумм-Гржимайло издавались крайне редко и найти их в любом виде очень непросто.
Род Гржимайло славился своей древностью и разветвленностью. По некоторым данным, первое упоминание о нем относится к XIII в. Представители рода были известны в итальянских государствах под фамилией Гримальди, в Польше – Гржимайло, в Литве – Гржимайли, в Чехии – Гржимали и Гржимеки. В 1647 г. хорунжий Лука Грум из литовской части рода переселился в Россию, положив, таким образом, начало русской ветви.
Явление вполне распространенное: благородство крови – единственный «дивиденд» древности рода. Впрочем, еще в начале XIX столетия Григорий Грумм-Гржимайло, дед Григория Ефимовича, владел обширными имениями, однако быстро их потерял. Так что Ефиму Григорьевичу Грумм-Гржимайло, появившемуся на свет в 1824 г., пришлось всего добиваться самому. Он был известен как один из ведущих российских специалистов свеклосахарной и табачной промышленности, способствовал их развитию в стране, являлся автором ряда публикаций по этой теме.
В 1867 г. в Российской империи была введена система нотариата. Е. Г. Грумм-Гржимайло решил попытать счастья в новой области, оставил службу в Министерстве финансов и был причислен к Министерству юстиции. Он прошел сквозь суровое сито отбора и экзаменов и стал одним из первых шестнадцати нотариусов в Петербурге. Затея оказалось удачной, дело пошло на лад. Ефим Григорьевич, взяв взаймы деньги для обустройства конторы, быстро расплатился с долгами. Казалось, что большая семья скоро заживет в достатке. К тому времени у него были жена Маргарита Михайловна (дочь историка М. О. Без-Корниловича) и дети – сыновья Григорий (он родился 5 (17) февраля 1860 г. в Санкт-Петербурге), Михаил, Дмитрий и Владимир и дочери Маргарита и Екатерина.
Но в 1870 г. Е. Г. Грумм-Гржимайло скоропостижно скончался. Вдова с шестью малолетними детьми на руках практически без средств к существованию – «классическая», но оттого не менее трагичная картина семейной катастрофы. И кто знает, чем бы обернулась эта ситуация, если бы не помощь крестного отца Григория – Сергея Дмитриевича Шереметева (1844–1918).
Граф Шереметев – личность в своем роде уникальная. Наследник огромного состояния, владелец имений в одиннадцати российских губерниях (только в Подмосковье ему принадлежали Кусково, Михайловское, Останкино, Введенское, Остафьево), он был одним из крупнейших российских меценатов. Спектр его интересов, казалось, не знал границ. Для примера – только часть из списка обществ и собраний, в которых состоял Сергей Дмитриевич. Итак, он являлся членом: Российского общества покровительства животным, Русского общества акклиматизации животных и растений, Русского археологического общества, Русского исторического общества, Русского географического общества, Академии художеств; был основателем и председателем Общества древней письменности, председателем Археографической комиссии, состоял в целом ряде благотворительных обществ и организаций.
Сергей Дмитриевич – не раз помогал Григорию Грумм-Гржимайло, финансировал его экспедиции и издание научных трудов. А тогда, в начале 1870-х, он взял на себя все расходы по воспитанию и образованию своего крестника. Благодаря этому, в 1871 г. Григорий смог поступить в Училище правоведения.
Впрочем, несмотря на эту поддержку, положение семьи после смерти отца оставалось очень тяжелым. Так что потомку древнего польского рода Григорию Грумм-Гржимайло с самого детства пришлось зарабатывать себе на жизнь. Он хорошо рисовал (это умение впоследствии очень пригодилось Григорию Ефимовичу в его путешествиях) и поначалу составлял рисунки для вышивок матери, а вскоре начал делать иллюстрации для журнала «Нива» и давать уроки отстающим ученикам.
В 1874 г. Маргарита Михайловна перевела сына в 3-ю Санкт-петербургскую военную гимназию (затем – Александровский кадетский корпус), которую он успешно окончил в 1879 г. Дальше – путь в армию? Но у Григория проблемы со зрением (очки навсегда стали его неизменным «спутником жизни»), близорукость, да и без этого офицерская карьера его не прельщала. Он хотел заниматься наукой, а значит – нужно поступать в университет. Однако на этом пути было серьезное препятствие, даже два: латынь и греческий. Древние языки, знание которых было обязательным при поступлении в высшее учебное заведение, в военных гимназиях не преподавали. Так что с лета 1879 г. Григорий усиленно занимался языками и так же усиленно сам давал уроки: ведь за занятия нужно было платить.
Филлоксера – мелкое насекомое, длиной всего около 1 мм. Но неприятности виноградарству она приносила очень крупные. Когда филлоксера, родиной которой была Северная Америка, в 1880 г. появилась в России, выяснилось, что культивируемые у нас европейские сорта винограда совершенно к ней неустойчивы, и начавшее было бурно развиваться российское виноградарство оказалось буквально на грани катастрофы.
Неудивительно, что в те годы борьбой с филлоксерой были озабочены многие научные умы. В том числе Николай Яковлевич Данилевский. Сейчас он известен прежде всего как социолог и культуролог, чьи теории стали основой для цивилизационного подхода к истории и идеологии панславизма. Но Данилевский был еще и естествоиспытателем и, в частности, серьезно заинтересовался проблемой филлоксеры.
С Николаем Яковлевичем Григорий встретился в доме коннозаводчика А. И. Павлова, сыну которого он давал уроки. Маститый ученый даже не ожидал, что юноша, только собиравшийся делать свои первые шаги в науке, так хорошо осведомлен о филлоксере, о которой только-только начали говорить в России.
В итоге Данилевский, заинтересовавшись познаниями юноши, тут же пригласил его на должность секретаря Филлоксерной комиссии, сформированной при Министерстве государственных имуществ. Комиссия начала работать в марте 1880 г. – и именно эту дату Григорий Грумм-Гржимайло всегда считал началом своей научной деятельности.
В мае – июне того же года Григорий сдал экзамены на аттестат зрелости. И хотя по латыни и греческому он таки получил «удовлетворительно» (по остальным предметам – отличные и хорошие отметки), это не помешало ему поступить в Санкт-Петербургский университет, на естественное отделение физико-математического факультета.
В те годы на физмате подобрался просто-таки «звездный» преподавательский состав. Геологию и минералогию читал В. В. Докучаев – основатель российского почвоведения; физиологию человека – выдающийся русский физиолог, создатель физиологической школы И. М. Сеченов; ботанику – основоположник географии растительности в России А. Н. Бекетов; А. И. Воейков, читавший курс физической географии, только начинал свою преподавательскую карьеру, впоследствии же он прославился как выдающийся метеоролог и климатолог, создатель школы сельскохозяйственной метеорологии. Лекции Н. П. Вагнера по зоологии беспозвоночных оказали особое влияние на выбор Григорием Грумм-Гржимайло специальности энтомолога. А деканом факультета и заведующим кафедрами органической и аналитической химии был знаменитый химик Николай Александрович Меншуткин (именно он, среди прочего, в 1869 г. на заседании Русского химического общества сделал от имени Д. И. Менделеева доклад о Периодическом законе).
Конечно, не все было гладко и идеально, и не все преподаватели были любимы и уважаемыми студентами. В учебный процесс волей-неволей вмешивалась политика, особенно после 1 марта 1881 г., когда был убит император Александр II. Но политикой Григорий Грумм-Гржимайло интересовался «постольку поскольку», главным же его интересом всегда была учеба и наука. После успешного окончания первого курса он был направлен в Крым, в специальную командировку по линии Министерства государственных имуществ. Главной целью поездки было изучение все той же филлоксеры и поиск методов борьбы с ней, для чего Григорий и приехал в имение Н. Я. Данилевского «Мшатка» на берегу Черного моря. Но коль уж представилась такая возможность, молодой ученый решил не ограничивать себя официальной целью и провел исследование лепидоптерологической[1] фауны близлежащих районов. Результатом стала опубликованная в XIII томе «Трудов Русского энтомологического общества» статья «Несколько слов о чешуекрылых Крыма» – первое научное исследование Г. Е. Грумм-Гржимайло.
Полевые энтомологические исследования Григорий продолжил и следующим летом, теперь уже в Подольской губернии, под Каменец-Подольским, на даче у своего дяди Д. М. Без-Корниловича. Три недели, проведенные в одном из самых живописных уголков Украины, оказались «плодотворными» и в личном плане: именно здесь он встретил Евгению Без-Корнилович, дочь дяди. Через 10 лет она стала его женой.
Еще один год учебы – и снова каникулы, которые молодой ученый опять практически полностью посвящает энтомологии. Летом 1883 г. Григорий Грумм-Гржимайло отправился в Среднее Поволжье, в имение уже упоминавшегося А. И. Павлова в Аткарском уезде Саратовской губернии. Результаты этих изысканий он изложил в статье, которая в 1884 г. была опубликована в первом томе издания «Mеmoires sur les lеpidoptres». И это уже был пропуск в высший свет – как в переносном, энтомологическом, плане, так и в самом что ни на есть прямом.
«Mеmoires sur les lеpidoptres» выходили под патронатом великого князя Николая Михайловича (1859–1919) – самого главного энтомолога империи. В этих словах если и есть доля сарказма, то совсем незначительная. Николай Михайлович действительно был страстным энтомологом, и ему принадлежит большая роль в развитии лепидоптерологии.
Средняя Азия для энтомолога и сейчас представляет большой интерес, а тогда, в 1880-х гг., малоисследованные среднеазиатские районы были настоящим «лепидоптерологическим Клондайком». Вот только одно «но»: самым благоприятным периодом для сбора материала была ранняя весна…
Вообще-то это было против правил – разрешить студенту сдать пять экзаменов, необходимых для получения звания кандидата, существенно раньше срока. Но таково было условие финансирования экспедиции, фактически поставленное великим князем. И Н. А. Меншуткин дал «добро»: и потому что просьба опосредованно исходила от члена императорской фамилии, и потому что видел искреннее желание студента внести свой вклад в науку. Молодой ученый был готов на всё, чтобы отправиться в Среднюю Азию. Профессор Вагнер даже предлагал ему остаться при кафедре зоологии беспозвоночных, что практически гарантировало карьеру профессора. Но Григорий не хотел познавать науку в кабинетной тиши – он мечтал о горах и азиатских просторах.
Сборы проходили в экстренном порядке. 15 января Григорий Грумм-Гржимайло сдал последний экзамен, 20-го числа того же месяца Совет Санкт-Петербургского университета утвердил его в ученом звании кандидата, «зачтя» ему в качестве диссертационной работы уже опубликованные труды и изыскания в области естественных наук. Григорий даже не успел получить соответствующий диплом. 6 февраля Русское географическое общество (РГО) избрало свежеиспеченного кандидата наук своим членом-сотрудником и снабдило рекомендательными письмами. А 14 февраля Григорий Грумм-Гржимайло отправился в путь.
20 мая 1884 г. небольшая группа – молодой ученый из Санкт-Петербурга и приданные ему для охраны четыре казака Оренбургского войска – выступила из Оша в направлении Алайской долины. Целью путешествия был Памир, его северные склоны.
Сведения о Памире, с одной стороны, известны с глубокой древности, но с другой – действительно научное изучение этого района, целенаправленное и глубокое, началось только во второй половине XIX в. В Памире бывали и описывали его китайские путешественники, затем, спустя несколько столетий, примерно в 1270 г., через Памир прошел Марко Поло. После этого – снова перерыв на несколько веков, когда Памир стоял «заброшенным».
С начала XIX в. активность стали проявлять англичане, считавшие тогда весь мир зоной своих интересов. А Памир, позволим себе напомнить читателю, – это горная система на территории современных Таджикистана, Китая, Афганистана и Индии. Так что интерес британцев к Памру был далеко не праздным. Впрочем, большинство из тех, кто из подвластных Британской империи Афганистана и Индии проникал в памирские долины, были, скорее, разведчиками, а не исследователями. Заслуживает внимания, пожалуй, экспедиция английского военного и путешественника Джона Вуда, который в конце 1830-х гг. прошел от Афганистана через Пяндж до озера Зоркуль (на границе современных Таджикистана и Афганистана) и оставил об этом путешествии путевые записки. А затем – опять затишье: после Вуда исследователи долгое время не решались проникнуть в этот район, опасный из-за крайне негативного отношения к европейцам со стороны местного населения.
Свои интересы в Средней Азии были и у Российской империи. Они особенно возросли в 1860—1870-х гг., когда сначала на завоеванных среднеазиатских территориях было основано Туркестанское генерал-губернаторство, а затем к России присоединились Бухарский эмират и Кокандское ханство. Это означало, что путь в лежавшую за перевалом Алай большую неизученную область отныне был открыт.
Одними из первых исследователей Туркестана и припамирских районов были Алексей Петрович Федченко (1844–1873) и его супруга Ольга. В судьбах Алексея Федченко и Григория Грумм-Гржимайло очень много общего. Алексей Петрович рано потерял отца, разорившегося владельца золотоносного прииска; он учился на естественном отделении физико-математического факультета, только в Москве, а не в Петербурге; и, наконец, будучи еще совсем молодыми людьми, в 1868 г. супруги Федченко отправились в экспедицию в Туркестан, пробыв там до 1871 г.
Во время этой экспедиции А. П. Федченко пытался изучить и остававшийся по-прежнему загадкой для европейцев Памир. В 1871 г. он спустился в Алайскую долину, открыл Заалайский хребет и его высочайшую вершину – пик Кауфмана. Но идти дальше из-за отсутствия провианта было невозможно: как вспоминал сам Федченко, «того, что было с нами, не хватило и на обратный путь из Алая: мы два дня голодали». Возможно, супруги Федченко вернулись бы в Памир, но в 1873 г. Алексей Петрович скоропостижно скончался при восхождении на Монблан.
В 1876 г. Алайские горы были исследованы экспедицией подполковника (впоследствии – генерал-майора) Льва Феофиловича[2] Костенко. В ходе этой экспедиции военный топограф Жилин впервые провел инструментальную съемку верхней части долины. В 1877–1878 гг. еще один молодой путешественник, а в будущем – знаменитый географ и геолог Иван Васильевич Мушкетов (1844–1873), исследовал Памир и первым посетил долину реки Муксу, которая берет начало в леднике, названном впоследствии именем Федченко. Примерно тогда же Памир изучала экспедиция одного из самых известных путешественников России тех лет Николая Алексеевича Северцова (1827–1885). Не остались Памир и Алай и без внимания энтомологов – в 1878 г. экспедиция выдающегося ученого-биолога Василия Федоровича Ошанина (1844–1917) прошла к верховьям Муксу и первой взошла на ледник Федченко.
Так что, как видим, к началу экспедиции Григория Грумм-Гржимайло Памир и Алай уже были изучены русскими путешественниками, хотя «белых пятен» оставалось предостаточно. Именно это и обусловило акценты и задачи, которые ставились в ходе первого путешествия Григория Ефимовича. «Редкий исследователь, – говорил он в докладе Географическому обществу после поездки в Памир, – попадая в страну новую, неизученную, охватывает ее целиком со всеми деталями. Обыкновенно такой исследователь обращает внимание лишь на крупные ее особенности и, опираясь на них, двумя-тремя штрихами рисует величавую, но всегда общую картину посещенной страны. На долю же последующих путешественников выпадает задача уже вносить дополнения и исправлять допущенные погрешности, которые могут легко вкрасться в эти общие описания, а то и прямо подтвердить прежние выводы своих предшественников. Хотя мне и было суждено пройти некоторые места, непосещенные еще европейцами, но большую часть пути я все-таки сделал по территории, в общих чертах уже описанной, а потому силой самих обстоятельств я попал во вторую категорию исследователей, на обязанности которых лежит прежде всего критическая проверка, а затем и оценка добытого предшественниками фактического материала».
С учетом сказанного выше Грумм-Гржмайло, готовясь к путешествию, тщательнейшим образом проштудировал имеющуюся литературу, прежде всего отчеты об экспедициях, а в составлении маршрута его консультировали И. В. Мушкетов и В. Ф. Ошанин. Маршрут этот, согласно первоначальному плану, выглядел следующим образом: путешественник должен был пройти мимо высокогорного (3914 м над уровнем моря) озера Каракуль и выйти в Алайскую долину, проникнуть как можно дальше вверх по реке Муксу и взойти на ледник Федченко, а затем, насколько будет возможно, изучить местность в районе реки Маркансу. То есть спектр предполагаемых исследований был весьма обширен – не только энтомологические, но и этнографические, а также маршрутная съемка в долинах рек Муксу и Маркансу.
Через месяц после выхода из Оша Григорий Грумм-Гржимайло через Караказакский перевал пересек Алайский хребет. В середине июля он находился у подножий Заалайского хребта, затем перешел через Терсагарский перевал и достиг верховий реки Муксу. Однако выйти на ледник Федченко помешала плохая погода. Григорий принял решение вернуться на Заалайский хребет, пересек его, воспользовавшись Кызылартстким перевалом и дошел до озера Каракуль. Отсюда экспедиция повернула в обратный путь и 20 августа вернулась в Ош.
За три месяца Григорий Грумм-Гржимайло прошел более 600 км. Энтомологическая коллекция составила 12 тысяч экземпляров 146 видов, из них 30 вновь открытых. Григорий Ефимович впервые произвел съемку в верховьях Муксу, им сделаны измерения высот, метеорологические и этнографические исследования и т. д. Предварительные итоги путешествия были опубликованы в ХХ томе «Известий Русского географического общества» и втором томе «Mеmoires sur les lеpidoptres».
Результаты первой экспедиции Григория Грумм-Гржимайло превзошли ожидания. Он был настолько увлечен новизной лепидоптерологической фауны и природой нагорных районов Азии, что решил не возвращаться в Санкт-Петербург, а провести зиму в Средней Азии и весной следующего года продолжить исследования. Он рассматривал два плана дальнейших действий. Первый – выйти к Мервскому оазису, который был недавно занят русскими войсками и на территории которого был некогда расположен Мерв – древнейший известный город Средней Азии, затем посетить долину реки Мургаб, перейти через хребет Копетдаг, а на обратном пути добраться через долину Мургаба до афганского города Андхой и долину Амударьи в горные районы Бухарского ханства. Второй план – из Самарканда идти непосредственно в горные районы Бухары.
Григорий рассказал о своих планах в письме великому князю, и в ответ Николай Михайлович рекомендовал остановиться на втором плане, который выглядел менее опасным и требовал меньших расходов. Ибо последние предполагались немалыми, и двух тысяч рублей, высланных великим князем, было явно недостаточно. Григорий Ефимович обратился к РГО, которое пошло ему навстречу и выделило дополнительно 800 рублей. Кроме того, благодаря стараниям руководителей РГО генерал-губернатор Туркестана Н. О. Розенбах распорядился прикомандировать к экспедиции штабс-капитана Г. Е. Родионова, который должен был выполнять топографические работы, двух препараторов и 11 конвойных казаков.
29 марта 1885 г. экспедиция вышла из Самарканда. Григорий Ефимович и его спутники посетили горные бекства (феодальные владения) Бухарского ханства: Дарваз, Куляб, Каратегин, Бальджуан, Кабадиан, Гиссар, Шир-Абад, Гузар, Карши и Шаар. На это ушло пять месяцев. В Самарканд экспедиция вернулась 9 августа.
20 тысяч – столько образцов содержала энтомологическая коллекция, собранная в ходе второго памирского путешествия Г. Е. Грумм-Гржимайло. Интереснейшие экземпляры содержала и коллекция позвоночных, переданная в Зоологический музей Академии наук. Начальник экспедиции и штабс-капитан Родионов произвели съемку местности различных районов, был таже собран этнографический материал, прежде всего в виде фотографий.
В середине сентября 1885 г. Грумм-Гржимайло вернулся в Санкт-Петербург. А на декабрь того же года был назначен его выход в «географический свет» – доклад на заседании РГО.
Сколько же их было за полтораста столетия существования РГО – молодых и подающих надежды, которые затем с полным правом могли именоваться выдающимися и знаменитыми. РГО, сыгравшее важнейшую роль в судьбе многих известных путешественников, в том числе и Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло, является одной из старейшей общественных организацией России – оно было основано 6 (18) августа 1845 г. В этот день высочайшим повелением Николая I было утверждено представление министра внутренних дел Л. А. Перовского о создании в Санкт-Петербурге Русского географического общества, с декабря 1849 г. получившего почетное именование «императорского». Инициатором создания Общества выступил знаменитый мореплаватель и путешественник, исследователь Арктики, в будущем (в 1864–1882 гг.) – президент Академии наук, адмирал Федор Петрович Литке (1797–1882). Выступая на первом собрании 7 (19) октября 1845 г., Литке, назначенный вице-председателем РГО (председателем стал великий князь Константин Николаевич), так обрисовал задачи Общества:
«Во-первых, собирать новые материалы, преимущественно снаряжением путешествий в страны, недостаточно еще исследованные.
Во-вторых, стараться разрабатывать материалы уже существующие, и находящиеся частью в ведении разных правительственных мест, частью в руках частных лиц, имевших случай производить наблюдения и исследования географические.
В-третьих, извлекаемые из всех таких материалов результаты, до одного ли познания России или вообще до географии относящиеся, сообщать читающей публике не только в пределах отечества, но и в других государствах…»
И это были не просто дежурные слова – буквально с самого начала своего существования РГО развернуло широкую деятельность, внося весомый вклад в изучение Урала, Сибири, Средней и Центральной Азии, Кавказа и Закавказья, Дальнего Востока, полярных регионов, а также Китая, Индии, Ирана, Юго-Восточной Азии. Под патронатом и при поддержке Общества проходили экспедиции Н. А. Северцова, И. В. Мушкетова, Н. Н. Миклухо-Маклая, А. И. Воейкова, Г. Н. Потанина, В. А. Обручева, П. П. Семенова-Тян-Шанского, П. К. Козлова и многих других. Членами общества были не только ученые-географы и путешественники, но и офицеры военно-морского флота – В. С. Загоскин, П. Ю. Лисянский, Г. И. Невельской, К. Н. Посьет, и даже знаменитые художники И. К. Айвазовский и В. В. Верещагин.
До 1917 г. председателями Общества были представители императорского дома: с 1845 по 1892 г. – великий князь Константин Николаевич, с 1892 по 1917 г. – великий князь Николай Михайлович. Фактическими же руководителями РГО, на которых лежали функции оперативного управления, были вице-председатели: Ф. П. Литке (1845–1850 и 1857–1873), М. Н. Муравьев (1850–1857), П. П. Семенов-Тян-Шанский (1873–1914), Ю. М. Шокальский (1914–1917).
Для молодого ученого, каким являлся в середине 1880-х гг. Г. Е. Грумм-Гржимайло, выступление в РГО было не только представлением результатов экспедиции. Это был и великолепный шанс показать себя «зубрам» отечественной географической науки. И Григорий Ефимович блестяще использовал этот шанс. По результатам доклада Общество избрало его своим действительным членом и присудило первую награду – серебряную медаль. Отметил для себя выступление Грумм-Гржимайло и тогдашний вице-председатель РГО Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, который с тех пор оказывал ему всевозможную поддержку.
В начале 1886 гг. Г. Е. Грумм-Гржимайло начал готовиться к очередной экспедиции. На этот раз он должен был исследовать западные отроги Тянь-Шаня. Одной из главных задач путешествия было исследование зоогеографической взаимосвязи животного мира Памиро-Алая и Тянь-Шаня. Естественно, что в программу экспедиции входили и традиционные задания: сбор энтомологического материала, съемка местности в ранее неизученных районах и т. д. Теми же были и меценаты путешествия – основные средства выделял великий князь Николай Михайлович при поддержке РГО, а также исходный пункт – город Ош.
Из Оша вдоль реки Карадарья Грумм-Гржимайло направился к перевалу Кугарт, затем вышел в долину реки Нарын, посетив крепость в одноименном городе (ныне – административный центр Нарынской области Киргизии). Из Нарына он прошел вдоль реки Ат-Баши и через перевал Таш-Рабат вышел к Чатыркулю – бессточному озеру в Тянь-Шане, находящемуся на высоте 3530 метров над уровнем моря.
Пройдя по восточному берегу Чатыркуля, Григорий Ефимович через перевал Торугарт вышел в Кашгар. Из Кашгара его путь пролегал по долине реки Кызылсу, вдоль подножий Заалайского хребта, а затем через перевалы Каук и Кичик-Алай по долине реки Кичик-Алай. В конце августа путешественник вернулся в Ош.
Четыре экспедиции в малоизученные районы за четыре года – такое в те времена удавалось немногим. И дело не только в непосредственных трудностях и опасностях – очень много сил отнимали организация путешествия и поиск средств на него. Последние для молодого ученого были совершенно неподъемными. Приходилось обращаться к меценатам. Однако просить в очередной раз денег у Николая Михайловича было уже как-то совестно, ведь Григорий Ефимович прекрасно понимал, что он далеко не единственный в России нуждающийся в поддержке путешественник и ученый. В этой ситуации он решил обратиться к графу Шереметеву.
«Из газет вы, может быть, уже знаете, – писал Грумм-Гржимайло своему крестному отцу в феврале 1887 г., – что я, пространствовав три года по пустыням и нагорьям Центральной Азии, ныне вернулся в Петербург и здесь совместно с некоторыми специалистами… принялся за разработку собранных мною, смею думать, обширных научных материалов.
Хотя кое-что уже и опубликовано, но впереди предстоит сделать еще чрезвычайно много. Существуют и пробелы. Вовсе не исследованы юго-восточные склоны Памира, не имеется никаких зоогеографических данных о Джаттышаре[3]. Требуется составить новую экспедицию. Средств, однако, на ее выполнение нет у меня никаких.
Первые три экспедиции, снаряженные по мысли Географического общества и по программе, предложенной мной, осуществились только благодаря материальной и нравственной поддержке, какую угодно было оказать мне его императорским высочеством великим князем Николаем Михайловичем. Из года в год три раза снабжал он меня денежными пособиями, а ныне взял еще на себя и все расходы по изданию некоторой части моих специальных работ. Я не имею духа обратиться к нему за новой субсидией. Есть еще и Географическое общество, которое могло бы оказать мне последнюю помощь, но кто проглядывал его годовые отчеты, тот знает, что давно уже Общество страдает хроническим дефицитом. Итак, у меня остается ныне один лишь исход – это обратиться к частным лицам с просьбой поддержать экспедицию.
К вам, граф, обращаюсь я с этой просьбою. Не осуждайте меня за мою смелость и ради той цели, на которую испрашиваются средства, не шлите отказа. Сумма, которая лишь совершенно необходима, исчисляется в 3500 или даже 4000 р.
Излишне упоминать, что такая поддержка экспедиции встретит, наряду с моей бесконечной благодарностью, благодарность и Общества…
В случае, если вы не имеете возможности снизойти на мою просьбу, не томите молчанием. Поймите, граф, как мне дорог ответ, каким бы он ни был…»
Даже для графа Шереметева запрашиваемая сумма отнюдь не была «копейками». Но Сергей Дмитриевич был человеком просвещенным и понимал, что такая экспедиция принесет немало пользы науке и России в целом, да и отказывать в просьбе своему крестнику… В общем, деньги были выделены, после чего Григорий Грумм-Гржимайло приступил к уже ставшим привычным делу – разработке маршрута и подготовке к экспедиции.
На этот раз главной целью путешествия были центральные районы Памира. Дойдя до уже исследованного им озера Каракуль, Г. Е. Грумм-Гржимайло предполагал спуститься по реке Кудара в Ташкурган – район в Памире на высоте 3600 м, в котором сейчас сходятся границы Афганистана, Таджикистана, Китая, Киргизии и Пакистана, переправиться через реку Мургаб, перейдя через перевал Марджанай, выйти к озеру Яшилькуль. От этого озера Григорий Ефимович намеревался дойти до Памирского хребта и, перевалив через него, посетить и обследовать озеро Зоркуль, а затем по долинам рек Памир, Гунт и Вахандарья добраться до озера Сарыколь. Во второй части маршрута члены экспедиции должны были провести зоогеографические исследования Восточного Памира.
Начало путешествия несколько задержалось, и из Оша Г. Е. Грумм-Гржимайло и его спутники вышли лишь 8 мая. Всего в экспедиции участвовало 13 человек: кроме начальника, три проводника, шесть казаков, переводчик, препаратор. И, наконец, младший брат Г. Е. Грумм-Гржимайло – Михаил.
Как и Григорий, Михаил учился в 3-й Санкт-Петербургской военной гимназии. Затем он поступил в Михайловское артиллерийское училище, которое окончил в 1881 г. Двадцатилетний подпоручик был направлен во 2-ю лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. В 1886 г. Михаил окончил Михайловскую артиллерийскую академию. С 1892 по 1898 г. М. Е. Грумм-Гржимайло преподавал военную географию в Санкт-Петербургском юнкерском училище. В ходе Русско-японской войны 1904–1905 гг. он занимался формированием горных батарей, отправляемых на фронт. Весной 1907 г. Михаил Ефимович был произведен в генерал-майоры и получил под свое начало 41-ю артиллерийскую бригаду. В следующем году он вышел в отставку, но с началом Первой мировой войны вернулся на службу.
После октября 1917 г. М. Е. Грумм-Гржимайло примкнул к Белому движению, служил в Вооруженных силах Юга России под командованием А. И. Деникина. Когда белые войска потерпели поражение, Михаил Ефимович попытался пробраться из Баку в Москву, но был арестован. В январе 1921 г. он был переправлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. С весны того же семья перестала получать известия о его судьбе. В августе М. Н. Леман, брат жены, при посредничестве Международного Красного Креста обратился в ВЧК, откуда была получена справка – М. Е. Грумм-Гржимайло скончался 8 мая 1921 г. в Бутырской тюрьме.
В биографии Г. Е. Грумм-Гржимайло, написанной его сыном, есть такие слова: «Григорий Ефимович имел счастье дожить до советской власти в нашей стране…» Думается, что случившееся с Михаилом (а кроме того, серьезные проблемы с большевистской властью были и у третьего брата, известного инженера-металлурга Владимира Грумм-Гржимайло) вряд ли ассоциируется со словом «счастье». Но таковы были правила жестокой «игры» под названием «советская власть»…
Впрочем, до этих трагических событий было еще далеко, а тогда, в 1887 г., Григорий и Михаил были молоды, полны сил и желания исследовать и открывать.
Начало экспедиции – и сразу же большой успех: дойдя до верховий реки Танымас, притока Кудары, братья открыли ранее неизвестную группу ледников, названную ими в честь мецената экспедиции графа Шереметева. Однако затем капризы природы спутали все так, казалось бы, хорошо продуманные планы: река Серез разлилась и затопила долину, через которую пролегал единственно возможный путь к Мургабу. Григорий и Михаил решили двигаться на восток, но и здесь неудача: разлилась теперь уже река Мургаб, преградив путь на афганскую территорию.
В этой ситуации, чтобы, как намечалось, попасть на территорию Британской Индии, пришлось избрать третий, очень кружной и далекий путь. Несколько раз перевалив через очень высокие (на одном из них, по воспоминаниям путешественников, даже зашкалил анероид) каракорумские перевалы, экспедиция стала спускаться в долину реки Аксу (приток реки Тарим, протекающий по территории современных Киргизии и Китая). До территории британских владений оставалось немного, однако здесь, возле Аксу, путешественников нагнал патруль китайской пограничной стражи. Начальник патруля передал распоряжение генерального консула в Кашгаре Н. Ф. Петровского – немедленно покинуть китайскую территорию и возвращаться на родину.
Впоследствии, в августе 1887 г., Г. Е. Грумм-Гржимайло в письме графу Шереметеву докладывал итоги экспедиции и рассказал о ситуации, возникшей после получения предписания консула Петровского:
«Считая свою экспедицию нынешнего года почти законченной, решаюсь сообщить вам о главнейших ее результатах.
В Рушан очень далеко проникнуть мне не удалось; зато я вдоль и поперек исходил Восточный Памир и даже проник до Канджута[4]. Таким образом, только несколько переходов отделяли меня от английских владений. Из Сарыкола (китайские владения) я двинулся вверх по Яркенд-Дарье и, изучив ее истоки, перевалил через один из хребтов Каракорумской горной системы. Затем двинулся на запад вдоль Восточного Гиндукуша и намеревался уже пройти в Вахан, Читрал и даже в Афганистан, но здесь все обстоятельства стали против меня.
Китайские власти, делавшие мне всевозможнейшие затруднения на пути, встретили себе неожиданную поддержку в лице нашего генерального консула в Кашгаре, некоего Петровского (выскочка из семинаристов и отъявленная дрянь; один из „ташкентцев худшего закала”[5]), который прислал мне формальное требование – очистить китайскую территорию. Я, разумеется, от души посмеялся бы на такое требование, если бы одновременно с письмом не прибыл из Кашгара китаец, который издал распоряжение на пути моем разогнать все аулы, не давать проводников, ничего не продавать и т. д. Вот это-то распоряжение и поставило меня в совершенно критическое положение… Я должен был бросить маршрут свой и бежать на Алай, чтобы не умереть с голоду. Дорогой я, тем не менее, делал набеги и силком добывал себе баранов и муку; платить приходилось баснословные деньги, и все-таки мы в конце концов очутились в очень скверном положении. Казаки и все мои люди тем и сыты были, что в сутки получали фунта муки и по куску мяса.
Ко всему этому шли по безотрадным странам. Щебень, песок, серые горы, снега и льды даже на дне долин (конец июля), и далее солончаки… Страшные морозы и нестерпимые ветра. Полная бескормица и для лошадей… Вот обстановка нашего бегства или, чтобы быть точнее, последней, большой части пути […]
Итак, я теперь в Гульче. Прибыл сюда голодный и усталый до крайности. Да и все мы – и люди и лошади, так сказать, едва доплелись. От постоянного мороза и ветра лица наши покрыты струпьями. Зуд и боль в каждом члене. К тому же я схватил ревматизм левого плеча. Таким образом, материальное наше положение было очень некрасиво. Посмотрим же, насколько добытые нами результаты выкупали затраченный труд, деньги и ту долю материальных лишений, которые нам пришлось испытать.
В географическом отношении сделано много:
1. Имеется 2000-верстная съемка в пятиверстном масштабе.
2. Измерены высоты 30 пунктов.
3. Открыта целая система ледников в верховьях реки Танымас, которую я позволил себе назвать системой ледников графа Шереметева. Эти ледники сняты в двухверстном масштабе, причем имеется с них и целая серия фотографических снимков.
4. Пройдены совершенно неизвестные для европейцев страны.
5. Собран громадный расспросный материал, главную часть которого составляют статистические данные о населении, количестве скота и проч., как для Памира собственно, так и для стран прилегающих.
6. Наблюдались ежедневно все изменения погоды и температур по максимуму и минимуму термометра Реомюра.
В этнографическом отношении:
Собрана громадная коллекция фотографических снимков всех народцев, попадавшихся на пути: рушанских, сарыкольских и канджутских таджиков, сартов, кара-киргизов, афганцев и т. д. А также имеются фотографические снимки с памятников их архитектур, пород скота, разводимого ими, и т. д.
Наконец, в зоологическом отношении результаты наиболее полны и, на мой взгляд, заслуживают самой серьезной разработки.
Подробно изложу вам результаты эти при личном нашем свидании, которое, надеюсь, будет иметь место в Москве в недалеком будущем».
Как видим, характеристика ичности консула Петровского, данная Г. Е. Грумм-Гржимайло, просто убийственная. Автоматически возникает образ типичного «держиморды», который только и знает, что «не пущать». Тем более что подобные претензии в его адрес высказывали и участники некоторых других экспедиций.
Однако при ближайшем знакомстве с биографией Николая Федоровича Петровского (1837–1908) возникает совершенно противоположное ощущение – кто-кто, а он просто категорически не подходит под такую характеристику. Образованный человек, он был известен не только как дипломат, но и как археолог, историк, востоковед. В 1862 г. Петровский, тогда отставной штабс-капитан (никакого отношения к семинаристам, вопреки утверждению Грумм-Гржимайло, он не имел, а учился в военных учебных заведениях), был арестован и заключен в Петропавловскую крепость по обвинению в «пропагандистской деятельности». Был выпущен на поруки в следующем году, в 1865-м перешел на службу в Государственный контроль Российской империи, а с 1881 г. – на дипломатическую службу. Пробыв в должности консула в Кашгаре более двадцати лет, Петровский собрал обширнейшие сведения и материалы по истории региона.
Так что в возникшем конфликте, можно сказать, у каждого была своя правда. В нарушение правил, Грумм-Гржимайло не предупредил своевременно консула о появлении экспедиции на китайской территории. Обстановка в тех краях была непростой, и такой шаг мог быть опасен как для самих путешественников, так и с точки зрения дипломатических отношений. Так что иначе Н. Ф. Петровский поступить просто не мог.
Конечно, можно понять и объяснить эмоциональность Г. Е. Грумм-Гржимайло. Экспедиция и без того проходила непросто, обратный же путь был очень мучительным. Съестные и прочие припасы заканчивались, купить или добыть что-то по пути было крайне сложно. И потому на пути в российские пределы не раз казалось, что участникам экспедиции грозит голодная смерть.
К счастью, обессилевшие и изголодавшиеся путешественники смогли без потерь 17 августа добраться до Оша. Несмотря на все неприятности и изменения планов, экспедиция братьев Грумм-Гржимайло достигла значительных результатов, Григорий Ефимович с полным основанием мог написать покровителю путешествия, что «сделано много». В начале октября 1887 г. Г. Е. Грумм-Гржимайло вернулся в Санкт-Петербург, а 28 ноября состоялся его доклад в РГО на совместном заседании отделений физической и математической географий.
Результаты лепидепторологических исследований и зоогеографические наблюдения по итогам всех четырех экспедиций в Алай, Бухару, Памир и Западный Тянь-Шань Григорий Ефимович изложил в двух фундаментальных работах: «Novae species et varietates Rhopalocerorum e Pamir», которая была опубликована в XXII томе Трудов Русского энтомологического общества за 1888 г., и «Памир и его лепидоптерологическая фауна» («Le Pamir et sa faune lepidopterologique»), составившей IV том «Mеmoires sur les lеpidoptres».
В 1888 г. Г. Е. Грумм-Гржимайло сделал перерыв в крупномасштабных путешествиях, ограничившись непродолжительной поездкой на Средний Урал (в основном на собственные средства, при небольшой финансовой поддержке Зоологического музея Академии наук). Начав зоогеографические исследования от Златоуста, он закончил их в районе Ирбита. Собранную в этойпоездке коллекцию он полностью передал в Зоологический музей, а результаты исследований использовал для очерков и статей, в которых сравнивал энтомологическую фауну Урала и других районов.
В 1843 г. знаменитый немецкий ученый-энциклопедист Александр фон Гумбольдт впервые выделил на карте мира отдельный регион – Центральную Азию. Ныне существует несколько подходов к установлению географических границ Центральной Азии; в частности, по определению ЮНЕСКО в этот регион входят Монголия, Западный Китай, Северная Индия и Северный Пакистан, Северо-Восточный Иран, Афганистан, районы азиатской России южнее таежной зоны и пять бывших советских республик: Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан. Есть и другие классификации; в частности, согласно классификации на основе этнического состава населения к Центральной Азии относят районы, в которых проживают восточно-тюркские народы, монголы и тибетцы.
В зависимости от классификации, географы дают разные оценки площади Центральной Азии – от 4 до 6 млн квадратных километров. Поверхность этой территории в основном образована многочисленными щебнистыми или песчаными равнинами, окаймленными или пересеченными горными хребтами. По характеру рельефа Центральная Азия подразделяется на три пояса (с запада на восток):
1. Северный горный пояс с главными горными системами: Тянь-Шань, Монгольский Алтай и Хангай.
2. Средний пояс равнин – пустыня Гоби и Кашгарская впадина, занятая пустыней Такла Макан;
3. Тибетское нагорье, окаймленное Гималаями на юге, Каракорумом на западе, Куньлунем на севере и Сино-Тибетскими горами на востоке.
Долгое время Центральная Азия исследовалась эпизодически. Систематическое изучение этого региона началось с середины XIX в., с экспедиций Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского (1827–1914). В ходе путешествий 1856 и 1857 гг. он посетил Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и Заилийский Алатау, достиг озера Иссык-Куль, первым из европейцев проник в Тянь-Шань и горную систему Хан-Тенгри.
После заключения между Российской империей и Китаем Тяньцзинского и Пекинского договоров (1858 и 1860 гг.) РГО получило возможность для организации экспедиций в ранее недоступные районы. Поначалу это были кратковременные разведки вблизи российской границы. Широкомасштабные многолетние исследования под эгидой РГО начались в 1870-х гг., с путешествий Николая Михайловича Пржевальского (1839–1888).
В 1870–1873 гг. Пржевальский посетил Монголию, Китай и Тибет. Экспедиция прошла от Кяхты через Ургу, Калган, озеро Далайнор, затем на запад в Ордос, Алашань, к озеру Кукунор, в Восточный Цайдам и Тибет до долины Янцзы и обратно через всю Монголию в Кяхту.
В 1876 г. Николай Михайлович предпринял вторую (так называемую Лобнорскую) экспедицию. Маршрут ее пролегал от Кульджи через Восточный Тянь-Шань и Восточную Кашгарию (низовья реки Тарим и озера Лобнор) до хребта Алтынтаг. Вернувшись оттуда в Кульджу, Пржевальский затем собирался по новому маршруту дойти до Тибета, однако был вынужден из-за болезни отказаться от этого плана и, дойдя лишь до китайского поселения Гучэн, был вынужден вернуться в Кульджу и затем в Санкт-Петербург для лечения.
В 1879 г. Николай Михайлович, во главе отряда из 13 человек, выступил из города Зайсан в свою третью (Тибетскую) экспедицию. Путешественники направились через Булун-Тохой и Восточный Тянь-Шань в город Хами, далее через Гашунскую Гоби и западный край нагорья Бэй-Шань в долину реки Сулэхэ и город Дуньхуан. После этого, перевалив через Алтынтаг, экспедиция вышла в межгорную котловину Сыртын и прошла по Восточному Цайдаму. Затем Пржевальский поднялся в Тибетские горы (хребет Бурхан-Будда) и вышел в верховья Янцзы. Отсюда экспедиция повернула на юг, ее целью была столица Тибета – Лхаса. Но тибетские власти не пускали иностранцев в этот город, не сделали они исключения и для экспедиции Пржевальского. Поэтому не дойдя 250 верст до Лхасы, путешественники вынуждены были повернуть обратно в Ургу. Именно в этом путешествии Н. М. Пржевальский открыл ранее неизвестный вид лошади, названный в его честь – Equus caballus przewalskii (лошадь Пржевальского).
Четвертая (2-я Тибетская) и последняя экспедиция Н. М. Пржевальского была самой масштабной – в ней принимал участие 21 человек. Путешественники пересекли Монголию и, пройдя по восточному краю пустыни Алашань, перешли через Восточный Тянь-Шань и вышли к озеру Кукунор. Затем экспедиция, перейдя через юго-восточный Цайдам и перевалив через хребет Бурхан-Будда, вышла в верховья реки Хуанхэ, к озерам Ориннур и Джараннур, а потом в верховья Янцзы. Отсюда экспедиция повернула на Цайдам, обследовав южную окраину этой тектонической впадины в Китае, перевалила через хребет Алтынтаг, вышла в восточную часть Кашгара и смежные с ней хребты Западного Кньлуня. После этого Н. М. Пржевальский и его спутники по долине реки Хотан (протекает в Кашгаре, правый приток Тарима) пересекли одну из величайших песчаных пустынь мира Такла Макан, вышли к Аксу и, перейдя через Тянь-Шань, закончили свой путь в городе Каракол.
Здесь же, в Караколе (этот город, ныне административный центр Иссык-Кульской области Киргизии, с 1889 по 1922 г. и с 1939 по 1992 г. носил название Пржевальск), закончился земной путь Николая Пржевальского. В 1888 г., в самом начале своей пятой экспедиции, он заболел тифом и 20 октября (1 ноября) скончался.
После смерти Пржевальского исследования Центральной Азии продолжили его спутники – М. В. Певцов, В. И. Роборовский и П. К. Козлов. Михаил Васильевич Певцов (1843–1902) стал начальником сформированной Пржевальским перед кончиной научной экспедиции и путешествовал с ней по Восточному Туркестану, Северному Тибету и Джунгарии. Всеволод Иванович Роборовский (1856–1910), работая в Тибетской экспедиции Певцова, в 1888–1890 гг. совершил самостоятельные походы в Куньлуне, Северном Тибете, Кашгарии, а в 1893–1895 гг. руководил экспедицией по исследованию Тянь-Шаня, Нань-Шаня, Северного Тибета и пустыни Хами.
Наиболее последовательным учеником Пржевальского считается Петр Кузьмич Козлов (1863–1935). Он совершил шесть путешествий в Восточный Туркестан и Монголию, в Тянь-Шань и Тибет, проведя в экспедициях более 17 лет. В ходе экспедиций, которыми руководил Петр Кузьмич, было положено на карту 40 тысяч километров пути, собраны богатейшие зоологические, ботанические, этнографические и палеонтологические коллекции.
Еще одним выдающимся исследователем Центральной Азии был Григорий Николаевич Потанин (1835–1920). Человек сложной судьбы, Потанин, в молодости бывший активным сторонником идеи самоопределения Сибири, в середине 1860-х гг. был арестован, подвергнут так называемой гражданской казни означавшей лишение чинов и дворянства и шесть лет провел на каторге. В 1874 г. по ходатайству РГО Григорий Николаевич был амнистирован и через два года по заданию Общества отправился, вместе с супругой Александрой Викторовной (она сопровождала мужа во всех путешествиях до своей смерти в 1893 г.), зоологом М. М. Березовским и топографом П. А. Рафаиловым в экспедицию по северо-западной Монголии.
В отличие от Пржевальского, дослужившегося до звания генерал-майора, Певцова, Роборовского, Козлова, которые также были военными и путешествовали с конвоем солдат, Григорий Потанин ездил в свои экспедиции в гражданской одежде, вместе с женой. Человек мягкого характера, он умел расположить к себе жителей тех мест, в которых ему довелось побывать, и вызвать их доверие и уважение. Это помогало Григорию Николаевичу получать ценнейшие сведения о жизни и быте самых разных азиатских народов. С 1876 по 1899 г. Г. Н. Потанин совершил пять больших экспедиций: в горы Тарбагатай, в Монголию, Туву, Северный Китай, Тибет, на Большой Хинган. Вместе с М. В. Певцовым он открыл Котловину Больших Озер – тектоническую впадину общей площадью свыше 100 тыс. квадратных километров, находящуюся на территории юга нынешней Республики Тыва и западной части Монголии.
Помимо перечисленных выше путешественников, свой вклад в исследование Центральной Азии внесли известный геолог, палеонтолог и писатель-фантаст Владимир Афанасьевич Обручев; военный востоковед, разведчик и путешественник, генерал-майор Бронислав Людвигович Громбчевский; английские исследователи Маннинг, Муркрофт (последнему, по некоторым данным, среди прочего удалось прожить в Лхасе 12 лет), Г. и Р. Стрэчи; французские миссионеры Гюк и Габэ; немецкие путешественники братья Адольф, Герман и Роберт Шлагинтвейты; выдающийся геолог и географ, автор термина «Великий шелковый путь» Фердинанд фон Рихтгофен; знаменитый шведский путешественник Свен Гедин; венгерский граф Бела Сечени и др.
Мы не случайно подробно остановились на исследованиях Центральной Азии, проводившихся в XIX в. отечественными и зарубежными путешественниками. Это позволяет не только отдать заслуженную дань уважения всем названным и неназванным подвижникам, но и объяснить парадоксальную, на первый взгляд ситуацию: к концу XIX в. Центральная Азия уже перестала быть «терра инкогнита», но «белых пятен» в этом регионе оставалось великое множество. Об этом писал в предисловии к своей книге «Описание путешествия в Западный Китай» (она составила основу издания) и Г. Е. Грумм-Гржимайло: «На свою экспедицию мы смотрели глазами Н. М. Пржевальского, метко называвшего свои исследования в Центральной Азии „научными рекогносцировками”. До некоторой степени мы пополнили изыскания этого знаменитого путешественника; но как после него, так и после нас осталось еще много недоделанного в Центральной Азии».
Это и было главной задачей новой экспедиции, к которой Григорий Ефимович начал готовиться с января 1889 г., – «доделать недоделанное». Девятое по счету (с учетом еще студенческих поездок) путешествие должно было стать самым масштабным и продолжительным. И, естественно, требовало средств, которых, как всегда не хватало. После того как военные отказались финансировать изыскания в Центральной Азии (правда, затем «смилостивились» и выделили небольшую сумму), пришлось, как всегда, скрести по всем возможным «сусекам». Часть денег выделило РГО, часть – великий князь Николай Михайлович. Но этого было мало, и Грумм-Гржимайло снова обратился за помощью к графу Шереметеву. Его письмо – это одновременно и крик души, и четко продуманный план, с небольшой, но необходимой примесью лести:
«Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! После смерти Пржевальского экспедиция его была, как вам известно, сильно урезана, маршрут изменен и сокращен. Протест Совета Географического общества не мог повлиять на Военное министерство, которое решительно объявило, что ему нет никакого дела до специально научного изучения Тибета и Кашгарии. Но Совет не оставил этого дела и, так как экспедиция Певцова будет преследовать исключительно военные цели, отведя научным второстепенное место, в принципе решил снарядить новую экспедицию в те же страны, которая связала бы старые маршруты Пржевальского с маршрутами Певцова и Потанина. Честь ведения этой экспедиции выпала на мою долю, и вы понимаете, граф, с какой радостью я принял это предложение. Вопрос остановился за средствами.
От себя Географическое общество могло решиться выдать из запасного капитала всего только 2000 рублей, но ему на помощь поспешил прийти его высочество великий князь Николай Михайлович, который передал Обществу 6000 рублей. С этими средствами, однако, еще очень трудно пробраться в Тибет и пройти маршрут в 18000 верст (около двух лет). Мы хлопочем в Военном министерстве – через Обручева – мало шансов, однако, на помощь с этой стороны, и вот волей-неволей приходится прибегнуть к помощи тех, которые в пределах возможного никогда не отказывали в помощи и всегда были отзывчивы на каждое чисто русское национальное дело. Вы, многоуважаемый граф, стоите среди этих людей и к вам-то и хотел прежде всего обратиться президент Географического общества с просьбой о посильной поддержке экспедиции. Я, однако, предпочел лично написать к Вам об этом, для того, чтобы вы не подумали, что мы намерены эксплуатировать вашу чрезмерную доброту. Если раз вы решились пожертвовать крупную сумму, то это вовсе не значит, что вы в состоянии и еще раз выделить из доходов своих другую, хотя бы и меньшую сумму.
Я скажу откровенно, что мне очень тяжело писать настоящие строчки после того, как я, не желая вас утруждать новой просьбой, и для того, чтобы не показаться вам излишне назойливым, обращался к вашему брату, графу Александру Дмитриевичу, и получил от этого последнего решительный отказ…
Что же делать, однако! Впереди огромное дело, ради которого можно же и погнуть шею! Я так и делаю и, как видите, граф, снова прошу. Если мы сами будем сидеть сложа руки и ждать подачки – то, без сомнения, последняя не скоро придет!
Итак, многоуважаемый граф, помогите, не мне, Григорию Ефимовичу Грумм-Гржимайло, а тому делу, которое завещано нам великими покойниками.
Протягиваю вам руку именно потому, что имею в вду это дело и твердо уверен, что вы ее не отпихнете от себя. Я отдаю себя всецело делу, не откажите же в поддержке и вы…»
Что ж, таков удел путешественника и исследователя, не «обремененного» состоянием. О том, какими усилиями, прежде всего, моральными, это давалось, Григорий Ефимович писал в следующем письме С. Д. Шереметеву: «Вы, граф, и понятия себе составить не можете, сколько трудов, хлопот и огорчений стоит мне всякая моя экспедиция, а нынешняя в этом отношении превзошла все прочие.
Я не могу и приблизительно указать вам, сколько передних я осмотрел, сколько ухищрений ума пришлось употребить на то, чтобы добиться хоть каких-нибудь результатов… Расшаркиванья, просьбы, всевозможнейшие любезности лицам, которые этого никоим образом не заслуживают, наконец, лесть и тому подобное. Словом, все оружие просителя было пущено мною в ход; зато я и вижу теперь результаты».
К сожалению, в силу ряда причин на этот раз даже такой, казалось бы, надежный «источник», как граф Шереметев, иссяк (что абсолютно не испортило отношений между крестным отцом и крестником). К счастью же, немного раскошелились государственные учреждения – Министерство просвещения, Академия наук, Военное ведомство. А еще 500 рублей Григорий Ефимович присовокупил к бюджету экспедиции… продав собственные ковры, микроскоп, часть альбомов. В общем, чтобы отправиться в это путешествие, он был готов практически на всё…
Изначально основная часть маршрута должна была пройти по южным склонам Памира. Он был одобрен Советом РГО, однако затем этот же Совет, в силу ряда обстоятельств, настойчиво порекомендовал изменить маршрут. Главной причиной этого была «Большая игра» – длившееся без малого столетие противостояние между Российской и Британской империями за господство в Центральной Азии. Интересы России, военно-политическое присутствие которой c начала XIX в. все дальше и дальше простиралось на юг, в итоге столкнулись с интересами Британии. Последняя прежде всего опасалась за свои индийские владения, и, надо сказать, не без оснований: еще в 1801 г. Павел I поддержал идею Наполеона о совместном походе русско-французских войск в Индию и направил в Среднюю Азию 20 тыс. казаков – и только смерть императора от «апоплексического удара» помешала этим планам.
Британцы, в свою очередь, стремясь обеспечить буферную зону между своими владениями и российскими, в 1838 г. вторглись в Афганистан. Им удалось захватить Кабул и посадить там своего марионеточного шаха, однако в 1841 г. они были изгнаны из страны. Таким образом, Первая англо-афганская война закончилась поражением Британии.
Во второй раз британские войска вторглись в Афганистан в 1878 г., и на этот раз они добились своей цели. Вторая англо-афганская война стоила британцам больших жертв, в какой-то момент их гарнизон в Кабуле был окружен стотысячным войском повстанцев, но в итоге после подписания мирного соглашения эмир Афганистана обязался координировать свою внешнюю политику с Лондоном.
С этого момента наступила кульминация «Большой игры», и «холодная война» между Россией и Британией едва не перешла в самую что ни на есть настоящую. В 1885 г. отряд русских войск под командованием генерала А. В. Комарова захватил Мервский оазис и двинулся дальше, в сторону оазиса Пендже (Панджех). Британия потребовала от эмира Афганистана выдвинуть войска навстречу русским. Кратковременное стояние по разным берегам реки Кушки завершалось боем 18 марта 1885 г., в ходе которого отряд Комарова наголову разбил афганцев.
После этого, по оценкам экспертов, две империи оказались на волосок от вооруженного конфликта. К счастью, благодаря усилиям дипломатов войну между Россией и Британией удалось предотвратить. Но обстановка в регионе оставалась напряженной и подвергать опасности практически беззащитную экспедицию (несколько конвойных солдат могли дать отпор шайке разбойников, но в более серьезных случаях ничего сделать не могли) было действительно неразумно. Именно поэтому Совет РГО предложил Г. Е. Грумм-Гржимайло отправиться в Восточный Тянь-Шань и Нань-Шань. «Размен» был вполне адекватным, и Григорий Ефимович согласился без особых колебаний.
«Нань-Шань» в переводе с китайского означает «Южные горы». Это название принято относить к северо-восточной части Куньлуня – крупнейшей горной системы, простирающейся на 2500 км от Памира на западе до Сино-Тибетских гор на востоке. Нань-Шаню «противостоит» Бэй-Шань, «Северные горы» – нагорье, расположенное у восточной оконечности Тянь-Шаня. Длина Нань-Шаня с северо-запада на юго-восток – около 800 км, ширина – до 320 км. Большая часть Нань-Шаня относится к области внутреннего стока Центральной Азии, юго-восточные районы – к бассейну Хуанхэ. На западе «Южных гор» преобладают горные пустыни и степи, на востоке – лесостепи и еловые леса; на высоте свыше 3000 м – луга. Высшей точкой Нань-Шаня является гора Гуаньцзэфын высотой 5808 м.
Поскольку Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло подробно и с присущими ему живостью и литературным талантом описал свое самое главное путешествие, здесь мы остановимся лишь на его основных этапах и результатах. Экспедиция в составе 11 человек – Григорий и Михаил Грумм-Гржимайло, семь конвойных казаков и два переводчика – вышла 27 мая 1889 г. из города Джаркент (ныне – Жаркент, центр Панфиловского района Алматинской области) и вскоре, перебравшись через горную реку Хоргос, через несколько дней достигла Кульджи.
Название города Кульджа в переводе с тюркского означает «взрослый самец дикого горного барана». В русских источниках XIX в. город Кульджа (китайское название – Инин) иногда появляется под названием «Старая Кульджа» или «Таранчинская Кульджа» (т. е. город таранчей – уйгуров-земледельцев), тогда как город Хуэйюань, расположенный в 30 км к северо-западу, именовался «Новая Кульджа» или «китайская Кульджа». В те времена «таранчинская Кульджа» была центром торговли, а «Китайская Кульджа», основанная в 1762 г. (как и написал в своей книге Г. Е. Грумм-Гржимайло) и расположенная ближе к границе – крепостью и центром китайской администрации в регионе.
Направившись из Кульджи на северо-восток, путешественники вышли к озеру Эбинор, затем, держась на высоте 2000–3000 м, шли по северным склонам хребта Боро-Хоро. Здесь экспедиция сделала первое крупное географическое открытие. Словарь Брокгауза и Ефрона сообщает: «Дос-меген-ора – гигантский горный узел в Восточном Тянь-Шане. Открыт экспедицией братьев Грумм-Гржимайло в 1889 г.».
Следующим крупным населенным пунктом на пути экспедиции был Урумчи, в который она прибыла 24 июля. Ныне этот административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного округа является, согласно данным Книги рекордов Гиннесса, самым удаленным от моря крупным городом в мире – ближайшее побережье Мирового океана располагается от него в 2500 км. Здесь, в Урумчи, путешественники должны были получить разрешение на посещение Богдо-Ола – «Божьего трона».
Горная система Богдо-Ола, лежащая к востоку от Урумчи, считалась священной, и до того момента ни один европеец не бывал здесь. Но вот 29 июля разрешение получено, и экспедиция начала путь по ступеням «Божьего трона».
С каждым километром, как вспоминал Г. Е. Грумм-Гржимайло, горы становились все величественнее, а ландшафты – живописнее. Но что-то неудержимо тянуло его вперед, точно сердце предчувствовало, что лучшее еще впереди. И предчувствие его не обмануло. «Божий трон» предстал во всей красе, и впечатление было удивительным:
«И вот, наконец, перевал… Внизу, на страшной глубине, озеро дивного бирюзового цвета. Гигантские скалы кругом. Над ними – трехглавый Богдо.
Так вот оно где, это священное озеро, воды которого некогда покрыли останки ста тысяч святых! Так вот почему китайцы дают такое поэтическое название этим горам, а воображение всех окрестных народов населило их своими богами!.. Вся Центральная Азия не имеет уголка более живописного и вместе с тем более таинственного и величавого. Гигантская гора, „подпирающая, – по китайскому выражению, – облака и заслоняющая собою луну и солнце”, и видная из пяти городов, но всего лучше из Центральной Джунгарии, откуда она действительно кажется „троном”, или, если хотите, усеченным конусом, совсем неестественно высоко приподнявшимся из-за громады снеговых гор, вся она теперь тут, перед нами, не заслоненная вовсе предгориями… Подошву ее омывают воды озера бирюзового цвета, берега которого – дикие скалы, поросшие лесом, и выше них, с нашей стороны, изумрудные поляны и еловые рощи, напротив – осыпи пестрого камня. И все это, наконец, в узких рамках торчащих кругом горных вершин, которые только на севере рассекаются одною дикою и узкою щелью р. Хайдаджана.
Какое таинственное и дивное место!»
Увиденное у подножья «Божьего трона» на всю жизнь врезалось в память. На стоянке рядом с Богдо-Ола путешественники пробыли две недели, и с каждым днем Григорий Грумм-Гржимайло все больше и больше убеждался: это – одно из красивейших мест на земле. Но нужно было идти дальше, и 12 августа экспедиция покинула Богдо-Ола. Дойдя до города Гучэна, путешественники взяли севернее, в направлении Джунгарской долины.
«Охота за дикими лошадьми чрезвычайно затруднительна; притом на такую охоту можно пускаться лишь зимою, когда в безводной пустыне выпадает снег. Тогда, по крайней мере, нельзя погибнуть от жажды. Зато в это время охотников будут донимать день в день сильнейшие морозы» – так Николай Михайлович Пржевальский описывал особенности охоты на лошадь, впоследствии названную его именем. Ему принадлежит неоспоримая честь открытия нового вида семейства лошадиных, однако в ходе своей экспедиции он сумел добыть всего один экземпляр, да и тот не в лучшем состоянии, у киргизского охотника. Первыми же европейцами, которым самим удалось поохотиться на Equus caballus przewalskii, стали братья Грумм-Гржимайло. Им не только удалось изучить повадки лошади Пржевальского в естественных условиях, но и добыть в Джунгарской долине четыре великолепных экземпляра, которые пополнили коллекцию Зоологического музея Академии наук.
Проведя некоторое время в долине Джанбулак, 30 сентября братья разделились: Михаил остался в Джанбулаке, а Григорий отправился в область Турфан. Здесь экспедиция обнаружила так называемую Люкчунскую впадину – третий самый низкий участок суши на Земле (после котловин Мертвого моря и района озера Кинерет в Израиле), расположенный примерно в 150 км к юго-востоку от Урумчи, в самом начале пустыни Такла Макан. Обнаружение этой впадины, лежащей на уровне 130 м ниже уровня моря, стало одним из важнейших географических открытий экспедиции.
Соединившись вновь в Турфане, во второй половине ноября путешественники совершили, в непростых погодных условиях, переход в Хамийский оазис. Здесь экспедиция встретила Новый год: как по юлианскому календарю, так и по китайскому – в тот год китайцы праздновали наступление нового года 10 (21) января. В силу ряда причин (получение очередных разрешений, невозможность купить по сходной цене вьючный транспорт и т. д.), путешественники вышли из Хами только 26 января 1890 г. Обследовав восточную часть Хамийского ханства, экспедиция отправилась в Нань-Шань.
В те годы была распространена теория существования в третичную эпоху в Центральной Азии срединного моря. Открыв и исследовав по пути в Нань-Шань нагорье Бэй-Шань, Григорий Грумм-Гржимайло опроверг эту ошибочную теорию и, на основании орографических и геологических исследований, сделал вывод о том, что Бэй-Шань – это перемычка между Тянь-Шанем и Нань-Шанем. Григорий Ефимович первым обратил внимание на важность геологического изучения Бэй-Шаня, которое и было впоследствии произведено В. А. Обручевым.
Обследовав весной-летом южные склоны Нань-Шаня и Сининские горы, экспедиция спустилась в долину реки Хуанхэ. Путешественники собирались идти дальше, к водоразделу бассейнов двух великих китайских рек – Янцзы и Хуанхэ. Однако трагические обстоятельства помешали этим планам – тяжело заболел один из участников экспедиции, казак Колотовкин, из-за чего и было принято решение повернуть в обратный путь. Гангрена не оставила несчастному ни единого шанса, и он скончался 19 июля.
Город Гуйдэ, у которого путешественники переправились через Хуанхэ, стал самым восточным пунктом на всем маршруте. Затем братья Грумм-Гржимайло и их спутники вышли к южному берегу озера Кукунор, обошли его с запада. Далее путь экспедиции пролегал по долине реки Хэйхэ (Хыйхэ; верхнее и среднее течение реки Эдзин-Гол), через несколько перевалов, к городу Сучжоу, а оттуда, через Нань-Шань и северные предгорья Тянь-Шаня, – в Урумчи. 8 ноября путешественники прибыли в Кульджу и затем выехали на родину.
Находясь в пути, Григорий Ефимович отправлял в РГО отчеты о ходе экспедиции. Они регулярно публиковались в «Известиях Географического общества». Так что к возвращению путешественников в Санкт-Петербург интерес специалистов и просто неравнодушных к географическим открытиям людей был соответствующим образом подогрет. Неудивительно, что внеплановое заседание РГО 13 марта 1891 г., на котором выступал с докладом Г. Е. Грумм-Гржимайло, пришлось проводить в большом зале Городской думы – на него собралось 600 человек.
Особенное внимание научного мира привлекло открытие Люкчунской впадины. Удивительно то, что, в тех местах в свое время проходили экспедиции Пржевальского и Потанина, а также английских путешественников, но они «не обратили внимания» на аномально низкую высоту, и только братья Грумм-Гржимайло сделали это. Как и говорил Григорий Ефимович, была проведена «рекогносцировка», необходимая для дальнейших, более глубоких исследований, – спустя два года, по заданию РГО, экспедиция В. И. Роборовского обустроила в Люкчунской впадине метеорологическую станцию и провела нивелировку для выяснения ее пределов и самых низких пунктов.
Другой «рекогносцировкой» стало открытие нагорья Бэй-Шань. В 1892 г. Совет РГО поручил В. А. Обручеву провести подробные геологические исследования Бэй-Шаня. В целом же экспедиция братьев Грумм-Гржимайло провела съемку местности на протяжении 7250 км, из них почти на 6000 км в местах, ранее еще никем не изученных. Были проведены систематические метеорологические наблюдения, определены географические координаты многих пунктов, собрано 850 геологических образцов. Зоологов прежде всего привлекли новые данные о лошади Пржевальского, полученные в ходе путешествия. Впечатляла и зоологическая коллекция, собранная экспедицией: 114 образцов крупных и средних млекопитающих и более 100 мелких, 1150 птиц и 400 яиц и гнезд, около 100 экземпляров рыб и столько же пресмыкающихся и земноводных. Естественно, что Григорий Ефимович уделил особое внимание энтомологическим исследованиям – коллекция насекомых составила 35 000 экземпляров. Был также собран обширный гербарий, получены интереснейшие этнографические данные, сделаны сотни фотографий и т. д.
Для истинного ученого (коим, без сомнения, и был Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло) награды и почести не являются главными целями исследований и путешествий. Но они – приятный «бонус» научной деятельности. Заслуги Г. Е. Грумм-Гржимайло были оценены по достоинству. По итогам центрально-азиатской экспедиции РГО удостоило его вновь учрежденной премии имени Пржевальского, а по особому докладу министра государственных имуществ «за особые заслуги перед Отечеством» он был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени. В мае 1891 г., после представления министра внутренних дел, Григорию Грумм-Гржимайло была назначена пожизненная пенсия в 600 рублей в год. Географическое отделение Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1892 г. избрало его в свои действительные члены, а Парижская академия наук в следующем году присудила премию имени Чихачева «за выдающиеся труды в области географии» В 1896 г. Г. Е. Грумм-Гржимайло был избран почетным членом Нидерландского географического общества.
Семь лет, с небольшими перерывами, Григорий Грумм-Гржимайло провел в экспедициях. Он, казалось, свыкся с образом жизни, не подразумевавшим семейного уюта. Однако со временем его все чаще стали посещать мысли, что в жизни, кроме науки и путешествий, есть вещи, как минимум, не менее важные – любовь, семья, дети. Григорий Ефимович был одержим наукой и стремлением к познанию, но все же он не собирался «жениться» на них до конца жизни.
В сентябре 1891 г. в Севастополе состоялась свадьба Григория Грумм-Гржимайло и Евгении Без-Корнилович. Смена семейного статуса означала, что Григорий Ефимович, по крайней мере на время, должен превратиться из исследователя дальних стран в кабинетного ученого.
Прежде чем приступить к публикации результатов путешествия в Центральную Азию, Г. Е. Грумм-Гржимайло выполнил важное правительственное задание – проработав множество имевшихся на тот момент источников, составил обзорный труд об Амурской области (в этой работе ему на определенном этапе помогал П. П. Семенов-Тян-Шанский, он же осуществлял общую редакцию). Эта работа была связана с началом строительства в 1891 г. Транссибирской магистрали.
В 1893 г. Григорий Ефимович был привлечен к участию в работе постоянной комиссии по вопросам, связанным с развитием российской торговли в Средней Азии. Спустя некоторое время он был зачислен в штат департамента торговли Министерства финансов для заведования азиатскими делами.
Еще одним приложением талантов Г. Е. Грумм-Гржимайло стало сотрудничество с редакцией энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, для которого он писал статьи, имеющие то или иное отношение к географии Азии. Его публикации появлялись также в журналах «Исторический вестник», «Русский вестник», издании Министерства финансов «Производительные силы России» и др.
Из-за этих и других дел и забот к прерванной работе над описанием своего путешествия в Центральную Азию Григорий Ефимович вернулся только в конце 1894 г. Первый том «Описания путешествия в Западный Китай» вышел из печати в начале февраля 1896 г. Это было немного позже запланированного срока, зато издание вышло роскошным, с многочисленными иллюстрациями, фотографиями, картами и другими приложениями. Второй том «Описания…» вышел в 1899 г., а третий – в 1907-м.
В том же, 1896 г., Г. Е. Грумм-Гржимайло принял предложение издателя «Санкт-Петербургских ведомостей» Э. Э. Ухтомского возглавить восточный отдел газеты. С одной стороны, это было лестное предложение. Эспер Эсперович Ухтомский (1861–1921) – представитель древнейшего дворянского рода, дипломат, поэт, переводчик, «востокофил» – входил в круг приближенных Николая II еще с тех пор, когда тот был наследником престола. Кроме того, «Санкт-Петербургские ведомости» были одной из старейших и популярнейших газет страны. Но с другой согласно условиям договора Григорий Ефимович должен был ежедневно давать 200 строк обзора важнейших событий в жизни азиатских государств и колониальных владений. Чтобы сделать такую «выжимку», ученый должен был просматривать все влиятельные газеты на английском языке, издававшиеся в Азии, а также изучать материалы на азиатскую тему ведущих европейских изданий. Даже при наличии помощников – жены и горного инженера А. Ф. Севьера – взявших на себя перевод на русский язык необходимых статей, эта работа отнимала практически все время, из-за чего Григорий Ефимович запустил все остальные дела, прежде всего дальнейшую обработку материалов своих путешествий. И только после того, как в 1898 г. по финансовым соображениям (выписка иностранных газет стоила очень дорого) Ухтомский решил закрыть восточный отдел, Г. Е. Грумм-Гржимайло вновь смог посвятить себя науке и государственным делам.
В 1899 г. Григорий Ефимович перешел в таможенный департамент Министерства финансов, где на него, среди прочего, было возложено заведование восточной таможенной границей, протянувшейся от Черного моря до Тихого океана.
Не воспользоваться таким служебным положением – было бы просто грех. Григорий Ефимович за десять с лишним лет уже успел соскучиться по дальним путешествиям, а тут как раз поступило предложение дальновидного министра финансов С. Ю. Витте – снарядить экспедицию в Монголию и Урянхайский край. Главной ее целью было изучение состояние торговли с монголами и вопросы пограничного устройства. Свои научные интересы в данном предприятии были и РГО.
Исходным пунктом для своей экспедиции Григорий Ефимович выбрал город Зайсан. Отсюда он направился к китайской границе, которую пересек 2 июня 1903 г. на пропускном пункте Майкапчагай (в одноименном урочище). Экспедиция вышла в долину Черного Иртыша, переправилась через него, через ущелье Костук перешла в Алайское нагорье и к концу июня подошла к перевалу Урмогайты. Перевалив через хребет, путешественники вышли к озеру Даингол, затем был преодолен очередной перевал – Аккорум, с которого они спустились в долину реки Саксай. Выйдя к озеру Талнор и обойдя его с севера, экспедиция совершила переход по холмистой местности до долины Делюн, а оттуда, преодолев хребет Тиекты, к 9 июля вышла к городу Кобдо (Ховд).
Из Кобдо маршрут экспедиции пролегал на север – к рекам Намюр и Харкира, к перевалу Хундургун и хребту Танну-Ола, в долину реки Кемчик (Хемчик), откуда уже было недалеко до российской границы. Добравшись до города Кош-Агач (ныне административный центр Кош-Агачского района Республики Алтай), Григорий Ефимович расформировал экспедицию и отправил конвойных казаков и проводников в Зайсан, сам же отправился в Бийск по Чуйскому тракту – как раз к этому моменту на участке возле границы с Монголией вьючная тропа была превращена в проходимую для колесного транспорта дорогу. 20 августа Г. Е. Грумм-Гржимайло прибыл в Бийск, откуда направился в Санкт-Петербург.
Конечно, по масштабам, пройденному пути и продолжительности последняя экспедиция уступала предыдущим путешествиям Григория Ефимовича. Однако и на этот раз результаты были получены значительные. Была проведена съемка на 650 км ранее неисследованной местности, определены высоты более 40 пунктов, а собранные географические, этнографические и другие материалы стали основой для фундаментального трехтомного труда «Западная Монголия и Урянхайский край» (его первый том был выпущен в 1914 г., а второй и третий уже в советское время – в 1926 г.).
Путешествие 1903 г. было последней значительной экспедицией в жизни Г. Е. Грумм-Гржимайло. Но командировки и «мини-экспедиции», связанные с работой в таможенном департаменте, продолжались. Так, в 1908 г. Григорий Ефимович совершил поездку по Амурской и Приморской областям, затем побывал на границе с Кореей. В 1911 г. он изучал обстановку на российско-иранской границе, посетил Копетдаг и южное побережье Каспийского моря. В следующем году его ждала командировка в Закавказье, а в 1913-м – на Дальний Восток.
Летом 1914 г. Г. Е. Грумм-Гржимайло принимал участие в закладке города Белоцарск (ныне – Кызыл) в Урянхайском крае (незадолго до этого край перешел под протекторат России). Здесь его застало известие о начале Первой мировой войны. После этого ученый решил вернуться в столицу и, чтобы сделать это как можно быстрее, проделал часть пути на плоту через пороги Енисея.
Следующий, 1915 г., начался для семьи Грумм-Гржимайло со страшной трагедии – в возрасте 22 лет, перед производством в офицеры, скоропостижно скончался первенец, сын Владимир. Григорию Ефимовичу ничего не оставалось, как заглушать горе интенсивной работой. Весной он отправился на Дальний Восток, где решал жизненно важный вопрос об ускорении доставки в центральные районы страны товаров, поступавших в регион из иностранных государств. Во Владивостоке скопилось огромное количество грузов, прежде всего из США, в которых так нуждалась действующая армия. Чтобы пропустить эти грузы, Григорию Ефимовичу приходилось применять самые разные методы – увещевать, распоряжаться об упрощении таможенных правил, бороться со злоупотреблениями, выгонять со службы и даже привлекать к суду тех, кто этого заслуживал.
Обе революции 1917 г. – Февральскую и Октябрьскую – Г. Е. Грумм-Гржимайло встретил в Петрограде. Что можно сказать о его отношении к революционным переменам? С одной стороны, человек, имевший достаточно высокое социальное положение и, как уже говорилось, потерявший в застенках ВЧК родного брата, вряд ли восторженно относился к новой власти. С другой – он остался на родине и, насколько это было возможно, продолжал заниматься любимым делом[6]. Григорий Ефимович готовил к печати монографию о Западной Монголии и Урянхае, некоторое время работал в Морском архиве и Комиссии по изучению производительных сил России при Академии наук, а с декабря 1920 г. занял должность вице-председателя Географического общества. Часто, на время отъезда председателя Общества академика Ю. М. Шокальского на международные конгрессы и конференции, Григорию Ефимовичу приходилось брать на себя всю ответственность по руководству РГО.
С 1921 г. Г. Е. Грумм-Гржимайло занимался и преподавательской деятельностью: он читал курс «Страноведение Азии» в Ленинградском географическом институте, а затем сразу три курса – «История Монголии», «Этнография монгольских народностей» и «Страноведение Азии» – в Институте живых восточных языков (впоследствии – Ленинградский восточный институт).
Во второй половине 1920-х гг., когда бытовые, организационные и прочие трудности, связанные с революционными событиями и гражданской войной, «утряслись», Григорий Ефимович смог наконец-то завершить работу по подготовке второго и третьего томов книги «Западная Монголия и Урянхайский край». Одновременно, по заданию Ученого комитета Монгольской Народной Республики, он написал учебник «История монголов» для монгольских средних школ – естественно, что это потребовало тщательного изучения и переработки огромного количества материала. Впоследствии было принято решение дополнить учебник историческим атласом Азии, большую часть чертежных и оформительских работ по которому Григорий Ефимович выполнил собственноручно. Возобновил ученый и одно из своих любимых занятий – написание энциклопедических статей, на этот раз для словаря «Гранат»[7].
Весной 1931 г. с большой помпой, как это и было принято в СССР, отмечался 50-летний юбилей научной и исследовательской деятельности Г. Е. Грумм-Гржимайло. На торжественном заседании Всесоюзного географического общества (ВГО) звучали хвалебные – и вполне заслуженные – речи в адрес юбиляра. А летом того же года Григорий Ефимович тяжело заболел. В какой-то момент казалось, что врачам уже не удастся спасти ученого, но им все-таки удалось вытащить его буквально с того света. С середины сентября Григорий Ефимович начал вставать с постели, постепенно втягивался в привычный ритм жизни, возобновил научную деятельность. В декабре того же года на страницах «Известий географического общества» появилась его статья – первая после вызванного болезнью перерыва.
По состоянию здоровья Г. Е. Грумм-Гржимайло был вынужден покинуть государственную службу и свой пост в ВГО, однако по мере сил продолжал работу. Летом 1935 г. он написал обзор «Китай» для Большой советской энциклопедии – как оказалось, последнюю в жизни большую статью…
С начала осени 1935 гг. Г. Е. Грумм-Гржимайло уже практически не вставал с постели. Изредка его навещали друзья и коллеги, ученые-географы старшего поколения. Неизбежность конца не пугала Григория Ефимовича, угнетало разве что бессилие и, как следствие, невозможность записать все те мысли и воспоминания, которыми была переполнена его остававшаяся светлой до самых последних дней голова. «Навещая его в последнее время его жизни, – вспоминал Ю. М. Шокальский, – мне было ясно, что его удручает не столько тяжелое болезненное состояние, а именно невозможность работать и излить для потомства на бумагу неисчерпаемый ряд сведений и их сочетаний, так и роившихся в его многодумной голове. Какая необыкновенная сила духа над слабеющим организмом!» В ночь на 3 марта 1936 г. Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло не стало. Через три дня он был похоронен на ленинградском Волковом кладбище.
Андрей Хорошевский
Предисловие автора
Приступая к печатанию «Описания путешествия в Западный Китай», я считаю необходимым сказать, как организовалась наша экспедиция и какими средствами располагала она для достижения результатов, судить о которых и призывается теперь читатель.
Первоначально предполагалось, что мы едем на южные склоны Памира, в Шугнан, Вахан, Читрал и Кунжут, Но уже немного спустя Совет императорского Русского географического общества был вынужден, по политическим и иным соображениям, предложить нам изменить этот маршрут и вместо юга избрать объектом для своих исследований Восточный Тянь-Шань и Нань-Шань. Таким образом, нам оставалось только принять это лестное предложение и приложить все старания к тому, чтобы с успехом выполнить возложенное на нас поручение.
Средства, которыми могла располагать экспедиция, в общем не превышали 10 тысяч рублей. Персонал ее, кроме меня и брата моего, офицера лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады Михаила Ефимовича, состоял из нижеследующих лиц: артиллериста Матвея Жиляева, казаков – Ивана Комарова, Андрея Глаголева, Ивана Чуркина, Матвея Комарова, Петра Колотовкина и Михаила Фатеева, сарта [узбека] Ташбалты Иссыман-Ходжаева и текесского калмыка Николая Ананьева, всего 11 человек; кроме того, на более или менее продолжительное время в состав экспедиционного отряда входили: офицерский сын Григорий Ананьин, крещеный дунганин Давид, илийский уроженец Сарымсак и кашгарец Хассан. Отсюда видно, что вся интеллектуальная работа экспедиции лежала на моем брате и мне.
Инструменты, полученные нами, собраны были из различных учреждений. Нами были получены для производства маршрутной съемки: блок-мензула с кипрегелем (из Главного штаба) в полном порядке и две буссоли Шмалькальдера в деревянных ящиках, также в порядке. Для определения астрономических пунктов: три столовых хронометра Тиде (два из Главного штаба, один из Географического общества), из коих один был по среднему времени, два же другие оказались звездными; круг Пистора, принадлежащий Географическому обществу, превосходной работы и точностью 10; искусственный горизонт (из Географического общества), чугунный, с мешком для ртути, и астрономическая труба с металлическим штативом, выданная нам из Главного штаба, крайне неудовлетворительного устройства, не дозволявшая производства наблюдений над светилами выше 60 ° над горизонтом. Для гипсометрических измерений: не проверенный в Главной физической обсерватории гипсотермометр № 11, вновь приобретенный для экспедиции Географическим обществом, и анероид для малых высот; последний мы заменили прекрасным анероидом Готтингера для больших высот, полученным нами от бывшего военного губернатора Закаспийской области, генерал-лейтенанта А. В. Комарова, и только что перед тем проверенным в Петербурге. Наконец, для измерения температур: два обыкновенных термометра, приобретенных в Петербурге.
Таким образом, материальные средства экспедиции ввиду широких задач, возложенных на нее, были довольно скудны. И это, конечно, следует иметь в виду при оценке результатов, достигнутых ею.
На свою экспедицию мы смотрели глазами Н. М. Пржевальского, метко называвшего свои исследования в Центральной Азии «научными рекогносцировками». До некоторой степени мы пополнили изыскания этого знаменитого путешественника; но как после него, так и после нас осталось еще много недоделанного в Центральной Азии.
При изложении хроники путешествия я старался писать возможно живее, имея в виду не только читателя, ищущего в подобного рода описаниях один лишь положительные [полезные] факты и выводы, но и читателя не со столь узкими требованиями. Вместе с тем я счел полезным пояснять описание пройденных нами местностей историческими о них справками; мне казалось, что от таких отступлений в область истории может только выиграть описание современного их состояния.
В книге читатель найдет несколько записанных мною песен; должен оговориться, что, не будучи знаком с тюркским языком, я записывал их только по слуху, перевод же делал не текстуальный, а только приблизительно точный.
Разработку собранных нами коллекций приняли на себя различные специалисты: млекопитающих – старший консерватор [хранитель] Зооогического музея Академии наук Е. А. Бихнер; птиц – директор этого музея, академик Ф. Д. Плеске; пресмыкающихся, гадов и рыб – доцент С[анкт-]П[етер]б[угргского] университета, доктор зоологии A. M. Никольский; чешуекрылых, отделы Noctuae и Geometrae – лепидоптеролог С. H. Алфераки; отделы Rhopalocera, Sphinges и Bombyces обработаны мной; жесткокрылых – старший консерватор Зоологического музея Академии наук А. П. Семенов-Тян-Шанский; растений – директор императорского Ботанического сада А. Ф. Баталин; горных пород – профессор Горного института И. В. Мушкетов.
Определение абсолютных высот любезно взял на себя генерал-лейтенант А. А. Тилло, обработку же метеорологического дневника – профессор А. И. Воейков.
Всем этим лицам мы приносим здесь выражение своей глубочайшей признательности.
Мне кажется, я нисколько не ошибусь, если скажу, что за последнюю четверть века не отправлялось из Петербурга ни одной сколько-нибудь значительной экспедиции, в снаряжении которой так или иначе не принимал бы участие наш высокочтимый вице-председатель Петр Петрович Семенов. В особенности молодые, начинающие свою, если можно так выразиться, карьеру, путешественники встречали в нем всегда самую надежную опору, самого горячего сторонника их дела. Такая почтенная деятельность Петра Петровича давно уже получила должную оценку, и здесь мне остается только лишний раз констатировать факт его самого теплого и в тоже время деятельного отношения к нашей экспедиции. Я счастлив, что от имени моего брата и своего я могу сказать ему здесь самое сердечное спасибо.
Считаю своею нравственною обязанностью выразить также глубочайшую признательность Г. А. Колпаковскому, А. В. Григорьеву, А. А. Большеву и А. И. Скасси, в значительной мере содействовавших успеху нашей экспедиции.
Часть первая. ВДОЛЬ ВОСТОЧНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
Глава первая. От границы до города Кульджи
В середине марта 1889 г. мы выехали из Петербурга. Через три недели прибыли в г. Верный[8], где и принялись за снаряжение экспедиции. Мы задержались здесь, однако, долее, чем предполагали, ввиду тех недоразумений, которые возникли по поводу назначения нам конвоя. Наконец дело уладилось, и кратчайшим путем, верхом, со сложенными на нанятые телеги вещами и гоня перед собой табун закупленных лошадей, мы выступили в Джаркент[9], куда и прибыли 7 дней спустя.
Основанный в 1882 г., Джаркент в настоящее время представляет бойкий, полувоенный, полуторговый пограничный городок, показавшийся нам много симпатичнее Верного, не успевшего еще в наше время окончательно оправиться от постигшего его бедствия[10].
Выпавшие в конце апреля и в начале мая перемежавшиеся со снегом дожди, разведенная ими грязь, хмурое небо и холод, улицы в развалинах, невозможность достать в лавках самые обыденные предметы – все это в совокупности способствовало тому, что мы без сожаления покинули Верный, решившись перебраться в Джаркент, начальный пункт нашего будущего путешествия караваном. Здесь мы доканчивали свое снаряжение, лихорадочно работая по пятнадцати часов в сутки. Ограниченность наших средств не позволяла нам думать об излишествах во время пути. Мы брали самое нужное, но его набралось столько, что к купленным в Верном тридцати лошадям пришлось прикупить еще десять, да и эти, как оказалось впоследствии, с трудом подняли наш громадный багаж.
Причин, побудивших нас остановиться на лошади, как вьючном животном, было немало, но главнейшие из них следующие: лошадь много дешевле верблюда; на спинах лошади и осла производится почти все передвижение грузов в пределах Восточного Туркестана и Джунгарии; поэтому во всякое время года и повсюду здесь возможен обмен этих животных; лошадь менее прихотлива, чем верблюд, который плохо ходит в горах, боится сырости и вообще очень грузен для каравана, назначение коего – то карабкаться по узким тропинкам теснин, то брести безграничною степью; наконец, у нас был навык к лошади, выработавшийся в предыдущие мои путешествия по Средней Азии, да к тому же и средства наши не позволяли нам завести дорогостоящий обоз на верблюдах.
Утро 27 мая было еще более хлопотливое, чем все предыдущие дин. Почти все маленькое население Джаркента знало уже, что сегодня – день нашего выступления к китайской границе, и многие сочли своей непременной обязанностью заглянуть к нам на двор для того, чтобы полюбопытствовать на делаемые приготовления. Мелкие перекупщики шныряли поминутно и то и дело навязывали нам такие предметы, как канаус [шелк], меха и китайские вазы, которые теперь, менее, чем когда-либо, могли иметь для нас интерес. Русские, дунгане и таранчи все еще не переставали приводить к нам на показ давно уже нами забракованных лошадей, уходили, возвращались и, невзирая на положительный отказ, все-таки горячили своих рысаков и носились на них по прилегающим улицам. Рядовые казаки приходили прощаться со своими однополчанами, затем мешались в толпу и, как и она, оставались безучастными зрителями той хлопотливой возни, которая так хорошо знакома каждому, кто собирался хоть однажды в далекое путешествие. Несмотря, однако, на все эти помехи, уже к полудню мы были готовы, лошади наши оседланы, а вьюки окончательно взвешены и распределены. В четвертом часу, эшелон за эшелоном, наши вьюки уже выходили из ворот отведенного нам помещения при громких пожеланиях столпившейся публики… Путешествие началось!
Мы ночевали в небольшом таранчинском поселке Аккенте, расположенном всего в 12 километрах от Джаркента, и только уже на следующий день добрались до Хоргоса, в котором, как в пограничном пункте, квартировала сотня казаков 2-го полка. Тут же расположился и небольшой таранчинский поселок, имеющий невзрачный вид. Впрочем, таковы уже все здесь поселки. Край этот новый, таранчи же, эмигранты Илийской провинции, едва успели осесть на вновь отведенных местах и, весьма естественно, им было не до того, чтобы думать о красоте своих помещений. К тому же, как нам говорили, они едва сводят с концами концы, и большинство, по-видимому, бедствует страшно.
С 12 февраля 1881 г. р. Хоргос стала границей России с Китаем[11]. На ее дотоле пустынных берегах появились пикеты, и она вдруг приобрела такое значение, какого раньше никогда не имела. Впрочем, при описании Илийской долины нельзя было бы и так о ней умолчать: это один из значительнейших правых притоков Или. Стекая с того горного узла, который образуется схождением хребта Боро-хоро с Джунгарским Алатау, Хоргос течет диким, недоступным ущельем многие километры, после чего шумным и бурным потоком врывается в необъятную долину Или, где и продолжает еще долгое время громыхать среди им же навороченной гальки и валунов. Как и большинство других правых притоков Или, Хоргос разбивается неоднократно на рукава, которые далеко разбегаются в стороны и иногда либо пропадают в песках, либо разливаются по тростниковым займищам. Таким образом, к Хоргосскому посту он добегает уже значительно обедневшим водой; тем не менее, однако, в половодье, продолжающееся май и июнь, переправа через него здесь сопряжена с некоторой опасностью и во всяком случае не обходится без хлопот.
И действительно, когда мы на следующий день подошли к обрыву его правого берега, Хоргос представлял дикую картину разбушевавшегося потока, мутные воды которого с глухим шумом катили по дну валуны… Переправа через Хоргос отняла у нас много времени: приходилось не только возиться с вьюченьем и перевьюченьем, но и перегонять для перевозки нашего багажа дважды всех лошадей через реку. Так что, когда мы, наконец, были готовы и длинной вереницей вьюков и вершников [всадников] потянулись по широкому галечному плёсу Хоргоса, то солнце стояло уже высоко и нестерпимо жгло нам шею и плечи.
Миновав два мелководных протока Хоргоса и среди них негустую поросль гребенщика, мы взобрались на крутояр его левого берега и тут только увидали прямо перед собой высокие и массивные ворота китайского пропускного поста. В воротах нас встретила толпа китайцев, которая, загородив дорогу и нам, и вьюкам, потребовала от нас предъявления паспорта. С трудом убедив их оставить в покое караванных животных, мы с братом спешились и вошли в небольшую, но светлую комнату с широкими нарами на заднем плане, столом и двумя табуретами у окна.
На ее пороге нас встретил китаец, который, усадив нас на «кан»[12] и приказав подать сюда чаю, объявил, что он здесь начальник, что он давно знаком с русскими офицерами, очень их любит, а потому и задержек нам делать не станет.
Казаков, действительно, он отпустил почти тотчас же, зато нас продержал до тех пор, пока не выспросил всего, что считал наиболее интересным: откуда, куда, зачем и надолго ли едем; видели ли губернатора и т. п.
Мы терпеливо выдержали этот допрос; когда же выехали опять на дорогу, то вьюки оказались больше чем на два километра впереди. Пришлось рысью погнать лошадей.






