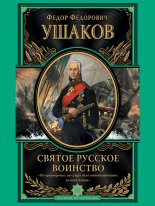Адмирал Ее Величества России Нахимов Павел
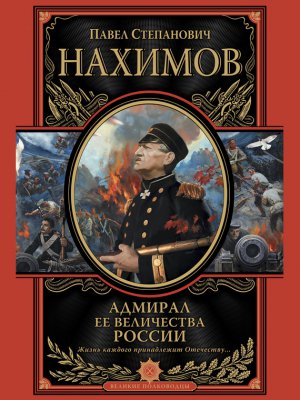
Читать бесплатно другие книги:
Все знают славное имя (1745—1813). Для всякого русского человека имя Кутузова стоит в одном ряду с ...
В сборник вошли три произведения, повествующие о приключениях знаменитого частного сыщика Ниро Вульф...
«И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба в народе, лицо его – как лицо Иосифа, ко...
Только два полководца были причислены Русской Православной Церковью к лику святых. Первый – Александ...
Кто-то определил талант полководца как способность принимать безошибочные решения в условиях острого...
Русские долго запрягают, но быстро едут. Эта старая поговорка как нельзя лучше характеризует вклад Р...