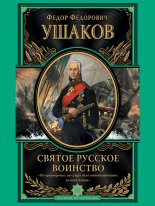Стою за правду и за армию! Скобелев Михаил
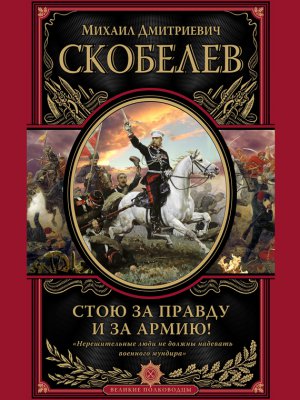
Получив категорическое приказание от генерала, я слез с коня и со своей маленькой командой охотников двинулся в горы, решив незаметно подкрасться к левому флангу неприятеля и в то же время обойти его.
– Смотрите, молодцы, дружнее напирайте на басурман, да метче стреляйте! Хоть вас и 20 человек только, но я буду называть вас ротой… Мне не в первый раз эту сволочь выгонять… Главное, храбрее! – ободрял я по дороге своих солдатиков, которые видимо уже подбодрились и даже с шуточками и остротами пробирались, сильно нагнувшись, через густой кустарник. Подкравшись незаметно на близкое расстояние к левому флангу неприятеля, загнутому вперед, мы открыли внезапно сильный и частый огонь и двинулись вперед с таким ужасным криком «ура», что турки, не видя вследствие кустов наших сил и предполагая, что против них здесь действует более или менее значительная часть, стремглав бросились удирать вниз, в долину. «Ура, ура!..» – орали мы и, как угорелые, гнались вдогонку за ошеломленным врагом… Воспользовавшись тем эффектом, который произвел мой неожиданный обход, и распаленный успехом, я решился ударить во фланг расположения всего неприятельского отряда, хотя этого мне и не было приказано. Не давая им опомниться и поддерживая на бегу частый огонь, мы с криком «ура» начали быстро теснить врага по всему фронту, двигаясь, таким образом, впереди и параллельно расположения нашего батальона.
Неожиданность, кусты (скрывавшие силы моей слабой команды), бегство левого фланга неприятеля и, наконец, наша дерзость помогли нам и здесь. Я с радостью увидел, как красные фески одна за другою вскакивали с земли и из-за кустов и быстро катились вниз, в долину… А за этими одиночными трусами повалили уже целые кучки, десятки, сотни… Все это стремглав, перегоняя друг друга, в самом хаотическом беспорядке и, очевидно, в паническом страхе от нашего внезапного появления и флангового огня, бежало, летало и катилось вниз, в долину Тунджи, провожаемое дружными залпами моих обадованных молодцов… Победа была за нами: турки поспешно оставили все свои позиции и в беспорядке бежали вниз к деревне Иметли. Я ни на шаг не отставал от них, не давал им опомниться и по пятам бежал за мелькавшими впереди фесками. Несколько человек по дороге мы докололи штыками. У одного легкораненого, который хотел выстрелить в меня из-за куста, я вырвал ружье и его же собственный штык всадил ему наполовину в живот… Тот ужасный, глубоко страдальческий взгляд, который он бросил на меня, расставаясь с жизнью и конвульсивно хватаясь руками за окровавленный штык, долго потом чудился мне и не давал по ночам покоя. Я бросил ружье и с шашкой в руках побежал дальше… И здесь мой клинок впервые отведал мусульманской крови!
Спустившись вниз за бежавшим неприятелем, мы (т. е. охотники) временно заняли деревню Иметли, но затем отошли несколько назад и расположились на возвышенности в углубленной дороге, к северу от деревни, провожая залпами отступавшего врага.
К юго-востоку от того места, где расположился я с охотниками, и в расстоянии около полуверсты находился небольшой лесок, где, вероятно, поместилось турецкое начальство и откуда постоянно скакали к войскам гонцы. Не успели мы сделать несколько залпов, как увидели выехавшего из этого леска всадника (оказавшегося потом офицером), скакавшего на красивом гнедом коне по направлению к деревне Иметли, к отступавшему неприятелю. Так как путь его лежал мимо нас, то мне сильно захотелось не допустить его до места назначения.
– А ну-ка, братцы, давайте-ка этого черта снимем с коня… Лошадь дарю вам, – сказал я.
– Целить на 250–300 шагов.
Всадник скакал полным марш-маршем, сильно пригнувшись на седле, как раз против нас. «Рота – пли!» – скомандовал я. Последовал дружный залп. Лошадь сделала еще отчаянный прыжок и вместе с всадником повалилась на бок. Оба более уже не вставали.
– Эх, ваше благородье, жаль, – сказал один из солдат, – за что ж коня-то убили – хорошая лошадь была!
Не прошло и двух минут, как мы увидели другого всадника, выехавшего из того же леса по тому же направлению. Вероятно, и этот ехал с тем же приказанием, как и первый.
– Вон еще, еще, ваше благородие! – обрадовались мои охотники и стали быстро готовиться к новому залпу.
– Да лошадь не бейте, братцы. Лучше заберем себе! – говорили они друг другу.
Всадник (это был тоже офицер) снова поравнялся с нами… Новый залп, и новые две жертвы – животное и человек.
– Ах ты, Господи! – соболезновали солдатики, – опять лошадь убили!
– Ну это, братцы, не я, – заметил один, – я ему в башку прямо целил!
– А попал в хвост! – сострил кто-то.
Более гонцов уже не было, потому что и других, наверное, постигла бы такая же участь.
Горы были совершенно очищены от турок. Войска их разбежались по всей долине. О результатах своих действий я донес письменно Скобелеву и просил подкрепления и патронов, так как все они были выпущены. Донесение это, написанное на клочке бумаги и на спине одного из солдат-охотников, я послал с ним же к Скобелеву. Через несколько времени на смену мне явилась целая рота штабс-капитана Повало-Швейковского, который сообщил, что мне с охотниками приказано вернуться к батальону.
– Ружья вольно, шагом марш! – скомандовал я своей маленькой, но лихой команде, и вскоре вернулся на наши позиции.
– Ну, братцы, теперь я должен с вами расстаться, – обратился я к охотникам. – Спасибо вам от души за ваш молодецкий подвиг, благодаря которому турки очистили свои крепкие позиции. Генерал Скобелев видел вашу службу и не забудет ее. Я же со своей стороны попрошу генерала, чтоб он походатайствовал перед Главнокомандующим о награждении вас всех Георгиевскими крестами… Ну, прощайте еще раз, будьте здоровы!
– Счастливо оставаться, ваше благородие, покорнейше благодарим. И вас пусть хранит Господь! Жаль, что нас покидаете: с таким начальником мы никого не боимся! – кричали они мне вслед, и эти простые солдатские голоса глубоко запали мне в сердце. Видно было, что они действительно полюбили меня за эти несколько часов между жизнью и смертью и расставались со мной с искренним, неподдельным сожалением… Это не то, что те громкие, витиеватые фразы, которые произносятся на торжественных обедах при проводах любимого начальника! Там все поддельно, искусственно, все соображено, взвешено… Здесь же – вся простая, неиспорченная душа выворачивается наизнанку…
Отыскивая Скобелева, я встретился с полковником Ласковским (раненым) и Завадским (командиром батальона), которые стали крепко жать мне руку и горячо благодарить за разбитие турок… Офицеры тоже наперерыв изъявляли мне свое удовольствие по поводу победы.
– Ну, вы их ловко отделали! Ведь, как бараны, покатились они, подлецы, вниз после вашего натиска… Мы вам аплодировали с позиции.
Солдаты указывали на меня пальцами… Конечно, все это не могло не льстить, не щекотать моего самолюбия!
Наконец, я увидел Михаила Дмитриевича и подошел к нему.
– Приказание вашего превосходительства я исполнил в точности! – сказал я, взяв под козырек.
– А, здравствуйте, Дукмасов! Ну, спасибо вам великое, голубчик! – сказал радостно Скобелев, горячо обнимая и целуя меня. – Еще раз, очень, очень вам благодарен! Поздравляю вас Георгиевским кавалером!
Не могу передать то приятное ощущение, тот прилив радости, который почувствовал я при последних словах генерала. Нужно быть самому воином, любить военное дело и бывать в боях, чтобы понять это хорошее, счастливое чувство! Его можно сравнить, и то отчасти только, с тем чувством, которое испытывает юнкер или офицер после тяжелых и долгих трудов, добивающийся права на офицерские погоны или на академический значок. Кажется, что тут особенного – надеть на грудь этот маленький беленький крестик! Прав особенных он не дает, материальных выгод тоже. И как много мы видим людей, украшенных этою высшей воинской наградой, в самой ужасной жизненной обстановке, в нужде, в лишениях… И все-таки как гордятся они этим крестиком, который составляет для них почти единственное утешение в их тяжелой жизни и который они не уступят ни за какие сокровища, как бы ни было безвыходно их положение!
И чем тяжелее достается эта награда, чем более потеряно здоровья, более потрясена нервная система, более пережито страшных, роковых минут, тем дороже и милее становится для него этот крестик… Он делается самым дорогим другом для этого человека, с которым последний не расстается уже во всю земную жизнь, до самой гробовой доски… Невоенному человеку, может быть, покажется несколько странным эта слепая привязанность к неодушевленному предмету, но истинный сын Марса, я уверен, поймет меня и согласится со мною.
Однако я отвлекся от рассказа. Итак, Скобелев поздравил меня с Георгиевским крестом, а вслед за ним стали поздравлять и все товарищи мои. Хотя право выдавать награду зависело от Главнокомандующего и Государя, но все мы знали, как высоко тогда стояли фонды Скобелева при главной квартире, и потому не сомневались, что просьба генерала будет непременно уважена.
– А где же Алексей Николаевич? – обратился я к товарищам, не замечая присутствия нашего доброго и любимого начальника штаба.
– А, ты не знаешь… – сказал Лисовский, и веселое лицо его сделалось сразу серьезным. – Представь, он, бедняга, ранен, и довольно серьезно! Марков повез его в Габрово. Это было в то время, когда ты с охотниками пошел в атаку на фланг. В свите у нас убито несколько казаков и лошадей, а мы, как видишь, целы! Ну, а ты как – рассказывай!
Новость эта болезненно отозвалась в моем сердце. Потеря Куропаткина сильно подействовала на Скобелева. Чело его нахмурилось, он сделался молчалив, раздражителен и как-то весь ушел в себя. Лишиться вообще дорогого, полезного помощника и вместе человека – товарища и друга, было тяжело, а тем более в такое критическое время.
Куропаткин был его правая рука, его ближайший советник, который не раз сдерживал Скобелева в его подчас слишком смелых, рискованных предприятиях. Куропаткин был, пожалуй, не менее храбр, чем Скобелев, хотя и не обладал такою импозантностью, не мог так увлекать солдат в бою, так электрически действовать на массу. Но он был, бесспорно, более осторожен, благоразумен и более спокоен – качества, крайне необходимые для крупного военного начальника. Скобелев поверял Куропаткину все свои тайны и нередко горячо спорил с ним, причем Алексей Николаевич спокойно и хладнокровно, со своей обыкновенной улыбкой, которая постоянно светилась в его умных, блестящих глазах, возражал Скобелеву, стоял на своем и часто заставлял генерала соглашаться с ним. Вообще, Скобелеву, с его пылкою, увлекающеюся натурой, было положительно необходимо иметь такого человека, каким был Куропаткин. Скобелев сам, казалось, это чувствовал и сознавал тяжелую утрату такого помощника и советника в это горячее время…
К востоку от той тропинки, по которой гуськом двигались наши солдаты, находилась небольшая гора, занятая турками, которые устроили на ней траншею и стреляли по спускавшимся с гор войскам, причиняя им немалые потери (расстояние было довольно незначительное – около полуверсты). Чтобы избавиться от этой несносной трескотни, Скобелев приказал сотнику Хоранову с полуротой солдат захватить упомянутую траншею ночью, когда стрельба обыкновенно прекращалась. Спустя некоторое время после того, как стемнело, от Хоранова было получено донесение, что упомянутая высота им занята.
Тяжелый день 26 декабря близился к концу. Солнце давно уже зашло за горы, в воздухе стало гораздо холоднее, темнота быстро увеличивалась, и отдельные выстрелы раздавались все реже и реже. Скобелев со своим штабом расположился на ночлег в одном из ближайших оврагов, возле ручья… Холодно, сыро, а укрыться нечем – бурку мою попалили господа писатель и художник.
Движение войск с гор ночью продолжалось. И если днем они двигались так медленно, с такими неимоверными усилиями, утопая по колено в снегу, срываясь с крутых скатов в пропасти, то легко себе представить трудность движения ночью, в темноте, по совершенно незнакомой, дикой местности и вблизи врага. А двигаться необходимо было: силы наши были слишком ничтожны, нам следовало как можно скорее собраться для дружного удара с задней стороны на многочисленного неприятеля. Ночь провели мы кое-как. Я сильно мерз и несколько раз просыпался от холода, невольно хватаясь руками вокруг себя и не находя спасительной бурки…
Рано утром 27 декабря мы все вскочили на ноги, Скобелев был в числе первых. Получено было донесение, что полтора батальона Углицкого полка успело за ночь спуститься с гор и несколько отдохнуть. Скобелев решил двинуть их вперед и заменить усталых казанцев.
– Посмотрим, как они будут действовать! – прибавил генерал. – Да поторопите, пожалуйста, горную батарею, – обратился он к кому-то. – Хотя особенной материальной пользы она и не принесет, зато нравственная будет несомненно: пехота пойдет веселее, да и турки подумают, что мы обладаем серьезными силами, и выдвинут против нас значительную часть своих войск. Радецкому и Мирскому будет тогда легче…
Становилось все светлее и светлее. Вдруг мы услышали в стороне и несколько позади сильную ружейную трескотню. Оказалось, что это стреляли турки по двигавшимся по дороге войскам из той самой траншеи на горке, которую Скобелев приказал занять ночью сотнику Хоранову и которая, как донес он, была им уже занята…
Скобелев страшно рассердился, приказал позвать Хоранова и начал его распекать. Оказалось, что Хоранов, по ошибке, занял в темноте совсем другую горку и принял ее за искомую.
– Черт знает что такое! – выругался генерал и, чтобы самому убедиться в ошибке Хоранова, поскакал к тому месту так быстро, что мы не могли поспеть за ним. Я догнал его в то время, когда он возвращался уже обратно, сильно рассерженный. Увидев меня, он сказал:
– Послушайте, возьмите сейчас полуроту солдат и выбейте турок с этой горы!..
Как раз в это время мимо нас, по дороге, двигалась 12-я рота Казанского полка.
– Здорово, молодцы! – крикнул им Скобелев.
– Здравия желаем, ваше превосходительство! – последовал дружный и громкий ответ.
– Откуда, ваше превосходительство, прикажете взять полуроту? – обратился я к генералу.
– А вот хоть из этой! – отвечал он, указывая на проходивших солдат…
Я поехал к роте.
– Дукмасов! – окликнул меня Скобелев. – Впрочем, возьмите всю роту… Да смотрите непременно овладейте горой!
– Постараюсь, ваше превосходительство! – ответил я и подъехал к ротному командиру.
– Господин штабс-капитан, – сказал я, взяв под козырек, как младший в чине, – генерал Скобелев приказал мне с вашей ротой выбить турок вон с той позиции… Поэтому я поведу первую полуроту в атаку, а вы со второй двигайтесь, пожалуйста, за нами в качестве резерва, и если меня отобьют, то поддержите… Местность эта мне знакома, и я проведу солдат самым удобным путем…
– Прекрасно, с Богом! – отвечал штабс-капитан.
И я немедленно с первой полуротой двинулся вперед, разомкнув ее предварительно, чтобы менее терпеть от огня. Местность к стороне неприятеля постепенно понижалась; затем следовала небольшая седловина и, наконец, довольно крутой подъем до самой вершины, где находилась неприятельская траншея.
Я заметил, что турецкие пули ложились все в определенном районе по склону горы, на которой мы стояли. Поэтому я со своими солдатами бегом пробежал это опасное место – и действительно, скоро пули стали свистать лишь над нашими головами. Все ближе и ближе ускоренным шагом, чуть не бегом, двигались мы в тумане вперед, поднимаясь к неприятельской траншее. К удивлению моему, огонь становился все реже и реже… Очевидно, защитники траншеи сочли более благоразумным заранее покинуть свою позицию, не рискуя штыками встретить нас…
Было не более пятидесяти шагов, когда я скомандовал своим солдатам «на руку!» и с криком «ура» кинулся в траншею. Штабс-капитан с остальными людьми следовал позади, в расстоянии около ста шагов. «Ура, ура-аа!» – подхватили шедшие позади нас казанцы, и вся рота, перегоняя друг друга, с одушевлением бросилась вперед. Вот, наконец, мы и наверху, в самой траншее неприятеля. Несколько смельчаков турок, стрелявших в нас почти в упор, были тут же переколоты. Остальные еще раньше удрали, и только красные фески их мелькали в отдалении между густыми кустами, в которых продолжали вспыхивать зловещие огоньки. Кроме траншеи мы захватили пороховой погреб с массой патронов, несколько ружей, ранцев, сумок и проч. Потери наши были ничтожны, сколько – не знаю наверно…
– Ну, капитан, поздравляю вас с победой! – сказал я, стоя на траншее возле убитого мною низама и пожимая от души руку довольного ротного командира. – Теперь позвольте вас покинуть: я поезду к генералу и доложу ему о нашем успехе…
Мы дружески простились. Вскоре я был возле Скобелева.
– Траншея взята 12-й ротой, ваше превосходительство, – доложил я, – турки отступили!
– Да, да, мы видели вашу лихую атаку… Сердечное вам спасибо! – и генерал крепко пожал мне руку.
Это дело было тоже упомянуто Скобелевым при представлении им меня к ордену Святого Георгия и обозначено в высочайшей грамоте.
Еще утром 27 декабря мы слышали с востока отдаленную артиллерийскую канонаду, которая не прекращалась в продолжение всего дня. Туман не позволял различить точно место сражения, но все решили, что это действует отряд князя Святополк-Мирского.
– Несомненно, что это Мирский действует! – говорил несколько раз Скобелев в сильном волнении. – Необходимо нам поддержать его и хоть часть сил неприятеля отвлечь на себя! Господи, как долго это стягиваются наши войска – поторопите их, пожалуйста!
Словом, Скобелев не раз в продолжение дня сердился, не раз высказывал сожаление, что не может немедленно двинуться на помощь сражающимся товарищам.
Наконец, к вечеру только 27-го около половины отряда успело спуститься в долину с гор: Углицкий полк, стрелки, болгары, казачий 9-й полк, уральская сотня и горная батарея.
Скобелев приказал немедленно же, т. е. вечером, собравшимся войскам двинуться вперед, на Шейново, и отчасти на Шипку, придерживаясь ближе к Балканам. Горной батарее приказано было выехать на позицию возожно ближе к неприятелю и, подкопав предварительно насколько можно больше хобота[223], сделать несколько залпов. Войска, пройдя некоторое расстояние по направлению к Шейново, остановились. Наступал уже вечер – темнота все увеличивалась. По приказанию Скобелева все музыканты и барабанщики торжественно сыграли зорю. Затем войска развели массу костров и отступили к Иметли, оставив на линии огней лишь аванпостную цепь.
Всеми этими мерами Скобелев хотел возможно больше напугать, обмануть турок относительно силы своего отряда и отвлечением на себя известной части неприятельских сил помочь этим Мирскому, действовавшему по ту сторону Шейново. Как оказалось впоследствии, хитрость эта достигла известных результатов, и испуганные турки отделили значительную часть своей армии против нашего отряда, а масса неприятельской кавалерии выдвинута была по направлению к Иметли.
Сильно измучившись физически и, главное, нравственно за тяжелые дни 26 и 27 декабря, я думал немного отдохнуть за ночь, когда поздно вечером отряд наш расположился бивуаком у деревни Иметли. Я уже предвкушал заранее сладость отдыха и высматривал только поуютнее местечко для ложа, как вдруг ко мне явился граф Келлер, исполнявший после Куропаткина обязанности начальника штаба.
– Вам Скобелев приказал сейчас же отправиться на Шипку к генералу Радецкому с важными бумагами… Генерал испрашивает приказаний у Радецкого и доносит, что завтра утром он может начать дело.
– Вот тебе и отдых! – подумал я, скорчив недовольную мину. – Граф, попросите, пожалуйста, генерала, нельзя ли назначить кого-нибудь другого вместо меня. Я страшно устал и за эти два дня положительно не имел отдыха, все время был в делах…
– Нет, генерал окончательно решил этот вопрос. Он именно и надеется, что вы, как казак, скорее выполните эту трудную задачу – пробраться ночью по горам к Радецкому и привезти к утру приказание от него.
Как ни лестны были для моего самолюбия эти слова графа, но я с удовольствием бы в то время передал эту честь кому-нибудь, лишь бы меня оставили в покое и дали отдохнуть – забыться и заснуть хоть на два-три часа… Человеку, который не испытал сильной усталости души и тела, трудно понять, как тяжело пересиливать натуру, какие нужны для этого сверхъестественные усилия… Волей-неволей пришлось снова усесться на своего усталого коня и одному пробираться по совершенно незнакомой местности к горе Св. Николая.
Перед выездом, собираясь в ночное путешествие, я столкнулся в темноте с художником В. В. Верещагиным.
– Что, собираетесь в путь? – сказал он мне, улыбаясь. – А знаете, это по моему настоянию Скобелев посылает вас на Шипку… Если воротитесь к утру, генерал обещает вам крест, а если опоздаете – арест…
Мне было не до разговоров, я торопился скорее в дорогу.
Выехал я из Иметли в девять часов вечера, когда было уже совершенно темно. С неимоверными усилиями, рискуя ежеминутно сломать себе шею, пробирался я еле заметной тропинкой через глубокие ущелья и балки, карабкался на громадные горы, скатывался в какие-то пропасти, поросшие густым лесом. Раза два я падал с лошади, раз сорвался вместе с ней в небольшой, к счастью, овраг и отделался только ушибом и ссадинами на физиономии. Но лошадь моя сильно захромала, и я принужден был оставить ее в горах на оказавшемся, к счастью, вблизи казачьем посту (казаки 9-го полка содержали здесь полевую почту), а сам пересел на лошадь казака.
Наконец, после целого ряда тяжелых испытаний и ожиданий сделаться навсегда калекой (не от пули, а от падения), я добрался, около двух часов ночи, до отряда Радецкого на гору Св. Николая. Генерал Радецкий – очень умный, симпатичный и простой человек – принял меня в своей неприхотливой и вполне боевой землянке чрезвычайно любезно, гостеприимно, напоил чаем с ромом и предложил закусить. Великое спасибо ему за этот чай с ромом, который сильно поддержал мои упавшие силы. (Кроме Радецкого, тут были еще начальник штаба его, генерал Липинский[224], и несколько адъютантов.)
– Я очень, очень рад вашему приезду! – добродушно улыбаясь, говорил генерал в то время, как я с волчьим аппетитом истреблял закуску. – Я сильно-таки беспокоился за ваш отряд, не получая оттуда никаких известий. Ну, слава Богу – теперь я совершенно спокоен!
– Генерал Скобелев послал вашему превосходительству еще утром донесение – не знаю, отчего оно не получено! – отвечал я. – Дорога у нас ужаснейшая. Люди и лошади буквально выбиваются из сил, и ранее вчерашнего вечера немыслимо было спуститься тем частям, которые находятся в долине близ Иметли…
Затем я рассказал подробно генералу все дела нашего отряда 26 и 27 декабря, про зорю с церемонией[225]и прочие подробности. Радецкий слушал рассказ мой, несмотря на поздний ночной час, с живейшим интересом и, в свою очередь, рассказал мне про действия своего отряда.
– Да, конечно, – согласился Радецкий, – при таких условиях трудно было спуститься скорее! Но все-таки я сильно побаивался за вас. Вчера утром еще я получил донесение от князя Мирского, в котором он сообщает про свое критическое положение и просит непременно поддержки со стороны моего отряда. «Что же касается отряда Скобелева, – пишет он, – то о нем я не имею никаких известий». Я ответил князю, что поддержу его и сделаю вылазку, чтобы привлечь на себя хоть часть неприятельской силы. Сообщил ему также, что про ваш отряд ничего не знаю, но каждую минуту поджидаю донесения… И вот, чтобы поддержать князя, я должен был решиться на атаку неприступной неприятельской позиции, – продолжал он. – Я предвидел, что все окончится неудачей, но не мог, конечно, отказать князю в этой помощи…
Да, день 27 декабря нам дорого стоил, – сказал генерал немного погодя, глубоко вздохнув, – я потерял своих лучших солдат, которые оказали буквально чудеса храбрости: им пришлось двигаться в атаку узким фронтом по дороге, перекопанной в нескольких местах траншеями, через глубокие ущелья, под убийственным огнем… И все-таки они взяли три ряда этих траншей, пока, наконец, немыслимо было двигаться дальше… Полки потеряли почти две трети своих людей – и особенно пострадал лихой Подольский полк полковника Духонина…[226] Конечно, этой атакой я спас Мирского и удержал до 35 таборов, которые собирались уже на него ринуться. Видно было даже, как некоторые части турецкого войска стали спускаться с гор в долину, но потом опять поднялись вверх.
Услышав от меня, что начальник штаба наш ранен, Радецкий с неподдельным сочувствием воскликнул:
– Куропаткин ранен! Ах, как жаль, как жаль! Такой прекрасный, полезный офицер! Это большая потеря для вас!
Радецкий положительно очаровал меня своею обходительностью, простотой, доступностью и вместе умом и ясностью изложения. Всего я пробыл у благородного и симпатичного героя Шипки около двух часов. За это время необходимые бумаги были написаны, и Радецкий передал их мне. Кроме письменного приказания, генерал передал также и словесно весь план действий на 28 декабря. Получив все необходимое, я встал и раскланялся.
– Ну, до свиданья, – сказал добродушно Радецкий, пожимая мою руку. – От души желаю успеха вашему отряду. Передайте поклон мой Скобелеву! Счастливой дороги!
Было около четырех часов утра и совершенно еще темно, когда я снова уселся на коня и поехал в обратный путь. Ехать было, пожалуй, еще хуже: хотя дорога была более или менее знакома уже, но зато приходилось преимущественно спускаться или просто скатываться на задних ногах лошади. Где дорога позволяла, я, боясь опоздать, скакал во весь дух, несмотря на крайне неудобное сиденье – туго набитую подушку, где хранится обыкновенно все имущество и походное богатство казака и которую он бережет как зеницу ока. Было уже совершенно светло (часов около восьми), когда я доехал до того места, где еще ночью полетел с лошадью в овраг. Конь мой несколько оправился, и я снова пересел на него. Наконец, я спустился в долину и направился к Иметли. Еще с гор я увидел, что отряд наш уже выступал с бивуака и развертывался в боевой порядок. При этом правый фланг направлялся в обход Шейнова, очевидно с целью отрезать путь отступления туркам. Это совершенно согласовалось с видами генерала Радецкого, а потому я успокоился и несколько сдержал скакавшего все время коня…
Вдали, между войсками, виднелась группа всадников, над которой рельефно развевался белый значок. Я направился на этот знак и скоро был возле Скобелева.
– Ваше превосходительство! Бумаги от генерала Радецкого! – сказал я, передавая ему пакеты.
Генерал прочитал, поблагодарил меня за быстрое исполнение поручения и в продолжение всего дела не тревожил уже более.
Между тем войска наши продолжали наступление против неприятельской позиции, которая резко обозначалась несколькими редутами и линией траншей по обе стороны Шейново.
На правом фланге двигался Углицкий полк, в центре и на левом – стрелки, болгарское ополчение и горная батарея. Донцы находились правее угличан, а уральцы Кирилова охраняли отряд с тыла, со стороны Карлова.
Бой завязала наша горная батарея. Несмотря на ничтожный калибр, действия ее были прекрасны, и маленькие снаряды рвались в самых турецких редутах и траншеях. Неприятель энергично отвечал нам не только артиллерийским, но и сильным ружейным огнем. Вдруг один из снарядов наших ударился в неприятельский зарядный ящик, находившийся в редуте, и в то же мгновение последовал страшный взрыв… Радостный крик прогремел среди наших войск, и, воспользовавшись этой удобной минутой, они бросились в атаку на неприятеля. Атака эта, к несчастью, не имела, однако, успеха. Силы наши были еще слишком ничтожны, позиция неприятельская слишком сильна, а пространство, по которому пришлось двигаться атакующим войскам, не представляло для них ровно никакого прикрытия. На правом фланге Углицкий полк, предводимый храбрым командиром, полковником Панютиным, смело ринулся вперед… Но, встреченный страшным свинцовым дождем, который вырывал из рядов десятки жертв, он должен был остановиться и залег в одной из складок местности. Путь полка резко обозначался массой убитых и раненых, рассеянных по полю. Последние поодиночке тащились обратно, оглашая воздух жалобными стонами…
В центре и на левом фланге такая же участь постигла болгарское ополчение и стрелков Меллера-Закомельского. Хотя они и овладели неприятельским редутом, но, потеряв при этом значительную часть бойцов и сильно расстроившись, не могли удержаться во взятом укреплении и должны были отступить из редута, который снова перешел во власть турок. Видя, как наши стрелки отступают из купленного такой дорогой ценой редута, так и хотелось броситься вперед, крикнуть им: «За мной, братцы!», ворваться вновь в укрепление и прочно засесть за земляною насыпью.
Еще ранее Скобелев разослал ординарцев торопить движение остальных войск – в них была настоятельная нужда. В то время, когда передние бойцы наши потерпели временную неудачу и принуждены были приостановить атаку, не будучи в силах двигаться дальше, подмога, в лице Владимирского и Суздальского полков, уже спешила к ним в боевую линию на выручку.
Общими силами (оставив в частном резерве два батальона) войска наши вновь бросились на неприятеля, и снова загорелся ожесточенный бой. Успех видимо склонялся на нашу сторону, и в некоторых редутах и траншеях уже показались русские кепи. Чтобы поддержать сражающихся и еще более развить успех атаки, Скобелев приказал двум батальонам частного резерва двинуться на подмогу стрелкам и угличанам, а также отправил одного из ординарцев на левый фланг, где находился Казанский полк, охраняющий наше расположение со стороны Шипки, с приказанием направиться возможно скорее упомянутому полку в общий резерв. В самый разгар этого боя на поле сражения прибыл генерал Дохтуров со своею кавалерией.
– В распоряжение вашего превосходительства я прибыл с 1-ю кавалерийской дивизией. Куда прикажете направиться? – доложил генерал Дохтуров, подъехав к Скобелеву.
– Направляйтесь, пожалуйста, скорее на правый фланг. Постарайтесь отрезать совершенно туркам путь отступления и войдите непременно в связь с отрядом князя Святополк-Мирского.
Каждая минута была дорога, и Дохтуров немедленно же поскакал приводить в исполнение приказание Скобелева. Бой между тем продолжался. Раздавалась непрерывная ружейная трескотня, частые орудийные выстрелы, со всех сторон слышались громкие, победные крики «ура». Скобелев внимательно следил за картиной боя и с одного места постоянно переезжал на другое, нимало не стесняясь тем обстоятельством, что возле него то и дело шлепались гранаты и зарывались в землю пули. Он весь был поглощен этой мрачной картиной человеческого истребления, весь был сосредоточен на одной мысли – овладеть во что бы то ни стало этими редутами, батареями, траншеями… Победа или смерть! – иного выбора для него, казалось, не было. Это читалось в его блестящих глазах, в порывистых движениях каждого мускула его воинственного лица, в беспокойных, нервических подергиваниях поводом и ногами по бокам лошади… Еще неудача – и он сам с последним резервом ринется вперед и выйдет наверное победителем, если только какая-нибудь шальная пуля не уложит на месте этого беспокойного гения войны!
– Два батальона Казанского полка пришли в общий резерв! – доложил кто-то из ординарцев.
– Хорошо, – отвечает генерал не поворачивая головы.
– Генерал Дохтуров прислал доложить вашему превосходительству, что он вошел в связь с отрядом князя Святополк-Мирского! – раздается донесение другого гонца.
– Слава Богу, – отвечает снова генерал, и лицо его несколько просияло.
– От князя Мирского приехал казачий офицер с пакетом!
Скобелев нетерпеливо разорвал пакет и прочел сообщение князя.
– Ну, теперь пора двигаться в решительную атаку! – сказал генерал, поднимая голову, и отдал соответствующие приказания.
Четыре батальона, поротно в две линии, с распущенными знаменами и с музыкой двинулись вперед. Этот вид стройно двигавшихся под музыку, точно на параде, русских батальонов с развевавшимися историческими знаменами, бывшими на полях Германии и Франции и получившими, почти четверть века тому назад, новое боевое крещение на бастионах Севастополя, произвел на турок положительную панику. Бросив орудия, снаряды, лагерь, они бежали на Казанлык. Но тут их встретила кавалерия Дохтурова, и целые сотни мусульман гибли под ударами шашек русских гусар, улан, драгун и казаков. Целые таборы, видя свое безвыходное положение, бросали орудие, знамена и умоляли только о пощаде, о сохранении жизни. А с востока и севера между тем на турок сильно стали наседать войска Мирского и Радецкого, и с каждой минутой все меньше и меньше делались те роковые стальные тиски, которые крепко охватывали расположение неприятельских войск.
Турки были окружены со всех сторон – их положение сделалось критическим. Исходов было два: честный – пробиться через эту грозную стену русских штыков и шашек и хоть горсти отступить на Казанлык и дальше; позорный – выкинуть белый флаг и просить пощады и великодушия победителя! Турки выбрали последнее – это дело было им уже привычное. Скобелев только что выехал из лесу на поляну перед вторым батальоном общего резерва, который он лично вел в атаку, как его догнал сотник Хоранов, посланный генералом за батальоном Казанского полка. Еще издали он что-то кричал и махал шапкой.
– Что это он – сдурел, что ли? – сказал Скобелев, заметив жестикуляции Хоранова…
– Ваше превосходительство! На главном кургане турки выкинули белый флаг! – радостно прокричал он наконец, подскакав ближе.
– Что вы – правда ли это? Вы разве видели?
– Так точно, ваше превосходительство, ей-богу, видел! – запыхавшись и весь красный, отвечал он.
Действительно, присмотревшись, мы ясно различали на большом кургане развевавшийся белый флаг – роковой и позорный для турок, славный, счастливый для нас.
– Остановите резерв, – обратился Скобелев к батальонному командиру. – А вы, – продолжал он, обращаясь к Хоранову, – ведите меня к главному кургану.
Крупной рысью мы двинулись вперед. Стрельба против нас прекратилась, турецкие солдаты бросали оружие… Мы быстро проехали мимо палаток Красной Луны…[227] Несколько докторов (турок и англичан) вышли нам навстречу и низко поклонились Скобелеву. Наконец, мы подъехали довольно близко к главному кургану и увидели здесь несколько белых флагов.
– Поезжайте с переводчиком вперед, – обратился генерал к поручику Лисовскому, – и узнайте от Весселя-паши[228], на каких условиях он сдается.
Вскоре Лисовский вернулся и сообщил, что Вессель-паша сначала пожелал узнать, какой чин у Скобелева, и когда ему сказали, что генерал-лейтенант, то только тогда согласился на сдачу, причем вполне отдавался на милость победителя. Веселая, счастливая улыбка осветила лицо Скобелева. Мы все, конечно, вполне разделяли радость нашего полководца. «А что, – пришла мне в это время мысль, – что, если бы Скобелев был на месте Весселя-паши и в таком же критическом положении?» Я не сомневался ни на минуту, что он никогда не отдал бы своей шашки врагу, что он принял бы другое, более рыцарское решение – прорваться и, в крайности, с честью умереть, «мертвые бо сраму не имут!».
Мне почему-то думалось, что Скобелев мало того что прорвался бы, но, действуя энергично, отчаянно, одержал бы даже победу… Военная история представляет немало подобных примеров! Не думаю, чтобы турецкий солдат уступал в храбрости русскому при условии мужественного, энергичного и дельного начальника! Осман-паша под Плевной доказал нам это!
Между тем на нашем правом фланге и у Мирского стрельба продолжалась – им не была еще известна наша общая радость. Скобелев разослал гонцов во все стороны с известием об этом событии. Вессель-паша, глубоко вздохнув, то же сделал со своей стороны относительно турецких войск. Мало-помалу по всей окровавленной долине стрельба стала стихать. Скобелев приказал войскам своего отряда собраться у главного редута, впереди Шейново, и выстроиться фронтом к Шипке; генералу Столетову с двумя офицерами он поручил отправиться к северу от Шипки в горы и предложить сдаться тем турецким войскам, которые занимали там позицию против отряда Радецкого.
Турецкий полковник, командовавший этими войсками, отказался вступить в переговоры с генералом Столетовым и угрожал стрелять в него, если он не повернет обратно. Тогда Скобелев приказал: всем войскам, собравшимся у главного редута, с музыкой и распущенными знаменами двинуться вперед в боевом порядке по направлению к Шипке (стрелки и кавалерия находились впереди). Затем вторично послан был генерал Столетов, чтобы предупредить турок, что если они не сдадутся, то будут беспощадно разгромлены с двух сторон – с севера и с юга. Вместе со Столетовым поехал турецкий офицер от Весселя-паши с поручением передать полковнику приказание сдаться, причем упомянуть о грозной силе русских войск и бесполезности сопротивления.
Столетову же Скобелев передал и шашку Весселя-паши, которая служила бы таким образом турецкому полковнику наглядным доказательством сдачи его собратьев; затем эту шашку генерал Столетов должен был вручить начальнику всех русских войск, оперировавших в окрестностях Шипки – генералу Радецкому.
Вскоре мы увидели с наших мест, что миссия Столетова увенчалась полным успехом: над грозными турецкими укреплениями, расположенными в горах к северу от Шипки, показалось несколько белых флагов… Радостный, победоносный крик прогремел по всей долине, шапки наши полетели высоко вверх… Это был финал нашей славной общей победы в долине Тунджи, финал триумфа наших мужественных полководцев – Радецкого, Скобелева и Святополк-Мирского! Хотя львиная доля победы приходилась, бесспорно, на наш отряд, но нельзя умалять также громадных подвигов нашего северного и восточного отрядов, хотя действия их и не были обставлены таким наружным блеском.
Скобелев был поэтом войны и умел самый кровавый эпизод боя – атаку, штурм – облечь в красивую, поэтическую форму (распущенные знамена, музыка, барабанный бой), что действует так возбуждающе на нервы сражающихся, так сильно на воображение массы. Беспристрастному историку, конечно, лучше известно, кому следует надеть лавровый венок – Радецкому, Скобелеву или Мирскому. Мое личное скромное мнение, что его вполне достойны все три славных наших полководца, и прежде всего, конечно, Радецкий. Государь так и оценил подвиги каждого из них, и Георгиевские кресты красуются на каждом из героев Шипки и Шейнова… Долго еще разносило эхо в суровых Балканах радостное русское «ура», и тяжело отзывалось оно в сердцах бросивших оружие пленных османов.
Кто не был в сражении, кто не видел перед лицом своим неумолимую смерть, кто, наконец, не испытывал горького, щемящего чувства при неудачах, поражениях, кто не плакал нравственно при виде бегущих товарищей, тот не поймет того сладостного, счастливого чувства, которое испытывает самый последний рядовой при этом магическом слове «победа»… По-видимому, не все ли равно для этого ничтожного рядового – победить или сдаться в плен, назваться победителем или побежденным?! Ни в том ведь, ни в другом случае его не ожидает ничего особенного, радостного! А между тем всмотритесь в эти простые, загорелые солдатские лица: сколько в них счастья, оживления, какое невыразимое блаженство светится в этих блестящих глазах!
Нужно самому быть участником этих событий, самому пережить такие минуты, чтобы понять их, понять то сильное, радостное чувство, которое не забывается во всю жизнь… «Господи, как хорошо, как сладко жить в этом мире!» – выражает лицо каждого из победителей. И, несмотря на это наслаждение земной жизнью, предложите этим самым людям броситься опять в новый смертельный бой – и они, не задумываясь, совершенно добровольно, как звери, ринутся на новую, почти верную гибель. Странно, загадочно создан человек! Трудно понять душу его и громадное влияние на нее другой, более сильной человеческой души! Одно слово, одна фраза любимого полководца – и тысячи охотно бросаются на смерть, на страшные, мучительные пытки!
Скобелев выстроил войска покоем[229].
– На молитву, шапки долой! – раздалась его зычная команда, и головы быстро обнажились…
Теплая, сердечная молитва долго носилась над этой многотысячной толпой. Многие плакали, благодаря Творца за дарованное счастье нашему оружию, нашему царю и Родине, а потом уже за избавление от опасности и спасение жизни в этом адском, кровавом бою… Молились за павших товарищей, за оставшихся в живых, за царя, за Россию… И эта картина горячей молитвы русских православных воинов, благодарящих Бога за славную победу, – тоже, наверное, живо врезалась в память каждого участника. Наконец молитва была окончена.
– Накройсь! – прозвучала новая команда по рядам батальонов, и солдаты надели шапки.
Тогда Скобелев объехал свои войска и горячо благодарил их за лихую службу, за храбрость, за победу! Величественна была эта фигура «белого генерала» на красивом белом коне, мчавшегося мимо своих победных войск. Сколько жизни и энергии виднелось в этом оживленном, умном и воинственном лице молодого отважного вождя. Сколько силы представляла собой вся эта красивая фигура героя Плевны и Шейново!
– Именем Государя, именем России, спасибо, братцы, за вашу службу! – благодарил генерал, и новое сердечное, оглушительное «ура» вылетало из рядов и огласило кровавую Долину Роз…
Этим криком русские воины выражали свою преданность обожаемому монарху и постоянную готовность броситься на новые испытания по одному Его слову. Чудную и незабвенную картину эту высокоталантливый наш художник В. В. Верещагин (свидетель всего этого) воспроизвел и увековечил для потомства в своей прелестной картине «Победа».
Духовная дань была, таким образом, заплачена. Нужно было позаботиться теперь о пополнении израсходованных физических сил, об отдыхе и еде победителей, о судьбе, наконец, побежденных (в отношении которых русский человек никогда не применял знаменитой и страшной в свое время фразы: «горе побежденному!», а напротив, насколько он беспощаден в разгар боя, настолько же великодушен и гуманен к врагу безоружному, помня русскую пословицу, что «лежачего не бьют!»), о погребении тех несчастных и неизбежных жертв, дорогой ценой которых куплена эта славная победа, о призрении многочисленных раненых, которые рассеяны были по всему полю и давно уже молили о помощи… Словом, нужно было позаботиться о тех бесчисленных житейско-боевых нуждах, которые окружают сражающихся во все времена человеческих кровавых распрей.
Войска расположились бивуаком у Шейново, и закипела работа по устройству временного жилья и приготовлению пищи. Скобелев пригласил к себе на обед Весселя-пашу и некоторых турецких докторов. Мы же, штабные, разбрелись по разным местам искать приюта и пищи.
Ранее мы всегда продовольствовались у Михаила Дмитриевича, и не только мы, но и все лица, приезжавшие к Скобелеву по какому-либо делу, находили у него радушный прием и обильное угощение… Перед переходом же через Балканы Скобелев предупредил нас, чтобы каждый позаботился о собственном продовольствии, так как он не может нас кормить при столь неблагоприятной обстановке. Впрочем, я, несмотря на свою беспечность и безалаберность, никогда не был голоден, никогда не нуждался в еде. В любом полку, эскадроне, в любой батарее и сотне я всегда находил себе продовольствие, все любезно приглашали к себе и охотно делились своими скудными запасами…
До 31 декабря все мы почивали на лаврах: высыпались, наедались, починялись и приготовлялись к приезду Главнокомандующего, которого ожидали в последний день тяжелого, кровавого 1877 года[230]. Впрочем, это приготовление не составляло для нас труда, а напротив, скорее было радостно. Нам приятно было порадовать августейшего полководца, приятно было увидеть, как он разделит с нами радость и скажет свое дорогое для нас «спасибо». Мы с нетерпением поэтому ожидали Великого князя. Раненые – наши и турецкие – были подобраны и перевязаны, убитые зарыты в землю. Долина роз вновь приняла поэтический мирный вид, и незаметно было даже, что она поглотила в себя целые ручьи русской и турецкой крови.
В десять часов утра 31 декабря отряд наш выстроился перед Шейново, фронтом к Шипке. У последней деревни находились офицеры, которые должны были предупредить отряд при появлении Его Высочества.
Около двенадцати часов дня из Шипки выехала группа всадников, впереди которых ехал Великий князь. Музыка заиграла марш. Скобелев подъехал к Главнокомандующему и отрапортовал ему. Николай Николаевич подал руку Скобелеву, затем горячо обнял и поцеловал его и поздравил со шпагой, украшенной бриллиантами. Затем Его Высочество стал объезжать войска. Он останавливался возле каждого полка, снимал фуражку и сердечно благодарил воинов за молодецкую службу Государю, за славную, лихую победу…Вновь громкое русское «ура» покатилось по Долине Роз, и это родное, сердечное «спасибо» из уст высокого полководца и от лица самого Государя было особенно дорого нам, бойцам, после целого ряда этих лишений, потерь и опасностей.
Затем Главнокомандующий поехал к войскам князя Мирского, которые стояли бивуаком близ дороги из Шипки в Казанлык, а наш отряд в тот же день направился в Казанлык, до которого было только двенадцать верст, где и разместился на квартирах. Здесь, на самом берегу Тунджи, мы скромно встретили Новый год. Каждый невольно задавал себе вопросы: что-то нас ожидает в этом новом году? долго ли еще протянется эта человеческая бойня? увенчаются ли достойной наградой наши победы? и проч. и проч.
В день Нового года отряд быстро двинулся далее. Надо было торопиться и возможно скорее достигнуть Адрианополя – турецкой Москвы…[231]
Западный отряд нашей армии двинулся, как известно, под предводительством Гурко после падения Плевны на юг, перешел Балканы с неимоверными трудами и страшными жертвами[232] у Араб-Конака, имел несколько блестящих дел на вершинах гор и у подножия их, завладел столицей Болгарии – Софией, разбил на всех пунктах турецкую армию и форсированным маршем двигался теперь на восток – на соединение с нами, по направлению на Филиппополь и Адрианополь.
Остатки этой растерзанной турецкой армии, под предводительством Сулеймана (нашего знакомого по Эски-Загре), поспешно отступали на восток, и мы боялись, что они предупредят нас в Адрианополе. Овладеть этим пунктом для нас было чрезвычайно важно: помимо его административного, политического и экономического значения он был, как нам доносили болгары, укреплен чрезвычайно солидно, и при занятии этих фортификационных построек приличными силами мы могли наткнуться на новую Плевну…
Из Казанлыка мы двинулись сначала к востоку, вдоль левого берега реки Тунджи, а затем, перейдя ее, свернули на юг, перевалили через Малые Балканы и достигли Эски-Загры. Знакомый путь, знакомые, печальные места! Каждый куст был здесь мне памятен, каждая горка наводила на то или другое воспоминание! А вот и Эски-Загры! Боже, как сильно забилось у меня сердце при виде этих жалких развалин, этого пепелища когда-то славного, цветущего города. Живо припомнилась мне сердечная встреча и умиление жителей при виде своих – болгарских войск; счастливые дни здесь в обществе хорошенькой, стыдливой Пембы; мое участие в набеге на берег реки Марицы и разрушение железной дороги у станции Каяджик; радостное возвращение в Эски-Загру, в объятия очаровательной Пембы – все это быстро пронеслось в моей голове!
Но светлые мысли сменились тяжелыми, мрачными: вот грозные слухи о движении армии Сулеймана-паши; вот зловещие выстрелы в виноградниках, к югу от города; вот, наконец, наступление этих грозных туч, этой страшной массы турецкой армии. Ужасный неравный бой!.. «Бойцы умирали, но не сдавались!» – смело мог бы повторить Гурко знаменитую наполеоновскую фразу. Бедные юные болгарские воины! Сколько вас легло здесь, на окраине родного вам города, защищая его своею грудью бок о бок со старшими северными братьями, которые так бескорыстно пришли сюда для освобождения вас от векового рабства! Глубоко вздохнул каждый из нас, помянув этих честных бойцов, и набожно перекрестил свой лоб, пожелав им спокойной жизни там – в неведомом нам мире!
Отряд двинулся далее к юго-востоку, до станции Карабунара (на линии Ямболь – Тырново-Сейменли) и отсюда, вдоль течения реки Саллы-дере, до этой последней станции. Расстояние это – 130 верст – от Казанлыка до Тырново-Сейменли отряд прошел всего в три дня. И это после таких ужасных дел, после такого чудовищного перехода через горы! Особенно же надо было удивляться выносливости нашей пехоты. Тырново-Сейменли – пункт очень важный: здесь сходятся железнодорожные пути из Филиппополя, Ямболя и Адрианополя. Владея этой станцией, мы совершенно отрезали туркам сообщение с их второй столицей из упомянутых двух пунктов.
Впереди отряда двигалась кавалерия под командой генерала Струкова (дивизия Дохтурова, № 9 донской казачий полк); за ними, в некотором расстоянии, следовали 16-я пехотная дивизия и 3-я стрелковая бригада. Кавалерии открылось широкое поле для действия, и она вполне оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Дерзко и смело нападала она даже на солидные пехотные неприятельские силы, преграждавшие ей путь в укреплениях, и мало-помалу один за другим переходили в наши руки турецкие деревни, города, железнодорожные узлы и проч. С каждым часом мы все больше и дальше углублялись внутрь турецкой территории, все более и более расширялся район наших завоеваний.
В Тырново-Сейменли Струков одержал блестящую победу – захватил железнодорожный мост через реку Марицу и деревню. Табор пехоты, защищавший этот важный пункт, после незначительной перестрелки стремительно бежал из редута от нашей конницы, оставив в распоряжении драгун и казаков шесть крупповских дальнобойных пушек. Струков донес Скобелеву о своей победе и, вместе с тем, просил прислать скорее пехоту, так как опасался, что из города Германлы, отстоящего от Тырново-Сейменли верст на пятнадцать, могут напасть находившиеся там четыре табора пехоты.
Скобелев сделал распоряжение о скорейшем движении нашей пехоты и сам со штабом почти без остановки проскакал от Эски-Загры до Тырново-Сейменли, куда и прибыл 3 января вечером. Здесь нас встретил Струков. Скобелев горячо поблагодарил своего друга и товарища за лихое дело и с удовольствием принял предложение Струкова отпраздновать победу ужином на вокзале. Еще ранее Струков об этом позаботился, и мы, голодные и измученные длинным переходом, с наслаждением поели прекрасно приготовленный ужин, запив его отличным вином. Весело и оживленно прошел этот ужин в турецком вокзале, на узле важных железнодорожных линий. Задушевные тосты, горячие пожелания и теплая товарищеская беседа соратников продолжалась далеко за полночь. Наконец, мы разошлись спать, а Скобелев со своим начальником штаба, графом Келлером, занялись делами и почти до рассвета были погружены в разные вычисления, писания и планы.
На следующий день, 4 января, Струков с кавалерией двинулся далее – на Германлы и Мустафапашу. В последнем городе, на железнодорожной станции он встретил поезд, пришедший из Адрианополя, на котором находилось двое пашей, специально командированных султаном к Главнокомандующему – для переговоров о перемирии. Паши хотели ехать далее, но Струков предложил им выйти из вагона и продолжать путь в экипаже, а поезд взял в свое распоряжение.
Хотя паши и протестовали против такого насильственного ареста их посольского поезда, но Струков отговаривался будто бы полученными им инструкциями и направил их к Скобелеву, который-де разрешит их недоразумение…
Получив обо всем этом донесение от Струкова, Скобелев вполне одобрил его действия и, вместе с тем, приказал, чтобы посольский поезд был прислан в Германлы, где в это время находился Михаил Дмитриевич. Пашей же приказал задержать до тех пор, пока он не получит разрешения от Главнокомандующего относительно пропуска их через наши войска. Конечно, это был только предлог, чтобы возможно дольше задержать их и тем временем захватить побольше неприятельской территории.
В то время как Струков со своим легким и лихим отрядом так удачно действовал почти под стенами Адрианополя, в тылу его, между Германлы и Хаскиоем, разыгралась маленькая кровавая драма: 5 января с частью сил своего отряда Скобелев находился в городе Германлы, расположенном на железной дороге и вместе на Филиппопольско-Адрианопольском шоссе. Войска Гурко, овладев Софией и западной частью Болгарии и одержав целый ряд блестящих побед в долине Искера, быстро двигались на восток, преследуя разбитую и деморализованную армию Сулеймана-паши.
Последний, по предположению Скобелева, должен был направиться через Филиппополь на Адрианополь. В Германлы, таким образом, мы преграждали ему путь отступления. Ввиду всего этого, Скобелев выслал драгунов и казаков на запад к городу Хаскиою, а пехоте и артиллерии приказал занять позицию по обе стороны шоссе, фронтом на запад, и усилить ее полевыми укреплениями.
Еще 5-го вечером от разъездов было получено донесение, что близ Хаскиоя и Узунджова показались незначительные конные неприятельские части. 6-го же, часов около одиннадцати, с аванпостов пришло новое донесение, что черкесы и башибузуки показались в довольно значительном количестве, а за ними виднеется и неприятельская пехота. Войска наши между тем подтягивались к Германлы: из Тырново-Сейменли двигалась бригада стрелков, большая часть суздальцев и артиллерия.
Скобелев давно был уже на коне, объезжал и внимательно осматривал позиции Углицкого полка и артиллерии.
– Ваше превосходительство! Турки наступают – аванпосты наши отошли! – торопливо доложил прискакавший с цепи драгун.
– Хорошо! – совершенно спокойно ответил генерал. – Поторопите скорее суздальцев, – обратился он к кому-то из ординарцев.
Драгуны и казаки отошли назад и открыли место для действий нашей пехоты. Последняя встретила метким огнем зарвавшихся при преследовании черкесов и башибузуков, и несколько десятков их слетело с коней. Остальные марш-маршем ускакали назад и спрятались за свою пехоту; а эта последняя, заняв высоту в расстоянии хорошего ружейного выстрела, открыла по нашим войскам оживленный огонь.
Турок было видно около двух таборов. Скобелев, предполагая, что мы имеем дело лишь с авангардом армии Сулеймана-паши и ввиду неполного сосредоточения наших войск, решил действовать пока пассивно. Батарея полковника Куропаткина в ответ на пехотный огонь неприятеля послала ему несколько картечных гранат, и эти последние своими удачными разрывами произвели на турок такое сильное впечатление, что они без попыток даже к наступлению с нашей стороны покинули свою позицию и стали отступать.
Панютин воспользовался этим удобным моментом и двинул вперед свой полк. Угличане дружно бросились на отступавшего врага, который обратился тогда в беспорядочное бегство, провожаемый сильным ружейным и артиллерийским огнем, усеявшим все поле турецкими трупами и ранеными.
Преследуя бегущих турок и спустившись с возвышенности, мы, при повороте шоссе с севера на юг, внезапно были поражены той страшной картиной, которая открылась внизу перед нашими глазами. Дело в том, что турецкие войска, с которыми мы имели только что кровавое столкновение, прикрывали громадный обоз жителей, спасавшийся от войск Гурко и рассчитывавший достигнуть Адрианополя. По своей беспечности, прикрытие неприятельское не приняло должных мер предосторожности и совершенно неожиданно наткнулось на наш отряд. Предполагая, вероятно, что силы наши незначительны, турки вступили с нами в состязание, но увидев, что ошиблись в своем предположении, что у нас есть даже артиллерия, они стали отступать сначала в порядке, а затем, когда мы начали их теснить, бросились врассыпную, оставив на полный произвол несчастных безоружных жителей с их громадным обозом.
Вот эта-то картина и открылась перед нашими глазами, когда мы стали спускаться с возвышенности. Далеко вдали, в долине, скакали черкесы и башибузуки. За ними, в самом ужасном беспорядке, бежала неприятельская пехота, а вслед за войсками – в паническом страхе бежали мирные жители, женщины и дети, оглашая воздух раздирающими душу криками и страшными воплями.
Громадный обоз, брошенный ими на произвол судьбы и состоявший из нескольких сот всевозможных повозок, запряженных буйволами и лошадьми, в хаотическом беспорядке запрудил все шоссе (лошади и волы стояли в нашу сторону) и не двигался с места. Здесь остались только дряхлые старики, старухи и грудные малютки, покинутые обезумевшими от страха матерями. Некоторые мальчики и девочки, бежавшие за своими родителями, падали от утомления на землю и воплем звали покинувших их близких людей. Некоторых неосторожная русская пуля укладывала навеки на месте.
Невольно каждый из нас остановился и смотрел с ужасом на эту грустную жизненную драму. За что же, думал, вероятно, каждый из нас, страдают эти несчастные безвинные жертвы – эти женщины и дети?! Чувство человека заговорило бы в самом черством, суровом сердце. И солдат наш, который более чем кто-либо отзывается на все доброе, честное и благородное, показал себя и здесь вполне рыцарем и истым христианином.
Позабыв о преследовании бегущего неприятеля, о военной славе, добыче и трофеях, он всецело отдался благородным порывам своего чуткого ко всему доброму сердца и бросился спасать несчастных малюток, защищать беспомощных стариков и старух и возвращать убегавших матерей к их детям (но не так, как защищало турецкое войско, бросив их на произвол судьбы). Последних солдаты собрали по полю более 300 и притащили обратно к повозкам. Такое поведение наших войск просто поразило этот мирный мусульманский люд, спасавшийся от зверства северных гяуров: они ожидали от них самой лютой смерти, всевозможных мук, истязаний… и вдруг, вместо всего этого, видят самое заботливое попечение о них, теплую ласку к их детям и такое внимание, такое участие, которое едва ли и они сами применяли к ним когда-нибудь.
Когда преследование прекратилось, то старухам солдаты сами стали разводить костры и помогать готовить пищу, детей кормили сухарями, кутали их в свои башлыки, шинели и всячески старались их успокоить. Вспоминались, должно быть, каждому из них своя родная деревня где-нибудь в Черниговской или Тульской губернии, своя семья и дети! Январские морозы и холода давали себя чувствовать, хотя мы были и в долине Марицы. Много юных мусульманских жизней спасли тогда наши солдаты от смерти, которая являлась в лице мороза и стужи!
По окончании дела Скобелев высказал всем нам свое предположение, что, вероятно, это обоз Сулеймана, который сам, наверное, с войсками двигается вслед за ним.
– Он, конечно, не рассчитывает, – прибавил генерал, – что мы так скоро выйдем в долину Марицы и преградим ему путь отступления. Нам необходимо поэтому двинуться немедленно к Хаскиою и с двух сторон ударить на неприятеля: с запада – Гурко, с востока – мы. Сулейману останется тогда только сдаться…
Углицкий полк получил приказание тотчас же двигаться к Хаскиою, и весь отряд потянулся на запад. Движение Углицкого полка сопровождалось громадными затруднениями. До самого города – на протяжении тридцати верст – все шоссе было загромождено обозом, и солдаты должны были выпрягать волов и лошадей и сталкивать каруцы и другие экипажи во рвы, чтобы иметь возможность как-нибудь пройти. По пути снова приходилось поднимать несчастные жертвы – беспомощных детей, покинутых их матерями и гибнувших, часто в одних рубашонках, от холода и мороза.
Поздно вечером Скобелев, со штабом и Углицким полком, прибыл в город Хаскиой. Тотчас же были направлены разъезды во все стороны, и особенно к Филиппополю, откуда, главным образом, и ожидался противник. Предположения Скобелева, впрочем, не оправдались. Вскоре казачьи разъезды натолкнулись на Филиппопольском шоссе на разъезды отряда Гурко (Лейб-гусарского полка) и от последних узнали, что Сулейман-паша, отрезанный за Филиппополем от Хаскиойского шоссе, отступил к юго-востоку, на город Станимаку, и здесь был окончательно разбит, потеряв всю свою артиллерию. Вскоре в Хаскиой прибыл весь Лейб-гвардии гусарский полк. От офицеров этого полка мы узнали о подробностях поражения Сулеймана и об отступлении его по горной дороге к Эгейскому морю.
Тогда Скобелев решил направиться прежним путем на Адрианополь. Войска, двигавшиеся на Хаскиой, получили приказание вернуться обратно в Германлы. Владимирскому полку приказано было двинуться в Мустафапашу и далее в Адрианополь. На следующий день мы потянулись обратно по той же ужасной дороге, окруженной этим громадным обозом с несчастными жителями, и к вечеру прибыли в Германлы.
Еще ранее мною было упомянуто, что Струков в Мустафапаше задержал поезд, на котором ехало двое пашей – послов от султана – и что этот посольский поезд, по приказанию Скобелева, был прислан в Германлы. По прибытии из Хаскиоя Скобелев поручил начальнику штаба графу Келлеру распорядиться, чтобы на этот поезд был посажен батальон пехоты с музыкой. Струков доносил о занятии им Адрианополя и просил о скорейшей присылке пехоты, так как из Ямболя, по слухам, двигались неприятельские войска.
На этом же поезде поместился и Скобелев со своим штабом, и около двенадцати часов дня 10 января мы, в самом веселом настроении духа, по турецкой железной дороге и в неприятельских вагонах помчались на парах во вторую столицу Оттоманской империи. Особенно веселы были солдаты. Внутри вагонов и на крышах, где тоже поместились наши воины, слышались самые оживленные разговоры, смех, песни и даже пляска, откуда-то появилась даже гармоника. Как-то особенно ласкали ухо эти звуки русского народного инструмента, выходившие из вагона неприятельского поезда. Так и вспоминалась Россия, родные картины, знакомые лица. Везде счастливые, довольные физиономии солдатиков, оживленные беседы.
– Вот, брат, дождались, – говорит один молодой солдат другому, – покатают нас теперь эти басурмане. Походили-таки порядком по проклятой Туретчине – теперь нехай повозят… А за обувь да за одежу, что обносилась, – это мы с султана деньгами получим!
– Да у него, брат, ничего не осталось, – заметил другой, более солидный.
– Мы, значит, все города у него повоевали, скоро его самого в полон заберем в Константинополе. Повяжем да к нашему батюшке-царю и отправим. Чтобы не бунтовал более!
Между тем послышался свисток паровоза – и поезд медленно тронулся с места. Музыканты, по приказанию Скобелева, заиграли в этот торжественный момент «Боже, Царя храни». Все сняли шапки и с наслаждением, с каким-то особенным теплым чувством прослушали эти дорогие каждому русскому звуки народного гимна.
Все шибче и шибче двигался поезд – музыканты окончили, наконец, игру гимна. «Ура!» – крикнул в это время Скобелев, высунувшись из окна вагона, над которым развевался его красивый белый значок, и обращаясь к солдатам. «Ура, урааа!» – дружно подхватили в вагонах и на крышах, и долина Марицы, вдоль которой несся наш поезд, огласилась радостными криками русских победителей. По мере приближения к станции Мустафапаша мы стали обгонять наши обозы и войска, двигавшиеся по шоссе, и которые выступили из Германлы еще ранее.
Завидя мчавшийся поезд, на одном из вагонов которого развевался значок Скобелева, шедшие по шоссе владимирцы, узнав своих боевых сотоварищей, приветствовали их радостным «ура». Солдатики из вагонов отвечали им тем же и маханием шапок. Музыка, под влиянием такого патриотического настроения, снова заиграла «Боже, Царя храни», и «ура» владимирцев еще более усилилось.
Как раз в это время навстречу нам по шоссе ехали в экипаже те самые паши, которые были посланы султаном в нашу армию для переговоров и которые путешествовали первоначально на этом самом поезде. Теперь, по распоряжению Скобелева, Струков отправил их в экипаже в Казанлык к Главнокомандующему. Шоссе в этом месте пересекало железнодорожный путь. Экипаж их остановился, и паши невольно сделались свидетелями этой счастливой сцены своих победителей. Мне надолго врезались в память эти две фигуры турецких генералов в скромных костюмах и красных фесках, их грустные, серьезные лица и печальное выражение глаз, на которых стояли даже слезы. Они бессильны были задержать наше победное шествие и, конечно, хорошо сознавали, что, пока экипаж их дотащится до Казанлыка, мы будем уже у берегов Мраморного моря и Босфора, под стенами Константинополя. Поезд быстро промчался мимо этих посланцев султана. Мы высунулись из окон и с любопытством провожали глазами их экипаж.
– Пока эти господа доберутся до Казанлыка, мы будем уже в Константинополе, – заметил, самодовольно улыбаясь, Михаил Дмитриевич.
– А что, ваше превосходительство, займем мы Константинополь или нет? – обратился я к Скобелеву, давно интересуясь этим вопросом.
– Конечно займем! – отвечал генерал. – Ведь у турок почти нет теперь войска. Пока-то они успеют стянуть остатки армии Сулеймана да гарнизоны Шумлы, Варны и из других мест, к этому времени мы, наверное, уже овладеем Босфором и Дарданеллами. Да, наконец, войска эти настолько теперь деморализованы, напуганы, что, конечно, не устоять против наших молодцов.
– Вы посмотрите на этих солдатиков, – продолжал он, указывая рукой на двигавшихся по шоссе пехотинцев, – какими они молодцами высматривают! Сколько у них самоуверенности в лицах, сколько энергии, твердости и энтузиазма! Их теперь ничто не остановит! Мне это выражение хорошо знакомо – это залог полной победы над врагом!.. Я сам, господа, чувствую в себе теперь избыток сил и энергии и твердо верю в удачу, в успех…
Мы вполне согласились с мнением генерала, видя перед собой эти мелькающие, веселые и оживленные лица усталых, но счастливых солдат. Поезд все ближе и ближе приближался к Адрианополю. Солнце спускалось уже к горизонту, в вагоне зажгли свечи… Мы болтали о предстоящих удовольствиях в Адрианополе, о движении к Мраморному морю, о скором заключении мира, о возвращении в Россию и т. п. Скобелев с графом Келлером и адъютантом своим, поручиком Баранком, занялся разбором бумаг, делая разные замечания и пометки на полях их.
Было уже совершенно темно, когда поезд наш вблизи Адрианополя переезжал мост, перекинутый через приток Марицы – Арда. Мост был довольно длинный и при этом деревянный и старый. Поезд двигался очень медленно и на середине моста вдруг остановился. Одновременно мы услышали сильную ружейную трескотню и, высунувшись из окон, ясно увидели вдали знакомые зловещие огоньки, вспыхивавшие в глубоком мраке.
– Что это такое, что это значит? – закричал Скобелев, с беспокойством вглядываясь в темноту.
Все молчали, и частые ружейные выстрелы были только ответом на этот вопрос. Поезд безмолвно стоял на середине ветхого турецкого моста на высоте 20–25 сажен над поверхностью горной быстрой речки.
– Ваше превосходительство! – подбежал в это время саперный офицер, ехавший в поезде (кажется, поручик Иванов). – Позвольте мне осмотреть мост – он очень ненадежный – и разузнать о причинах перестрелки!
– Да, пожалуйста, – живо ответил Михаил Дмитриевич. – Возьмите с собой человек десять солдат и узнайте поскорее, в чем дело!
Стрельба между тем постепенно затихала, и только одиночные выстрелы вспыхивали еще вдали в горах, лежавших к югу от нас. Вскоре вернулся саперный офицер и доложил, что это башибузуки с гор сделали нападение на железнодорожный мост с целью испортить его или сжечь, но казачий пост наш, оставленный Струковым для прикрытая моста, отбил огнем это нападение и заставил турок отступить обратно в горы.
Неприятное впечатление, которое временно овладело нами ввиду неизвестности и возможности провалиться в воду, быстро прошло, поезд медленно двинулся далее и скоро остановился на станции Адрианополь. Скобелев и все мы разместились в близлежащей гостинице, и я уснул богатырским сном с полным комфортом мирного времени, в большой уютной комнате со всеми удобствами. Не хочу передавать то блаженное состояние, которое испытал я, когда, раздевшись и надев чистое белье, я улегся на мягкий пружинный матрас и, протянувшись, покрылся чистой простыней. Выше этого блаженства для меня не было в то время. Кто испытал невзгоды боевой и походной жизни, кто не снимал сапог по целым неделям, кто не проводил по-человечески ни одной ночи – спокойно, без тревог и вечных ожиданий быть разбуженным ружейной трескотней, тот поймет это блаженное, счастливое состояние. Давно я не спал так хорошо, так крепко и сладко.
Утром я был разбужен кем-то из товарищей, который сообщил, что уже прибыли наши лошади и еще несколько рот пехоты из Германлы, куда поезд наш снова совершил ночной рейс. Одевшись и напившись чаю, мы отправились в номер Михаила Дмитриевича, который был уже на ногах и возился с какими-то бумагами.
– Доброго утра, ваше превосходительство! Как почивали? – приветствовали мы нашего любимого начальника.
– Ничего, благодарю – выспался прекрасно! – отвечал он весело. – Да вот что, господа: будьте готовы – сейчас мы с войсками начнем вступать в город.
Вскоре Скобелев вышел из номера, объехал войска и поздравил их со вступлением во вторую столицу Турецкой империи… Затем музыка грянула марш, и пехота стройно зашагала по шоссе, по обе стороны которого стояла наша конница.
От вокзала собственно до города было довольно далеко – версты четыре. Местность была совершенно открытая, ровная. Город издали представлял очень красивую панораму, над которой в разных местах грациозно поднимались стройные башни белых минаретов. Возле моста через Марицу нас встретила громадная толпа народа, впереди которой находилось духовенство – с крестами и хоругвями и с греческим архимандритом во главе. Тут же были депутации и от других вероисповеданий, несколько мулл от мусульманского населения и представители города с хлебом-солью. Все это встретило Скобелева, ехавшего впереди войск, с благословением и изъявлением полной покорности нашему Государю и Главнокомандующему.
Скобелев любезно принял эти депутации и от имени Его Высочества сказал, что они могут быть совершенно спокойны за порядок в городе и целостность их имущества, что русские войска не только не трогают мирных жителей, но, напротив, защищают их от всяких врагов, что правда и милость всегда сопровождают русское управление – словом, совершенно успокоил и ободрил несколько взволнованное население второй турецкой столицы. Видя перед собой эту симпатичную и красивую фигуру русского генерала, его веселость, любезность и уважение к обрядности врага, даже серьезные муллы стали улыбаться и совершенно добродушно посматривать на оживленные и довольные лица наших маршировавших солдат.
Затем мы двинулись дальше, переправились через мост и с музыкой подошли к конаку, или дворцу прежних знаменитых турецких султанов. Масса разнокалиберного люда в фесках и чалмах, в самых разнообразных пестрых костюмах толпилась на узких и кривых улицах и площадях. Тут были всевозможные народности Балканского полуострова – греки, армяне, болгары, турки, албанцы, жиды…