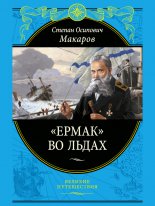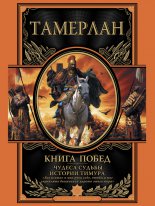Честь, слава, империя. Труды, артикулы, переписка, мемуары Петр I
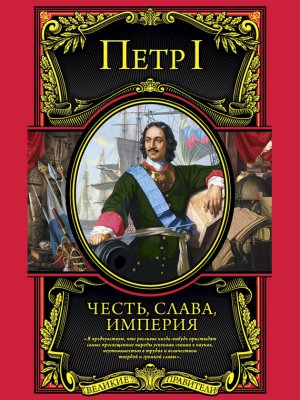
56. Никто честновоспитанный, возгреи [сопли] в нос не втягает, подобно как бы часы кто заводил, а потом гнусным образом оные вниз не глотает, но учтиво, как выше упомянуто, пристойным способом испражняет и вывергает.
57. Рыгать, кашлять и подобные такие грубые действия в лице другого не чини, или чтоб другой дыхание и мокроту желудка, которая восстает, мог чувствовать, но всегда либо рукою закрой, или отворотя рот на сторону, или скатертию, или полотенцем прикрой, чтоб никого не коснуться, и тем сгадить.
58. И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чхает, будто кричит; и тем в пребытии других людей или в церкви детей малых пужает и устрашает.
59. Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, яко бы мазь какую мазал, а особливо при других честных людях.
60. Когда тебя о чем спросят, то надлежит тебе отозваться и дать ответ, как пристойно, а не маши рукою и не кивай головою или иным каким непристойным образом, наподобие немых, которые признаками говорят или весьма никакой отповеди не дают.
61. Должно, когда будешь в церкви или на улице, людям никогда в глаза не смотреть, яко бы из их насквозь кого хотел провидеть, и ниже везде заглядываться или, рот разиня, ходить яко ленивый осел; но должно идти благочинно, постоянно и смирно, и с таким вниманием молиться, яко бы пред Высшим сего света монархом стоять довлело [пришлось, довелось].
62. Когда кого поздравлять, то должно не головою кивать и махать, яко бы от поздравляемого взаимной чести требовать, а особливо будучи далеко, но надобно дожидатися, пока ближе вместе сойдутся; и ежели другой тогда взаимной чести тебе не отдает, то опосля его никогда впредь не поздравляй, ибо честь есть того, кто тебя поздравляет, а не твоя.
63. Младый шляхтич или отрок всегда должен быть охоч к научению всякого добра, и что ему прилично быть может, и не имеет дожидаться, пока кто его о том попросит или потребует, или чтоб за ним для того в дом прибегали; а наипаче платить возмездие служащим ибо в том есть великий грех и порок, когда кто у кого кровию заслуженную и трудом выработанную мзду наемничу удержит.
Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу: во-первых, обрежь свои ногти да не явишься, яко бы оные бархатом обшиты; умой руки и сиди благочинно, сиди прямо и не хватай первой блюдо, не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало, не сопи, когда яси [ешь (изъявит. накл.)], первой не пий, будь воздержан и бегай пиянства, пий и яждь [ешь (повелит. накл.)], сколько тебе потребно, в блюде будь последний, когда часто тебе предложат, то возьми часть из того, прочее отдай другому и возблагодари ему; руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай, когда тебе пить, не утирай [рта] губ рукою, но полотенцем, и не пий, пока еще пищи не проглотил; не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом, зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь, хлеба, приложа к грудям, не режь, ешь что пред тобою лежит, а инде [в другом месте] не хватай; ежели перед кого положить хочешь, не примай [не бери, не хватай] перстами, как некоторые народы ныне обыкли; над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши; не проглотя куска не говори, ибо так делают крестьяне; часто чихать, сморкать и кашлять не пригожо.
Когда яси яйцо, отрежь напредь хлеба и смотри, чтоб при том не вытекло, и яждь скоро; яишной скорлупы не разбивай и, пока яси яйцо, не пий, между тем не замарай скатерти и не облизывай перстов, около своей талерки не делай забора из костей, корок хлеба и прочего; когда престанешь ясти, возблагодари Бога, умой руки и лице и выполощи рот.
Когда [куда] в которое место приидешь, где ядят или пьют, тогда, поклонясь, поздравь им к пище их; и, ежели поднесут тебе пить, отговаривайся отчасти, потом, поклонясь, приими и пий вежливо, благодари того, кто тебе дал испить; и уступи назад, пока тебя отправят; когда кто с тобою говорить станет, то встань и слушай прилежно, что он тебе скажет, дабы ты мог, одумався [подумавши, поразмыслив], на оное ответ дать; буде что найдешь хотя б что ни было, отдай оное назад; платья своего и книг береги прилежно, а по углам оных не разбрасывай; будь услужен и об одном деле дважды себе приказывать не давай: и таким образом получишь милость.
Охотно ходи в церкви, и в школы, а не мимо их; инако бо пойдет путем, который ведет в погибель; не пересмехай, не осуждай и ни про кого ничего зла не говори, да не постигнет и тебя зло.
Никакое неполезное слово или непотребная речь да не изыдет из уст твоих; всякой гнев, ярость, вражда, ссоры и злоба да отдалится от тебя; и не делай, не приуготовляй никаких ссор: все, что делаешь, делай с прилежанием и с рассуждением, то и похвален будешь. Когда ты верно обходишься, то и Богу благоприятно, и так благополучно тебе будет.
А ежели ты неверно поступаешь, то наказания Божия не минуешь, ибо Он видит все твои дела. Не учись, как бы тебе людей обманывать, ибо сие зло Богу противно и тяжкой имаши за то дати ответ [и суровый за то будешь держать ответ]: не презирай старых или увечных людей, буди правдив во всех делах.
Ибо нет злее порока в отроке, яко ложь, а от лжи рождается кражи, а от кражи приходит веревка на шею. Не выходи из дому твоего без ведома и воли родителей твоих и начальников, и ежели ты послан будешь, то возвратись паки [обратно, назад] вскоре; не оболги никого ложно, ни из двора, ни во двор вестей не переноси; не смотри на других людей, что они делают или как живут; ежели за кем какой порок усмотришь, берегись сам того; а буде что у кого доброе усмотришь, то не постыдись сам тому следовать.
Кто тебя наказует, тому благодари и почитай его за такого, который тебе всякого добра желает.
Где двое тайно между собою говорят, там не приступай, ибо подслушивание есть бесстыдное невежество.
Когда тебе что приказано будет сделать, то управь сам со всяким прилежанием, а отнюдь на своих добрых приятелей не надейся и ни на кого не уповай.
Охота и любовь к слову и службе Божией, истинное познание Бога, страх Божий, смирение, призывание Бога, благодарение, исповедание веры, почитание родителей, трудолюбие, благочиние, приветливость, милосердие; чистота телесная, стыдливость, воздержание, целомудрие, бережливость, щедрота, правосердие и молчаливость и прочая.
1. Первая добродетель, которая благонравной и благочестной девице прилична и пригожа, есть охота и любовь к слову Божию и правой вере, охотно ходить в церкви и в школы, читать, писать и молиться; прилежно слушать словеса Божия, оное размышлять и примечать охотно, к исповеди и Святому Причастию ходить, катехизис, просто и со истолкованием с некоторыми псалмами, и притчи Святого Писания наизусть уметь и прочая.
2. Вторая добродетель девицы есть: истинное познание Бога и слова Его, правое разумение в творении Божии и в артикулах, или членах нашея православныя веры.
3. Третия добродетель девическая есть девический страх к Богу, когда человек, размышляя гнев Божий за грехи своя, от сердца убоится и гнева Божия, и Страшного Его суда устрашится, греха убегнет, Богу и родителям с должным почтением и послушностию покорится; а наипаче по воли Божией и по слову Его все свое намерение управлять будет.
4. Четвертая девическая добродетель есть смирение, когда всяк в истинном страхе Божии свою собственную слабость признает и всем сердцем себя Богу подвержет, как в принадлежащих делах призвания своего, которые с помощию Божиею зачинает, так и наказании, и в приятном кресте, который с терпением и покорением носит, притом ближнему своему надлежащую и должную честь являет.
5. Зде [здесь] последует пятая девическая добродетель, то есть: молитва и призывание Бога, когда человек от всещедрого Бога, Который в слове Евангелия Своего и в Сыне Своем открылся; всяких вечных и временных даров просит и уповает, что услышан будет по обещанию ходатая Господа Иисуса Христа.
6. Шестая добродетель есть благодарение во первых к Богу, когда кто сердцем и устами [т. е. вслух] исповедует, что всякое благо не от себя, но от Бога получаемо бывает; потом и ко благодетельным людям, когда кто признает и исповедует, что от другого получил благое; и не токмо оному на словах являть себя благодарна, но и делом оное воздать, и наградить должно по возможности.
7. В седмых следует исповедание веры, в котором христианин твердую и постоянную волю и хотение имеет пред Богом и человеки, чистое учение евангелия исповедать, и при том исповедании и вере; оставатися, несмотря ни на какой страх, зависть, напасть и муку изгнания.
8. Осьмая девственная добродетель касается четвертой заповеди, то есть: должное почтение родителям и оным, которые вместо их бывают; сия добродетель весьма преизящна и украшает девиц безмерно лепо; ибо Соломон сам в «Притчах», в главе первой, о сей тако глаголет: оное есть предивное украшение главе и яко гривна златая о выи их.
Того ради бывают такие дщери родителям своим и другим честным людям благоприятны, угодны Богу и получат милость не токмо родителей своих, но и от неприятелей, яко история свидетельствует о некоей милосердой дщери, которая матерь свою плененную, юже [которую (ее же)] неприятель хотя гладом в темнице умертвити, тайно посещая, в темнице сосцами своими глад ея утоляла и через долгое время тако живот ея спасала, что уведав, римляне с великою угодностию матерь ея свободили и, сломав оную темницу, на месте том церковь состроили, которую церковь страха Божия именовали.
И тако сия добродетель есть истинный признак сущего девического смирения и страха Божия; также потребует честь, дабы родителей своих или оных, которые вместо их бывают, по повелению Божию за отца и матерь свою почитать.
Оных бо сам Бог устроил и уставил, да через них и мы действовать будем; того ради должно им от сердца всякого добра желать; и оных вельми почитать, яко вышний дар от Бога на земли честно содержать, честно о них мыслить и говорить, оных за мудрых и благочестивых людей почитать, и со особливым почтением и смирением к ним говорить, яко Сирах во главе седьмой упоминает: чти отца твоего всем сердцем и не забуди, коль горько бысть матери о тебе. Товия в главе четвертой: чти матерь твою во вся дни живота твоего, воспомяни, колики напасти имела, нося тя [тебя] во утробе своей.
9. Ныне приступим к девятой добродетели, которая младым девицам пристойна, а оная есть трудолюбие, дабы человек из младости привыкал к работе и мыслил, для чего оная ему от Бога наложена и определена; и когда кто оное отправляет, что званию и чину его принадлежит, то оный и благословение наследит; при том должно все попечение мысли и прилежание к тому устремить, дабы то, что в призванном чине делать ему повелено, со всяким прилежанием, верностию, охотою, скоростию и постоянством исправить мог, Богу в честь и во всенародную пользу.
10. Десятая девическая добродетель называется благочиние и постоянство, когда человек все свое злое желание, похоти и прелести, тако обуздав, воздержит, что в речах, в поступках и в делах всегда всякой усмотреть может, что сердце оного богобоязливо, любщий благочиние и постоянство, а, против того, ненавидящий всяких злострастий и легкомыслия бегая; и таким образом обрящет милость от Бога и от человек получит себе благодать.
В прочем имеют младые девы и младые жены всегда в благочинии обучаться и, где ни будучи, везде, хотя на постеле в дом, на торжище, на улице, в церкви, или в беседе, или в бане, колико можно, подражать постоянству; яко о сем Апостол Павел напоминает к Римлянам во 12 главе: подражайте постоянству пред кииждом [каждым]: а, против того, должны всяких побуждений к злочинству и всякой злой прелести бегать: яко злых бесед, нечистого обычая и поступков, скверных слов, легкомысленных и прелестных одежд, блудных письм, блудных песней, скверных баснеи, сказок, песней, историй, загадок, глупых пословиц и ругательных забав и издевок; ибо сие есть мерзость пред Богом.
11. Зде приступим по чину к добродетели приветливости, ей же и другие подобные добродетели касаются; а именно: кротость, терпение, приятство и снисхождение; услужливость с благочестными, доброе иметь содружество, никого нарочно или с умыслу не изобижать; ко всякому быть услужливу, ближнего сожалеть, терпеть, ласкову и единодушну быть, а не себя представлять весьма, и паче[174] других непорочна в повседневной беседе приятливо и тихо обходитися. С чуждым говорить учтиво, отвечать ласково, других охотно слушать и всякое доброжелательство показывать в поступках, словах и делах, которые добродетели выше всех мер украшают девицу.
12. По сей добродетели следует милосердие, что человек милосердует о нищем и со благонравием сожаление и терпение имеет, дабы и ему взаимно помощи рука следовать могла.
13. Третия надесять добродетель, пристойная девицам, есть стыдливость: когда человек злой славы, и бесчестия боится, и явного греха бегает, и опасаяся гнева Божия, и злой совести, также и честных людей, которые иногда о иных, как кто живет: худо или добро, рассуждать могут. Все свои желания и похоти усмиряет, дабы в словах и в делах так себя явить, что оный с натурою правым умом и с обычаем других людей согласен, что и всякой похвалит.
14. Четвертая надесять девственная добродетель есть чистота телесная, в которой девица, умываясь, в честной одежде и пристойном убранстве чисто себя содержать имеет; таким образом, чтоб, с одной стороны, гордости, а с другой – скверной не было поступки, ежели токмо кто право о том рассуждать будет.
15. Зде же ныне последует воздержание и трезвость, когда человек в естве и питии желание свое и хотение тако умеренно укрощает, что, с одной стороны, не может в молитве своей и в повседневном труде помешан быть от отягчения телесного, а с другой стороны – здравия своего и спокойства повседневным истощанием и голодом помешать и разрушить.
16. Шестая надесять добродетель есть девственное целомудрие, когда человек без всякого пороку, или с другими смешения и без прелести плотские наружно и внутренно душою и телом, чисто себя вне супружества содержит, и сия добродетель зело удобно равняется и уподоблена, о котором всем и каждому известно.
17. Седьмая надесять добродетель есть бережливость и довольство, когда человек в настоящем времени тем, что ему Бог определил, довольствуется; помогает убогим, и ближнего носит тяготу, и свое имение, которое он от Бога честно получил, осторожно и бережно хранит. И из оного столько расточает, како потребность позовет.
18. Осьмая надесять добродетель девическая есть благотворение, благодеяние и щедрота, когда человек из собственного своего нищим уделяет и оным служит из природной [или натуральной] должности, когда где потребно явится, так, чтоб в том не было скупости или проторжливости имению.
19. Девятая надесять добродетель девическая имеет быть правосердие, верность и правда, когда человек мнение сердца своего истинно, праведно, ясно и чисто открывает, и объявляет, и слова и дела других людей соблаговоляет: а что сумнительно говорено или сделано бывает, к лучшему толкует и изъясняет; а без крайней и важной причины о мысли и намерении другого, ради подозрения во зло, не рассуждает; и когда кому добра желает, то имеет быть из прямого доброго сердца, а не лицемерно, должно о благополучии и счастии другого от сердца срадоватися и веселитися.
20. Ныне приступим к двадесятой и последней добродетели девической, а именно к молчаливости. Природа устроила нам токмо один рот, или уста, а уши даны два; тем показуя, что охотнее надлежит слушать, нежели говорить, сему и древние детей своих обучали; когда придет в чуждый дом, то буди слеп, глух и нем, которое тебе может в молчаливость причтено быть.
Потупляет стыдливая девица очи свои, яко Ревекка, когда узре еще издалеча Иакова грядуща, яко Книги первыя Моисея глава 24 пишет, что оная закры тогда лице свое: и каждая стыдливая девица закрывает окна сердца своего; ибо сердце всегда прелестно очам последует; того ради блюди, дабы девический стыд пристойную красоту, очи в землю потупляя, являл; так же и ты, когда на тебя человек взирает покрасневся, очи свои не возвышай, но зрак свой в землю ниспущай.
Украснение девиц, и младых невест также, и замужних, есть достохвальная фарба, или цвет, и о сем Диоген пишет, что украснение есть признак к благочестию.
И Назианзин[175] увещает, что един токмо цвет в девицах приятен, то есть краснение, которое от стыдливости происходит.
В других странах, когда невеста в день замужества своего имеет идти в церковь, предуготовляют, и при ней девицам обретающимся с сахаром и корицею вареное вино, доброй винной суп, потчуют их, дабы кушали; увещевая: что оттого могут быть изрядно красны, когда пойдут в церковь; но ежели невеста от себя сама не может быть со стыду красна, то винной суп недолго может краску в лице содержать, а кроме того, говорится принужденная любовь и притворная краска недолго постоят.
Рассуждается в человеке от стыда в лице бываемая краска за добрый признак, того ради и Терентий повествует: кто от стыда покраснеет, тот нужды не имеет; иные ж безумные побледнеют, которое, однако, не всегда зло бывает, но краснота есть приятнее и похвальнее.
Стыдливая [зазорная] девица не токмо в лице краснеет, но и стыдливые имеет уши; устрашится, когда что бесстудное [бесстыдное] слово услышит, яко легкомысленные, неискусные издевки и скверные песни, сущая девица потупит лице свое, яко бы она того не разумеет, или, восстав, отходит далее; а которая смеется и к тому спомогает, такая не лучше иных.
Григорий Назианзин, советуя нам, вопиет: от скверных слов и соблазных песней заключи уши твоя воском, употребляй оныя всегда к честным, и похвальным делам, и вещам; кто стыдлив, оный отнюдь не говорит скверного слова, честный стыд возбраняет бесчестные слова, которые не токмо благочинны девицам, но и благочинным мужчинам досадуют, когда кто сквернословит пред женскими персонами и младыми людьми.
Слепого Апиа[176] дочь ради легкомысленного слова принуждена заплатить денежный штраф. Чистая девица должна не токмо чистое тело иметь и честь свою хранить, но должна и чистое, и целомудренное лицо, очи, уши, уста и сердце иметь; некоторые девицы, правда, для чести смирны, однако блудными поступками, легкомысленными словами и знаками подозрительными сами себя творят.
При знакомых людях можно себя оправдать и от подозрения свободитися, но у незнакомых может человек вскоре в подозрение прийти; на человека не знакомого может всякое подозрение пасть. Младая жена, которая с молодым мужчиною издевается и с оным неискусно шутит, тайно в уши шепчет, – кто такую может от подозрения оправдать.
Антистиус древний дочь свою изгнал того ради, токмо что оный присмотрел, как она с подозрительным человеком, а именно токмо с служанкою говорила.
Сулпитин-галлин такожде дочь свою от себя изгнал, ни за что иное, кроме что она не покровенною главою через улицы бегала; девическая походка свидетельствует о их состоянии и нраве: поступающая павлиньею походкою, дабы себя оказать людям, является, и через едину улицу прешедши.
Непорядочная девица со всяким смеется и разговаривает, бегает по причинным местам и улицам разиня пазухи, садится к другим молодцам и мущинам, толкает локтями, а смирно не сидит; но поет блудные песни, веселится и напивается пьяна; скачет по столам и скамьям; дает себя по всем углам таскать и волочить, яко стерва, ибо где нет стыда, там и смирение не является. О семе вопрошая, говорит избранная Люкрециа по правде: ежели которая девица потеряет стыд и честь, то что у ней остаться может.
Демадий премудрый глаголет: стыд у девицы есть, преславная красота и похвала, еще же и Павел глаголет: уповая, что оный весьма потерян, кто стыд свои потерял.
Бахилидий зело древний поэт, или стихотворец, в притчах и прикладах своих пишет: когда идол, нарядную голову имев, а оную голову потеряет или сронит, то потом оставшийся болван весьма красоты своея и пригожства лишится; тако и все другие добродетели: ежели не украшены благочинством и стыдом, не имеют похвалы.
Лютер написал: человеку не может быть ничто приятнее и угоднее, как благочинная девица. Греческий стихотворец Теогений, согласуяся в сем, рече: нет приятнее девицы благочинного нрава; с богобоязливою и благочинною девицею приходит счастие и благословение в дом; и такое целомудренное, чистое и верное сердце может молитвою своею у Бога многую получить милость, понеже Бог есть целомудренное существо и хочет от целомудренных сердец призываем быть; о чем Стигелий тако пишет: чистое сердце и целомудренная мысль Богу зело приятны бывают; прямая прехвальная добродетель рождается от чистого и непорочного сердца.
Когда сердце чисто молится, тогда и тело будет нескверно, хотя змий сатанински сетию христиан запинает[177]; когда девица в церковь, на торг, в гости или на свадьбу идет, надлежит и в походке остерегатися; ибо по тому о них рассуждается. И Назианзин пишет: ноги, ступающие гордо, не любят благочинства, ибо может в такой походке и резвость быть.
По платью такожде примечается, что в ком есть благочинства или неискусства: легкомысленная бо одежда, которая бывает зело тщеславна и выше меры состояния своего, показует легкомысленный нрав; ибо для чего имеет девица [которая токмо ради чести одежду носит для излишнего одеяния] в убыток и в долги впасть: сего честная девица никогда не делает.
По поступкам словам и нраву познавается девический стыд и благочинство, когда она за столом прилучится сидеть возле грубого невежы, который ногами несмирно сидит, и она должна встать от стола.
Благочинная девица досадует, когда оную кто искушать похочет; ибо оная почитает, что такой искус подобным ему невежам приличен, а не ей, потом [потому] впредь оный искушать ее покинет.
Между другими добродетельми, которые честную даму или девицу украшают и от них требуются, есть смирение, начальнейшая и главнейшая добродетель, которая весьма много в себе содержит; и того не довольно, что токмо в простом одеянии ходить, и главу наклонять, и наружными поступками смиренна себе являть, сладкие слова испущать, сего еще гораздо не довольно, но имеет сердце человеческое Бога знать, любить и боятися; потом должно свои собственные слабости, немощи и несовершенство признавать.
И того для пред Богом себя смирять и ближнего своего больше себя почитать; никого не уничижать, себя ни для какого дарования не возвышать, но каждому в том служить, охотну и готову быть: яко и Павел святый к Филиппийцам напоминая, во второй главе пишет: смирением почитайте между собою друг друга превыше себя[178]; Писание свидетельствует во многих местах, что воля Божия есть, дабы каждый себя пред Ним смирил, и сие есть праведно, ибо Он есть наш сотворитель, мы же тварь Его.
Он есть отец наш, мы же чада Его; пророк Михей в главе 6 глаголет: смиряй себя пред Богом. Такожде и Петр святый пишет: должны мы сильной руке Божией покорятися; еще же Иаков в 4 главе повелевает: да смирим себя пред Богом. По таким доказательствам довольно ясно, что Бог сей добродетели требует, и Ему оная благоугодна; и кто той подражает, оный имеет богатого благословения от Бога ожидати, якоже Святое Писание исполнено такими обетованиями.
Иоанн глаголет во главе 22: смиряющийся от Бога вознесется, и воистину призирает Бог с небеси на смиренных, яко псалом 113 свидетельствует; также и Сирах во главе 3 глаголет: творит Господь велия во смиренных[179]; и Пресвятая Богородица у Луки во главе 1 воспевает Бог низложи сильные со престол и вознесе смиренные; в том же намерении и Сирах в 10 главе пишет: довлеет [надлежит] гордых искоренити до конца, и да насадит Бог смиренных вместо их. Господь Иисус Христос во главе 22 от Матфея глаголет: смиряяйся вознесется; кто смиренную жену имеет, оный приобрел сокровище выше всякого богатства; где сия добродетель, тамо и премудрость, яко Соломон во главе 11 глаголет: премудрость обретается у смиренных; тако и Птоломей пишет: что смиреннее человек, то премудрее. Святый Петр во главе 5 Первого Послания пишет: да даст Бог смиреннующим милость, тем разумевается телесная и душевная, [и восхитит их от праху земного] и возвысит их Господь Бог во время Свое.
Того ради глаголет Соломон в Притчах во главе 29. Смиренные почтены будут, понеже оные достойную честь воздают Богу и во страсе Его пребывают. Того ради взаимно оных почтить обещает и хотение их исполнит, а наипаче молитву их услышит, яко храбрая Юдифь в молении своем рече: никогда благоугодны явишася тебе гордии, но всегда тебе смиренных и уничиженных молитва благоугодна. Таким же образом и Сирах глаголет: смиренных молитва проницает облака, такожде и Григорий пишет: Создатель наш имеет велия недра любве и милосердия, в которые объемлет наш плач.
Бог, Ангелы и человеци милостивы суть к смиренным людям, во псалме 113 поем: кто есть, яко Господь Бог наш, седяй [сидящий] во славе высоце и призираяй[180] на смиренных в небеси и на земли. Богородица воспела, яко призре Бог на смирение Ея. Златоуст пишет: несть Богу приятнее, кроме когда кто себя меньше всех других почитает; яко и приклады свидетельствуют о Иоанне, Павле, о Сотнике в Капернауме и прочих. Гиероним написал: несть нам, человекам, и Богу приятнее, кроме когда кто в житии своем заслуженна себя явит и, будучи высоким, смирением себя умалит.
Ежели кто хочет гнев Божий и прещение Его укротити, и чистым покаянием Крест Его понести, таковый имеет во первых смирением себя унизить, яко блудный сын, от Луки во главе 15 свидетельствует. Читаем в 7 главе Иисуса Навина и в 3 главе Ионы, также и во многих местах Старого Завета, что тогда, во знак смирения своего, облекались во вретище[181] и посыпаху пепелом главы свои, постишася и молилися, и тако смирением Божией милости искали и через Христа получили.
Где смирение есть в сердце, тамо и Церковь Святого Духа; яко Ориген[182] написал: ежели себя не смиришь, то и благодати Святого Духа не получишь, который источники своя в такия основания испущает. Тако и Августин написал: что высоко, то изсохнет; а что низко, то исполнено будет.
И чудна дела Твои, Господи, горы и вершины их ближе суть к солнцу, нежели долины между горами; однако ж солнце жарчае в долинах, нежели в высоте, для того что долины исполнены долгостьми и теплотою, того ради растут древеса и травы, хлебы и всякия плоды в долинах лучше и совершеннее, нежели на горах; подобно тому, имеют смиренные сердца теплоту и мокроту Святого Духа, того ради принесет плод свой во время свое, и будет яко древо, насажденное при исходищих вод, яко псаломник во 1 псалме поет; кроме того превосходит смирение во всех вещах и похваляется от всех.
Возьми две штуки золота, одну доброго, а другую плохого, доброе перевесит на весах и угодно бывает господину своему. Древо, имеющее на ветвях своих добрые плоды, оные тягнут и уклоняются вниз. Ежели кто похощет сосуд почерпсти воды, оный должен наклонитися. Всякие травы толченые и всякое корение тертое бывают сильняе духом. И, подобно как малые рыбы с трудностию сетью и неводом уловлены бывают, так и смиренных с трудностию может сатана сетью уловить, того ради повествуют в двух прикладах о двух пустынниках.
О некоем Макарии пишет, яко ходящу ему при потоке, стретеся с ним враг человеческого роду, с великою косою, грозяй [грозящий] его оною рассещи в части. Он же приступи к нему ближе, не бояся, но той [тот] не можаше пустыннику ничего вредити, токмо вопия: «О человече, человече! побеждаеши меня смирением своим, которым ты и живот свой от меня ныне спасаешь».
Такожде читаем о некоем пустыннике Антонии, яко виде оный во сне, что весь свет исплетен сетию; такому видению удивися оный, с рыданием возопи, О всесильныи Боже! Кто может избежати сетей сих! и се ему глас бысть, кто смиренного сердца обрящется, оный спасен быть может от сетей сих.
И тако, кто хотяй [желающий, хотящий] причастником быти Царствию Божию и внити [войти] во врата Небесная, оный да удалится от всякия гордости, понеже Бог гордость иногда [некогда, в некоторое время, однажды] с небес в месте с сатанинским князем испровергнул, и вовеки оных паки [опять; обратно] в прежнее место не впустит.
И яко прехвальныя врата града Иеросалима не допустили цесаря Гераклия с великою славою внити, явися ему Ангел, глаголя: когда Царь Небесный во врата сия вниде, сотвори оный вход свой во смирении, без всякия славы; тогда принужден Гераклия все свое тщеславие отложити, когда хотя во врата внити; коими паче [особенно] невозможно будет во врата горнего оного Небесного Иеросалима без смирения внити. Некий Гишпанский Отрок праведно написал: ежели кто хощет в Небеси водворится, оный сердцем своим и деянием да смирится. От Бога, гордыня наказана бываете, и адския муки не избегает.
Златоуст написал: кто желает в небе первый быти, оный да будет на земли последний; тако согласуется Исидорий, глаголя: являяйся [являющийся] мал во очии людей, оный явится велик во очесах Божиих.
Еще же и Августин написал: творите подобно Ангелам, а не гордитесь; ибо гордость обращает ангела диаволом.
Того ради Нил[183] свидетельствует, яко блажен человек, его же жизнь высока, а дух смирен.
Такожде глаголет Кесарий во втором своем увещании: благословенна душа от Бога, ея же смирением гордость посрамлена бывает, ея же терпение ближнего гнев погашает, ея же послунием других леность наказуется, ея же теплота иного тела неискусно ободряет.
К тому ж смиренные великую пользу имеют. Ибо не имеют оные жестокого падения опасатися; кто не высоко подымается, оный не высоко и падает. Овидий пишет: с высоты высоко и падают. Святый Августин глаголет: кто на земли сидит, оный не может никако пасти.
Цесарь Фридрих Третий обычайно говаривал: громовые стрелы разбивают высокие башни, а низкие хижины минуют.
Гордые не могут пробыть без наказания; смиренные не останутся без награждения.
Того ради величайший Стихотворец в нынешнем времени гласит: смирися, Господь бо гордыни не оставит без отмщения. Господь благословит смиренные сердца и проклянет гордых.
В древних церковных отцев книгах многие именования о похвале добродетели сея обретаются. Оные бо именуют то матерью, содержительницею и хранительницею прочих добродетелей.
Киприян пишет: смирение всегда было непоколебимый столп святых.
Григорий пишет: смирение есть начало и источник добродетелей; он же паки глаголет: кто без смирения собирает добродетели, оный подобен яко прах пред лицем ветра. Еще же оный пишет: все, что ни делано, – потеряно, ежели не во смирении совершено будет.
Сему согласуется Златоуст, глаголя: тако превосходит смирение похвалу прочих добродетелей, что, ежели оный при том не будет, прочие все ни во что.
Августин так же рассуждает, когда пишет, разве что смирение всему. Что мы добра деем, предходит, предстоит и провождает, а наипаче, ежели возрадуемся, сделав добро, то, пришед [придя], гордость из рук наших пограбит все.
Единым словом, всякая гордость, хотя в духовном, мирском или в домовном поведении, не служит чести Божией и не может быть постоянно; кто летать хощет, не вырастя наперед перья, оное неудачно бывает и срамотою покрывается. Смиренный ожидает время, которое Бог к возвышению его поставил, которое его утешит; яко Сирах во главе первой глаголет: и знает оный, что напред подобает претерпети, пока к чести достигнет, яко в Притчах Соломоновых во главе 18 пишет: Божие есть токмо строение, гордых низринути, а смиренных возвысити; яко и праведный Иов во главе пятой глаголет: Бог возвышает смиренных и вспомогает печальным о Нем всяк возрадоватися может.
Якоб фон Штелин. Подлинные анекдоты Петра Великого, слышанные от знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге
В сем кратком предуведомлении объявляю я о происхождении собрания следующих анекдотов и главном моем предмете при издании оных в свет, также и о том легком и едином средстве, способствующем ко умножению сего собрания еще многими подлинными и достопамятными анекдотами Петра Великого.
Что до первого пункта касается, каким образом произошло сие собрание, надлежит мне объявить, что я 1735 году из Дрездена был выписан в Санкт-Петербургскую Академию наук. Я имел с собою одобрительное письмо польского и курсаксонского первого министра графа Бриля к тогдашнему в Санкт-Петербурге пребывающему саксонскому чрезвычайному послу, графу фон Динару. Сей достойный министр с такою радостию принял письмо великого своего благодетеля, а меня столь дружелюбно, что удостоил меня своим столом и ежедневным обращением, познакомил меня также со многими как иностранными, так и знатными российскими вельможами.
Между оными находилось еще много таковых, которые до сего не токмо в военной, гражданской и морской службе были при умершем тогда за десять лет Петре Великом, но имели короткое обращение с высокою его особою. Потом, когда я был употребляем к деланию иносказательных изображений для тогдашних, часто при дворе бываемых огненных потех и великих освещений, то возымел я короткое знакомство с тогдашним генерал-фельдцейхмейстером, принцем Гессен-Гомбургским, и с почтенным его тестем, фельдмаршалом князем Иваном Юрьевичем Трубецким, у которого часто при столе как им самим, так и прочими генералами были говорены анекдоты о Петре Великом. Как я некогда изъявил сему почтенному князю мое удивление и особенное удовольствие о сих известиях и сожалел, что свет их вместе с достойными мужами лишиться должен, невзирая что они к славе Петра Великого написаны быть долженствовали, то сказал мне на сие верный сей служитель и почитатель сего монарха: если я желаю записывать таковые сказания, то может он мне еще много рассказать о сем великом герое, что малым известно; только надлежит мне временно о том ему напоминать, а паче после обеда, когда он обыкновенно курит табак.
От сего князя слышал я иногда некоторые анекдоты о Петре Великом, которые весьма меня пленили и из числа коих я ни одного и ни в какой истории, писанной на других языках, о сем российском монархе не нашел.
Чтоб не загладить в слабой моей памяти сих, столь достопамятных и истинных анекдотов, внемлемых из уст столь знатных свидетелей, вознамерился я оные мало-помалу, имея в свежей еще памяти, вносить вкратце на бумагу. Я обыкновенно то исполнял в ночное время, по возвращении домой, или в следующее утро.
Сколько случаев имел я впоследствии слышать достопамятных анекдотов о сем монархе, имея двадцатилетнее обращение с бывшим государственным канцлером, графом Бестужевым, и со многими другими знатными домами в Петербурге и Москве, из уст прежних воинских и гражданских служителей Петра Великого, а паче, когда я был первые три года его императорского высочества, великого князя Петра Феодоровича, профессором, а по его сочетании, по именному указу, сделан библиотекарем.
Сколь мало ни оставалось мне времени при моей должности и столь многих придворных помешательствах [беспорядках], также и иных возлагаемых дел, на записание слышанных анекдотов, однако они со временем весьма сделались многочисленны; из числа коих я наконец находящиеся в сей книге переписал набело.
Между тем большая часть, да почти и все из показанных под каждым анекдотом свидетелей, мало-помалу окончили дни свои и, без сомнения, взяли бы с собою во гроб сии известия о Петре Великом, если бы любопытство мое их не замечало, не похитило из забвения и не сохранило потомству.
Я приступаю ко второму пункту, то есть: к показанию цели сего издания.
Я должен упомянуть, что в означенных тщательно под собранными мною анекдотами свидетелях, из уст коих я оные слышал, не все еще находятся и, может быть, здесь едва сотая часть тех означено, кои с Петром Великим имели короткое обращение. Я только тех здесь привожу, которых я знал в Петербурге и Москве и от коих сие слышал. Из числа таковых осталось еще едва несколько в жизни; но многое число их детей, внуков и приятелей еще в иных местах государства находится, которые от своих, таковыми же бывших очевидцами, отцов, дедов, родственников и приятелей слышали некоторые достопамятные анекдоты о сем великом императоре.
В рассуждение сего обстоятельства, ласкался я надеждою еще многие достопамятные анекдоты о Петре Великом спасти от забвения, или я, по частым увещаниям знатных и истинных сынов России и почитателей бесмертных достоинств сего великого монарха, обнародую наконец тиснением сие мое малое собрание и доставлю в руки тем, которые имеют еще в памяти слышанные от отцов своих, родственников и приятелей некоторые анекдоты.
К начертанию оных и спасению от совершенного забвения хочу я их сим моим изданием побудить.
Чрез сие, как я надеюсь и сколько могу положиться на благородный вкус изощренного в наши времена российского дворянства, может быть, выйдет не меньшее число достопамятных анекдотов Петра Великого, к собранию и изданию коих скоро многие из российских любителей и почитателей наук найдутся. То, чаятельно, сыщется и обильное продолжение таковых анекдотов, или вторая, а может быть, третия книга оных, к славе сего знаменитого государя, к чести народа и к удовлетворению всеобщего желания обстоятельнейших известий о Петре Великом.
И так паче всего к сему издаю я собранные мои анекдоты. Ежели ж мне удастся достичь желаемого предмета, то за сей труд припишется честь и благодарность потомкам, моим последователям. Я уже тем буду доволен, что их к тому побудил и дал повод к собранию столь драгоценных анекдотов и спасению их от скоропостижного их забвения.
Якоб фон Штелин
Царь Петр I, на 25 году от рождения своего, был опасно болен горячкою; когда уже не оставалось надежды к его выздоровлению и всем двором печаль овладела, в церквах же денно и нощно приносимы были за царя молитвы, то, по древнему обыкновению, явился судья преступников, чтоб спросить, не дать ли свободу девятерым разбойникам и убийцам, приговоренным к смерти, дабы они молили Бога о здравии царском. Как скоро Петр I сие услышал, то приказал судью позвать пред себя и повелел ему прочесть лист сих, к смерти приговоренных, и их преступления.
Потом сказал его величество прерывающимся голосом к уголовному судье: «Разве ты думаешь, что я прощением сих недостойных злодеев и нарушением правосудия сделаю доброе дело и побужду небо к продлению моей жизни? Или что Бог примет молитву сих богоотступных мошенников и убийц? Пойди сейчас и вели завтрашнего утра исполнить приговор над девятью преступниками. Я паче надеюсь, что Бог, таковым моим правосудием побужден будучи к милосердию, продлит жизнь мою и дарует мне здравие».
Приговор был на другой день исполнен, царю стало ежедневно становиться легче, и, спустя малое время, он совершенно выздоровел.
Известно сие от Петра Миллера, железного заводчика, который был в тот самый день при царском дворе в Москве.
Петр I, строитель всякого добра в России, который посещал все заводы и мастерские места и поощрял работников, приезжал также на Миллеров железный завод при реке Истие, что по Калужской дороге, в 90 верстах от Москвы. Там пробыл он однажды четыре недели и пил тамошнюю целительную воду, и, кроме ежедневных своих государственных дел, определил себе время не токмо, чтоб все тщательно исследовать и всему научиться, но и самому при варке и ковке железа трудиться, чтоб научиться ковать полосы.
Когда же он то понял, и в последний день своего там пребывания своеручно 18 пуд железа сковал и каждую полосу клеймом своим означил; при чем бывшие с ним придворные юнкеры и бояры долженствовали носить уголья, пригребать оные к горну, дуть в мехи и другие отправлять с его величеством работы. Прибыл он через несколько дней в Москву и к хозяину того завода Вернеру Миллеру, хвалил его распоряжения на заводе и спросил его, что там получает мастер выковать пуд полосного железа. «Алтын», – ответствовал Миллер.
«Хорошо, – продолжал царь, – потому и я заслужил 18 алтын и право имею от тебя их требовать». Вернер Миллер пошел тотчас к своему денежному ларцу и принес 18 червонцев, отсчитал их царю и сказал: «Такому работнику, как Ваше Величество, не можно меньше заплатить». Царь же, отсунув их назад, сказал: «Возьми свои червонцы: я не лучше прочих мастеров работал, заплати мне то, что ты обыкновенно платишь другим мастерам; я на то куплю себе пару новых башмаков, которые мне теперь же и нужны».
А как его величество уже однажды к башмакам своим приказал подшить подметки, которые и протоптались, то, взявши 18 алтын, поехал в ряды и в самом деле купил себе на оные пару башмаков, которые он, часто имея на ногах, в собраниях показывал и говаривал: «Я их с мозольми заслужил».
Примечание. Из числа сих, его величеством своеручно скованных железных полос, находится еще одна полоса с царским клеймом на Миллеровом железном заводе при означенной реке Истие, да еще другая, которую сей монарх в Олонпе при Ладожском озере сковал, сохраняется в Кунсткамере Санкт-Петербургской Академии наук.
Известно сие от него, Петра Миллера Вернерова, сына.
В особенном рассуждении о наименовании Великий, которое я в Санкт-Петербургских примечаниях 1740 или 41 году припечатал, обстоятельно изъяснено и с примерами предложено, что наименование Великий никакой государь, ниже герой после смерти своей о себе не подтвердил и с беспрекословным согласием всех народов до нынешних времен не удержал, как только тот, с которым случались следующие обстоятельства и который одарен был ниже означенными свойствами, как то: великим духом, природною остротою разумом, сильным желанием к произведению чего-нибудь великого; и который был окружаем великими опасностями и препонами, но который преодолевал великими и неутомимыми трудами, храбростию и постоянством, коими он приводил к концу свои намерения, отчего проистекала великая и всеобщая польза, которую через то государство получало.
В вышеупомянутом рассуждении ясно показано, что все сие точно в Петре Великом находилось и что он в том превзошел многих, приобретших прежде сего наименование Великого. Можно было бы в подробнейшей истории о Петре Великом весьма ясно показать, что единая его неустрашимость все препятствия преодолевала и его от многих очевидных опасностей спасала, а также во всех его великих предприятиях ему спомоществовала.
В доказательство сего предложу я здесь два особенные приключение, коих обстоятельства хотя различно рассказывают, но здесь оные так поставлены, как были произнесены устами очевидных и достоверных свидетелей.
Во время возмущения стрельцов, одна рота сих злобных тварей и с ними два офицера, Сикель и Соковнин, вознамерились умертвить Петра Великого. А чтоб удобнее сего государя в свои сети уловить, положили они зажечь посреди Москвы два соседственные дома. Поелику царь при всяком пожаре всегда являлся прежде тех, которые оный тушить долженствовали, то сговорившиеся хотели тотчас явиться на пожар, притвориться старающимися тушить, понемногу в сей тесноте окружить царя и неприметно его заколоть.
Наступил день ко исполнению сего неистового намерения: заклявшиеся, яко откровенные друзья, собрались обедать к Соковнину, а после стола пьянствовали до самой ночи. Каждый из них довольно нагрузил себя пивом, медом и вином. Между тем как прочие продолжали доставлять себе питьем мужество к исполнению сего проклятого предприятия, вышел на двор около осьмого часа времени один стрелец, которого как напитки, так и совесть обременяли. Другой, почувствовав такое ж движение, пошел тотчас за ним. Когда сии двое находились на дворе наедине, то сказал один другому:
– Я, брат, не знаю, что из етова будет. В том нет никакого сомнения, что нам будет худо. Можем ли мы честно из такой опасности освободиться?
– Так, брат, – ответствовал другой, – я совершенно держусь твоего мнения. Иного средства нет, как нам идти в Преображенское и открыть о том царю.
– Хорошо, – сказал первый, – но как нам вырваться от наших товарищей?
– Мы скажем, – ответствовал другой, – что пора перестать пить и разойтись по домам, ежели нам в полночь надобно исполнить наше предприятие.
Потом ударили они по рукам и вошли опять в собрание сих единомышленников, коим свое мнение и предложили. Все на то согласились и заключили тем, что, ежели кто хочет на несколько часов идти домой, тот может сходить, но обещание свое подтвердить рукою, чтоб непременно в полночь опять явиться; а прочие бы остались у Соковнина, пока домы загорятся и зачнут бить в набат.
Потом отправились сии двое от них и пошли прямо в Преображенское, где царь имел свое пребывание. Они сказали о себе одному царскому денщику, что желают говорить с царем. Царь, недоверяющийся уже им тогда, приказал их спросить, что они имеют донести. Они ответствовали, что того никому, как только самому его величеству, сказать не могут, для того что оно весьма важно и не терпит ни малейшего упущения времени. И так сей государь вышел в прихожую и приказал обоих стрельцов пред себя позвать.
Как скоро они к нему подошли, то бросились ниц на землю и говорили, что при сем приносят головы свои под меч, который они заслужили, вдавшись в измену против него с ротою их товарищей, которые все сидят у Соковницы и по заговору своему ожидают в полночь набатного колокола, чтобы тогда царя убить. Сей ужасный донос слушал храбрый царь с равнодушием и спросил их только, правду ли они говорят. «Точно так, – сказали оба стрельцы, – мы теперь в твоей власти, вот головы наши, пойдем только к ним, то застанем их вместе до самой полуночи».
Доносителей задержали в Преображенском под стражею, а как было тогда около восьми часов вечера, то царь тотчас написал записку к капитану лейб-гвардии Преображенского полку Лопухину (иначе Липунов), приказывая ему в оный собрать тихим образом всю свою роту и к одиннадцатому часу пред полуночью таким образом идти к дому Соковнина, чтоб в одиннадцать часов оный был весь окружен и все, в нем находящиеся, были перехвачены. Капитан верно исполнил сей приказ.
А как царь думал, что в записке своей означил десятый час, то и чаял, что в половину одиннадцатого часа все застанет у Соковнина в доме исполнено. И потому, по прошествии десяти часов, сел он, не мешкая, в одноколку и с одним только денщиком прямо поехал к Соковнину в дом. Прибыл туда в половине 11 часа; немало удивился, что ни у ворот, ниже вокруг дома не застал ни одного солдата отряженной гвардейской роты. Невзирая на сие, подумал он, что караул расставлен на дворе.
Нимало не размышляя, въехал он прямо на двор, вышел у крыльца из одноколки и с одним денщиком вошел в покои. Все тотчас в доме восшумели, когда узнали, что приехал царь. Петр Великий с неустрашимым духом вошел в покой и застал Соковнина, Сикеля и всю роту заклявшихся изменников, которые тотчас встали и изъявили своему государю должное свое почтение. Царь ласково им поклонился и сказал, что мимоездом, усмотрев у них великий свет, подумал, что необходимо у хозяина есть гости; а как ему еще рано показалось лечь спать, то и заехал в сих мыслях посетить хозяина.
В сколь великом изумлении и гневе царь внутренно ни был на отряженного капитана, который, по его мнению, в определенное время приказа не исполнил; однако он скрывал свои внутренние движения. Он довольно времени там просидел, а изменники его пред ним стояли и выпили круговую за царское здравие, на что он им храбро отблагодарил. Между тем кивнул один стрелец Соковнину и сказал ему тихо: «Пора брать!» Соковнин, не хотевший еще открыть проклятого своего предприятия, так же ему мигнувши, сказал в ответ: «Еще нет». Как он сие говорил, вскочил в полной ярости Петр Великий и, ударив Соковнина кулаком в лицо, так что он упал, произнес громким голосом: «Ежели тебе еще не пора, сукин сын, то мне теперь пора. Свяжите сих скотов!»
В ту же самую минуту, по ударении 11 часов, вошел в покой гвардейский капитан, а за ним солдаты его роты, с ружьями и примкнутыми штыками. Прочие изменники тотчас пали на колени и повинились. Царь приказал, чтоб изменники сами себя вязали, что и исполнено было.
Потом оборотился царь к гвардейскому капитану и в первом жару дал ему пощечину, упрекнув его при том, что он в означенный час не являлся. Сей оправдался письменным его повелением, которое он, вынув из кармана, показал царю; царь же, усмотрев свою ошибку, что он одним часом описался, поцеловал капитана в чело, признал его усердным офицером и отдал ему под стражу связанных изменников. Какое же изменники получили воздаяние, известно свету.
Известно сие от Ивана Юрьевича Трубецкого, генерал-фельдмаршала, который был тогда капитаном лейб-гвардии Преображенского полку и царем был отряжен к казни сих изменщиков.
Краткое время, которое Петр Великий при первом своем путешествии по чужим краям в Лондоне препроводил, сделалось, как он сам сказывал, от множества достопамятных вещей, которых он до сего не видывал, еще короче.
Он обыкновенно ездил и, прохаживаясь весь день, по возвращении вечером на свою квартиру, все, что днем ни усмотрел и заметил, повторял с теми, которые с ним были, притом так же часто говаривал, что ему надлежит стараться еще однажды побывать в Англии, ибо он там много находил нужного для себя научиться.
Как он однажды препроводил утро в рассматривании великолепного строения и превосходного расположения Греенвигского гошпиталя, в котором призреваемы были инвалидные матросы, и обедал при дворе с королем Виллиамом[184]; в то же время спросил его король, как ему нравится Греенвигский гошпиталь? «Чрезвычайно, – ответствовал царь, – да при том столько он мне нравится, что я бы советовал вашему величеству занять его вашим дворцом, а дворец ваш опорожнить живущим там матросам».
Известно сие от английского резидента Рондо в Петербурге.
Как Петр Великий в 1704 году, по долговременной осаде, взял наконец приступом город Нарву, то разъяренные российские воины не прежде могли быть удержаны от грабежа, пока сам монарх с обнаженною в руке саблею к ним не ворвался, некоторых порубил и, отвлекши от сей ярости, в прежний привел порядок. Потом пошел он в замок, где пред него был приведен пленный шведский комендант Горн.
Он в первом гневе дал ему пощечину и сказал ему: «Ты, ты один виною многой напрасно пролитой крови, и давно бы тебе надлежало выставить белое знамя, когда ты ниже вспомогательного войска, ниже другого средства ко спасению города ожидать не мог». Тогда ударил он окровавленною еще своею саблею по столу и в гневе сказал сии слова: «Смотри мою омоченную не в крови шведов, но россиян шпагу, коею укротил я собственных своих воинов от грабежа внутри города, чтоб бедных жителей спасти от той самой смерти, которой в жертву безрассудное твое упорство их предало».
Известно сие от Анны Ивановны Крамер, которая во время осады жила с родителями своими в Нарве; оттуда пленницею взята в Россию и, по многих жизни переменах, была в царском дворе придворною фрейлиною.
Известно свету, что сей великий монарх совершенно преобразил Российское государство, и через восстановление регулярного войска и сильного флота, через введение лучшего воспитания благородного юношества, учреждения многих для своего государства, в рассуждении внешней торговли, доходных заводов, художеств и наук, оное очевидно вознес, соседственным государствам сделался страшным и во всех частях света знаменитым; известно и то, сколько печалей нанес ему сын его, Алексей Петрович, которого он почел неспособным наследовать и совершенно от престола отрешил.
И так он по одной любви к отечеству исключил родного своего сына из наследства, чтоб никогда при его восшествии не рушилось сие сильное и великолепное здание государствен-ного его правления, и просвещенные оного жители не ввергнулись бы паки в прежний мрак неведения.
Еще ужаснейший опыт его таковой его ревностной любви к отечеству, в пользу коего сей отец отечества сам собою хотел пожертвовать, явствует из его в кабинете находящегося своеручного письма к Правительствующему Сенату в Петербург из лагеря при Пруте 1711 года, когда он со своею армиею по несчастному случаю был 100 000 турками окружен и все дороги к привозу съестных припасов были ему пресечены.
В сих опасных и почти отчаянных обстоятельствах, от коих он, по-видимому, никоим образом спасти себя не мог, кроме особенного чуда, пекся он больше об отечестве, нежели о себе самом, невзирая на то что он видел пред собою очевидную опасность либо попасться в турецкий плен, или совсем погибнуть.
Как неустрашимый сей герой усмотрел минуту сей крайней и неизбежимой опасности и почитал себя и войско свое погибшими, сел он спокойно в своей палатке, написал письмо, запечатал оное, позвал одного из вернейших своих офицеров и спросил его, подлинно ли он надеется пройти сквозь турецкое войско, чтоб свезти в Петербург депешу?
Офицер, которому все дороги и лазеи того места были известны, уверял царя, что он совершенно надеется пробраться и чтоб его величество на то положился, что он благополучно достигнет Петербурга. Положась на такое уверение, вручил ему царь своеручное свое письмо с надписью: «Правительствующему Сенату в Санкт-Петербурге», поцеловал его в чело и только сказал: «Ступай теперь с Богом!»
Офицер в десятый день благополучно прибыл в Петербург и вручил письмо в полном собрании Сената. Но сколь ужаснулись собравшиеся сенаторы, как, запершись в одну комнату и по прочтении своеручного царского письма, нашли следующее в оном содержание: «Уведомляю вас через сие, что я со всем моим войском, без нашей вины и ошибки, но токмо через ложнополученное известие вчетверо сильнейшим турецким войском таким образом окружен, и столько дороги к привозу провианта пресечены, что я без особенной Божеской помощи ничего, как совершенное наше истребление или турецкий плен, предусматриваю.
Ежели ж случится последнее, то не должны вы меня почитать царем, вашим государем и ничего не исполнять, что бы до ваших рук ни дошло, хотя бы то было и своеручное мое повеление, покамест не увидите меня самолично. Ежели же я погибну и вы получите верное известие о моей Смерти, то изберите между собою достойнейшего моим преемником».
Подлинник внесенного здесь письма находится в кабинете Петра Великого при Санкт-Петербургском Императорском дворе между многими другими своеручными письмами сего монарха и был многим знатным особам показыван от приставленного к сему кабинету надзирателя, князя Михайлы Михайловича Щербатова.
Известно сие от князя Михайлы Михайловича Щербатова, камергера и герольдмейстера Правительствующего Сената.
Во всех печатных, хотя и много несовершенных описаниях жизни Петра Великого обстоятельно видно, сколь великое желание еще с юношества своего к кораблестроению сей монарх оказывал. В оных и то упомянуто, каким благоразумием сопровождаема была его любовь к мореплаванию и сколь удивительно желание сие вместе с летами в нем возросло.
Свету известно, что он с величайшим прилежанием изучился в Саардаме кораблестроению и не скучал тягчайшими трудами, ежедневно являлся на рассвете на работу с своим топором и прочими орудиями, подобно простому плотнику, но, что охота сия и на престоле его не оставляла и что сей государь находил приятнейшие часы вечером в собрании искусных мореплавателей и кораблестроителей, слышал я от многих россиян и иностранцев, которые имели счастие знать сего великого государя самолично. Из слышанного мною вношу я здесь только несколько обстоятельств, которые нигде еще в печати не находятся.
Поелику Петр Великий не слишком был щедр в рассуждении великого жалованья и высоких чинов, то так же и кораблестроители, коих в его время довольное число из голландцев и англичан в Петербурге находилось, при знатном своем жалованье не больше имели капитанского чина.
Желание возвыситься чином подало им в голову веселую догадку. Монарх сей, как уже выше объявлено, охотно видел их около себя. Когда он где по вечерам бывал в гостях, то долженствовал хозяин большую часть из них также пригласить, чтоб служить царю к приятному препровождению времени и разговаривать о любимейшей ему вещи.
Они долженствовали ближе прочих к нему сидеть, и тогда он столько откровенно с ними обходился, как будто бы он им был равный. Однажды случилось им опять быть с царем на вечеринке, где находилось великое собрание. По условию их, они стояли и не хотели садиться. Царь много раз им повторял «сядьте», но они всякий раз, сделав низкий поклон, пребывали по-прежнему. Наконец Петр Великий, не приметив еще причины сей необыкновенной учтивости, спросил их: что бы это значило, что никто не садится, и разве они не слышали, что он уже несколько раз то повторял.
Тогда один из них начал говорить: «Ваше величество, не извольте прогневаться, что мы не осмеливаемся сесть в присутствии нашего государя, равняясь едва чином напольному капитану, да и самые штаб-офицеры за вами стоят, и только генералы с бригадирами имеют позволение садиться с вашим величеством».
Царь, догадавшись, что они через сие понимают, усмехнулся и сказал: «Хорошо! На сей раз садитесь, я на сих днях поговорю в Сенате о ваших чинах». Потом, вынув свою памятную книжку, записал несколько слов, и, спустя немного дней, вышло из Сената императорское повеление, в силу которого даны были кораблестроителям, смотря по различию заслуг, бригадирские, полковничьи и майорские чины.
Известно сие от генерал-экипажмейстера Бруинса.
[…] Когда его величество опять однажды был там (в Кунсткамере. – Е. Н.) с генерал-прокурором Павлом Ивановичем Ягужинским, некоторыми сенаторами и другими знатными особами, то показал он им систематическое установление натурального своего зала и Руйшева неоцененного анатомического сокровища, изъяснил им, сколько то собрание полезно к познанию человеческого тела, коему необходимо научаться должны врачи для основательнейшего лечения больных.
Тогда приказал его величество находящемуся под начальством лейб-медика Арескина, главного оной Кунсткамеры надзирателя, библиотекарю Шумахеру: поелику все в надлежащем порядке учреждено и расставлено, то бы впредь всякого желающего оную посмотреть пускать и водить, показывая и изъясняя вещи.
Ягужинский превозносил сие милостивое монаршее намерение пристойными похвалами, но, по безрассудной ревности к корысти, прибавил к тому сие предложение, что поелику к содержанию столь драгоценных редкостей ежегодно требуется некоторое иждивение, то мог бы каждый, желающий оные, посмотреть, давать за вход по одному или два рубля, отчего бы собрана была такая сумма, из коей бы можно тратить на содержание и умножение сих редкостей.
Царь, желавший всякими способами привлечь подданных своих к познанию натуры и художеств, прервал тотчас речь Ягужинскому и сказал: «Павел Иванович, ты глупо рассуждаешь! И предложение твое более бы воспрепятствовало, а не споспешествовало моему намерению.
Ибо кому была бы нужда в иностранных моих редкостях и кто бы пожелал видеть мою Кунсткамеру, если б ему за то надлежало еще платить деньги? Но я при том еще приказываю, чтоб не токмо каждого безденежно впускать, но сверх того всегда, как ни соберется общество, угощать их на мой счет чашкою кофе, стаканом вина, рюмкою водки и другими напитками в самых Кунсткамерах».
В силу сего высочайшего повеления определено было библиотекарю сверх сего годового жалованья еще 400 рублев в год на помянутое угощение, еще при царствовании императрицы Анна Иоанновны часто я видел, что знатнейшие посетители в Кунсткамере были угощаемы кофеем, венгерским вином, цукербротом и, смотря по годовому времени, разными плодами; посредственных же людей водил туда суббиблиотекарь или другой служитель, которому все вещи известны были, и с кратким изъяснением показывал им все редкости.
Известно сие от господина советника Шумахера, библиотекаря и главного надзирателя натуральной и художественной камеры.
В противность обыкновения всех владетельных дворов, Петр Великий не имел у себя егерского корпуса, но только несколько придворных охотников, которые через свою стрельбу долженствовали доставлять дичь в императорскую поварню, а при Адмиралтействе двух лесничих, которых должность была означать строевой лес в близ находящейся роще и иметь о приращении дубов особенное попечение.
Он никаких звериных травлей терпеть не мог. Как он однажды находился в некотором подмосковном селе и был прошен одним соседственным дворянином, который был великий охотник, на приготовленные для его величества веселости, охоту и медвежью травлю, сделал он ему дружеский отказ, объявя: «Гоняйте, сколько вам угодно диких зверей, сие не составляет мне никакой веселости, покамест я вне государства дерзкого моего врага гнать, а внутри оного диких и упорных подданных укрощать имею».
Известно сие от гофмаршала Дмитрия Андреевича Шепелева.
Неподалеку от помянутой недавно церкви и близ берега Невы стояло старое высокое дерево ольха. О нем пророчествовал один мужик в Петербурге, что в ближайшем сентябре месяце столь великое будет потопление города, что вода превысит помянутое дерево. Разнесшийся о том слух привел жителей сего нового города, а особливо легковерную чернь, в страх и беспокойство. Многие из них делали приуготовление, каким образом в таком случае спастись.
Некоторые наперед уже скрылись в ближайшие и вышние места, лежащие около Петербурга: в Павловское, Красное село, Дудергов и проч. Как скоро сей слух дошел до царя, то тотчас возымел он подозрение, что от кого-нибудь из знатных людей, недовольных новым его городом, а особливо от тех выдумано и рассеяно, которые с неудовольствием видели, что он пребыванием своим избрал Петербург, или какими-нибудь простолюдинами, которые против своей воли из старых своих селений в сие место были переселены.
Петр Великий, полюбивший свой новый город Петербург и изобильные водами его места, весьма от того рассердился, велел то дерево срубить и всячески старался узнать виновника сей ложной и страшной молвы. Многие сотни людей были допрошены, и каждый долженствовал объявить, от кого слышал. По долговременном старании открыл он ложного сего пророка в одном российском мужике, который, как и многие ему равные, был издалека переселен в одну финскую деревню и неохотно в сей стране жил.
Его обличили, что он был вредный виновник сего ложного слуха. Петр Великий велел его до исхода сентября держать под стражею в крепости, а когда прошел срок и потопа не бывало, то определил он публиковать, чтоб из каждого дому кто-нибудь в означенный день и час явился на место срубленного дерева. Там велел он сему ложному пророку на довольно возвышенном эшафоте дать пятьдесят ударов кнутом и потом пред всем народом прочесть изрядное увещание от обмана и столь глупого и вредного суеверия.
Известно сие от господина Кенига, бывшего тогдашним секретарем барона Шафирова, а потом от советника коммерции при дворе голштинского герцога.
Известно, что Петра Великого единое ненасытимое его желание к познанию того, что для государства выгодно, сопровождало не токмо ко всем заводам, мануфактурам и рукомеслам, которые заслуживали внимание, но он даже не стыдился в деревнях и городах посещать и ободрять низкого состояния людей, которые с желаемым успехом отправляли свое рукомесло. Как он однажды находился в Архангельске при реке Двине и увидел довольное число барок и прочих сему подобных простых судов: на месте стоящих, то спросил он, какие бы то были суда и откуда они?
На сие было донесено царю, что это мужики и простолюдины из Холмогор, везущие в город разный товар для продажи. Сим не был он доволен, но хотел сам с ними разговаривать. И так пошел он к ним и усмотрел, что большая часть помянутых повозок были нагружены горшками и прочею глиняною посудою. Между тем как он старался все пересмотреть и для того ходил по судам, то нечаянно под сим государем переломилась доска, так что он упал в нагруженное горшками судно, и хотя себе никакого не причинил вреда, но горшечнику довольно сделал убытку.
Горшечник, которому сие судно с грузом принадлежало, посмотрев на разбитый свой товар, почесал голову и с простоты сказал царю: «Батюшка, теперь я не много денег с рынка домой привезу». – «Сколько ж думал ты домой привезти?» – спросил царь. «Да ежели б все было благополучно, – продолжал мужик, – то бы алтын с 46 или бы и больше выручил». Потом сей монарх вынул из кармана червонец, подал его мужику и сказал: «Вот тебе те деньги, которые ты выручить надеялся, сколько тебе сие приятно, столько и с моей стороны приятно мне, что ты после не можешь назвать меня причиною твоего несчастия».
Известно сие от профессора Ломоносова, уроженца Колмогор, которому отец его, бывший тогда при сем случае, пересказывал.
Царь Петр Великий, заседая однажды в Сенате, услышал о разных грабительствах, случившихся за несколько дней, в великое пришел негодование и во гневе сказал сии слова: «Клянусь Богом, что я наконец прерву проклятое сие воровство». Потом, взглянув на тогдашнего генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского, сказал ему: «Павел Иванович! Напиши сейчас от моего имени генеральный указ во все государство, что, ежели кто и столько украдет, чего будет стоить петля, тот без дальних допросов будет повешен».
Генерал-прокурор, который уже взял в руки перо, помешкал еще по выслушании сего строгого повеления и со удивлением говорил царю: «Петр Алексеевич! Помысли о следствиях такого указа». – «Пиши, – подтвердил царь, – как я тебе сказал». Ягужинский, еще не писав, со смехом повторил монарху: «Всемилостивейший государь! Разве вы хотите остаться императором без подданных. Мы все воруем, только с тем различием, что один более другого». Царь, слушавший сии слова в задумчивости, начал шуточному сему замыслу смеяться и без дальнего повеления оное оставил.
Известно сие от министра кабинета графа Ягужинского.
Между Нарвою и Ревелем, около 100 верст от последнего города, стоит на большой дороге изрядная каменная церковь, именуемая Гальяль. В оной находится с древних шведских времен, между прочими гробницами прежних владетелей тамошних поместий, так же одна, в которой 1632 года похоронены две девицы фон Гроот, которые и доныне нетленными пребывают.
Проезжая сие место 1752 года июля месяца, велел я поднять камень и нашел сии два тела в вышеописанном состоянии: нагими, иссохшими, желтоватыми и без малейшего духа. Кожа по всему телу казалась подобною искусством выделанной и натянутой свиной коже, и, будучи пальцем, или палкою в живот вогнута, распрямлялась с сильною упругостию; внутренности же иссохшими быть долженствуют, ибо я, осязая их, ни малейшего знаку оных не нашел.
Пономарь, отваливший мне сей гробницы камень, рассказал при сем случае, что Петр Великий во время шведской войны, приступая к Ревелю и расположась своим станом, стоял несколько недель близ сего места. Он, услыша о сих нетленных телах, не хотел тому поверить, а чтоб исследовать самому истину сей вещи, повелел царь принести сии тела в свой стан, прилежно их рассмотрел и изъяснил находившимся при нем генералам естественные причины сего неповреждения; спустя несколько дней приказал он их обратно отнести в их гробницу и нимало тому не удивляться.
Сей великий монарх, являвший всегда истинное почтение и любовь к Карлу XII, во время Ништадтского мира (1721) иногда говаривал: «Я предлагал с моей стороны любезному моему брату Карлу два мира: первый был мир необходимый, а другой был великодушный мир, которые он мне оба отказал. Теперь же в третий раз должен со мною заключить принужденный или постыдный мир».
Когда же великодушный наш император получил известие о смерти Карла XII, воспоследовавшей в 1718 году при Фридрихсгаме, потекли из очей его слезы, а как он приметил, что оные по лицу его катятся, то отворотился от окружавших его и отер их платком, потом сказал смущенным голосом: «Ах, брат Карл, сколько я о тебе сожалею!»
Известно сие от тайного советника Веселовского.
Поелику Петр Великий никакой карточной игры не знал, как только голландской гравиас, то и сию игру редко употреблял; напротив того, в вечерних собраниях охотнее разговаривал с морскими офицерами, кораблестроителями и купцами, нежели любил играть, то игра мало при дворе была в употреблении. Хотя в армии и флоте не совершенно была оная запрещена, однако не выше рубля позволено было проигрывать.
Кто больше проигрывал, тот по Воинскому царскому уставу не повинен был платить, а ежели фискал о том доносил, то те, которые больше рубля проигрывали, подвергались суду и наказанию. Сей монарх говаривал об игроках: «Они либо не имеют вкуса в полезных вещах, коими бы могли заниматься, либо имеют намерение своих товарищей лишать денег».
Известно сие от генерал-экипажмейстера Бруинса.
Петр Великий от юности своя, казалось, как бы природное имел отвращение от водяной езды. Сему в доказательство служить может то, что, когда предлагали ему кататься по реке Яузе в Москве или по какому пруду, никогда не могли его на то согласить, и он всегда отказывался страхом; но не можно довольно надивиться, что он в последующее время получил величайшую и почти чрезмерную страсть к плаванию по сей непостоянной стихии до самой своей кончины.
Страсть сия возросла в нем до величайшей отважности, которая часто угрожала ему очевидною опасностию и лишением жизни, однако же, имея он твердую доверенность на кормчее искусство, ни малейшей не показывал боязни. Когда он таким образом боролся с разъяренными морскими волнами и сражался с жесточайшею бурею, лишавшею отважности лучших его мореходцев, то сей истинный наш морской герой никогда не вдавался в отчаяние, но паче вперял в них мужество сими словами: «Не бойтеся, царь Петр не потонет. Слыхано ль когда, чтоб российский царь погиб в воде?»
Некогда пригласил сей монарх иностранных министров, при его дворе в Петербурге находившихся, прогуляться с ним в Кронштадт, где хотел им показать некоторые новые застройки и часть своего к выезду готового флота. Они сели с его величеством на голландский буйер, которым сам царь правил. Когда они несколько за половину дороги переплыли и находились уже в Финском заливе, поднялся сильный полуденный и противный им ветер.
Царь усмотрел также на отдаленном горизонте туман и подымающуюся тучу, из коей возвестил своим спутникам скорую бурю. Большая часть из сих пришли от того в вящий страх, когда увидели, что неробкий штурман, Петр Великий, приказал спустить половину парусов и матросам повелевал быть в готовности.
Некоторые из сего собрания, увидев, что буйер от противного ветра больше назад к Петербургу, нежели вперед подавался и для единственного лавирования был от царя то на ту, то на другую сторону уклоняем, предложили они его величеству: не лучше ли возвратиться в Петербург или, по крайней мере, бежать в близ находящуюся Петергофскую пристань? Но царь, не почитавший еще опасность столь великою, как они, и вменявший возвращение в стыд, ответствовал им только: «Не бойся!» Между тем приближилось исполнение предвещания сего искусного штурмана.
Буря с страшным громом явилась в полном своем свирепстве, волны бились через борт, и буйер казался скоро быть погруженным в морскую бездну. Опасность сделалась явною, а страх смерти на лицах всех был виден, выключая Петра Великого и его морских служителей. Поелику он занимался рулем и кричал все к матросам, то и не внимал частым просьбам иностранных послов, пока наконец один из них, господин К. П. и X. С. Л. к нему подошел и, преисполненный страхом, не в шутку уже ему сказал: «Ради Бога, прошу Вашего Величества воротиться в Петербург или плыть к ближайшему берегу Петергофа: подумайте, что я от моего короля не для того прислан в Россию, чтоб здесь утонуть. Ежели я здесь погибну, как то уже и ясно предусматриваю, то Ваше Величество будете ответствовать за то моему двору».
Невзирая на величайшую опасность, едва мог царь удержаться от смеха и равнодушно ответствовал посланнику: «Не бойся, господин фон Л., ежели вы утонете, то и мы все потонем, а тогда вашему двору не на ком будет уже и взыскивать».
Между тем искусный штурман Петр, усмотрев сам невозможность далее противиться буре и волнам, лавировал к стороне, благополучно уклонился от бури и, наконец, вбежал в пристань увеселительного своего замка Петергофа. Там оживотворил он своих спутников ужином и довольным числом бокалов венгерского вина, а потом дал им наступающею ночью там успокоиться.
На рассвете поехал он один на своем буйере в Кронштадт и послал оттуда несколько шлюпок с надежными людьми за своими гостями.
Известно сие от экипажмейстера Брюинса.